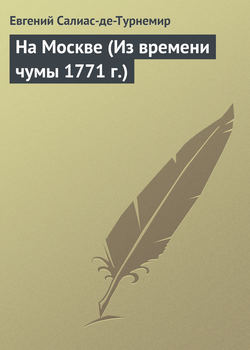Читать книгу На Москве (Из времени чумы 1771 г.) - Евгений Салиас-де-Турнемир - Страница 22
Часть первая
XXIV
ОглавлениеВ то время, как Марья Абрамовна выпытывала всю подноготную от Ули, Абрам сидел в горнице своего первого друга и наставника Ивана Дмитриева.
С тех пор, что бабушка съездила к Амвросию и окончательно перетолковала об его поступлении в монастырь, смущенный Абрам почти безвыходно сидел у Дмитриева. Они оба нескончаемо советовались о том, что делать.
Конечно, Иван Дмитриев советовал баричу прямо и резко разрешить вопрос простым неповиновением.
– Скажите: не хочу! – говорил он баричу. – Хочу, мол, поступить в гвардию!.. Ехать в Петербург!.. Я уж бегал не раз к законникам, расспрашивал… Все говорят, что силком вас не только бабушка, но и отец родной в монастырь отдать не может.
Но этому совету недоросль последовать не мог. Да и в речах Ивана Дмитриева слышно было сомнение. Открытое противодействие Марье Абрамовне было все-таки более или менее опасно как для барича, так и для самого Ивана Дмитриева.
После многих бесед и лакей, и барич решили повиноваться беспрекословно, надеясь на то, что бабушка умрет, и тогда он сбросит рясу послушника монастырского и наденет капральский мундир.
Рассчитывать на смерть бодрой и моложавой Марьи Абрамовны было, конечно, не очень утешительно. Она могла прожить еще долго. И главная, хотя смутная надежда как дворового, так и его воспитанника зиждилась на страсти веселой и легкомысленной старухи к бойким лошадям.
– Авось, – говорил Иван Дмитриев, – вывернут ее где кони на голыши мостовой и расшибут башку на четыре части.
При этом, как часто случалось, Иван Дмитриев пугал барича прямым и грубым предложением.
– Перекинуться бы вам словечком с Акимом-кучером. Пообещать вольную да рублишек с тысячу! Он бы тогда бабушку-то как-нибудь растрепал по Москве.
– Что ты! что ты! – замахал руками Абрам. – Ты иной раз такое скажешь, что дрожь берет… Нешто этакое дело возможно?!
– А что же? Вы в этом будете неповинны. Он все на себя примет. Да и ни у кого и догадки не будет. Скажут – лошади разбили; а Аким болтать не станет, что магарыч от вас получил.
Абрам стал доказывать Дмитриеву, что если он наймет Акима, то главная вина и грех падут все-таки на него.
– Да грех-то грехом, – рассуждал закоснелый холоп, – я о грехе не говорю! Я собственно про закон говорю! Закону, в случае догадки, дело будет до Акима, а не до вас.
– Бог с ней! – заключал Абрам всякую такую беседу о бабушке. – Пускай живет и своей смертью умирает. Лишь бы только они не вздумали меня из послушников совсем монахом делать.
– Ну, это пустое. Этого, говорю вам, никто поделать не может. Тогда мы к самой императрице подадим жалобу. Я хоть сам в Питер пешком пойду и вашу просьбу государыне подам. Да этого они и не посмеют.
Под словом «они» и Дмитриев, и Абрам разумели триумвират – бабушку, Кейнмана и Серапиона; Анну Захаровну они исключали из числа заговорщиков против счастья Абрама, так как барской барыне было, в сущности, все на свете равно чуждо, что не касалось до ее мечтаний о женихе.
Подобного рода беседы и даже споры между дядькой-наставником и баричем постепенно, незаметно для обоих все-таки действовали на недоросля.
Абрам выезжал мало, почти не бывал в гостях и не имел сверстников, друзей и товарищей для каких-либо забав и развлечений. Бабушка всегда порхала одна по знакомым и никогда не брала его с собой. Абрам одевался по моде, богато и изящно, но затаскивал свои дорогие кафтаны, камзолы и кружева преимущественно по девичьим и передним.
Между обитателями большого дома у Абрама тоже не было сверстников, а был один близкий человек – гроза всех этих обитателей – Иван Дмитриев, грубый, дерзкий, не дававший спуску никому. Единственное существо, к которому Иван Дмитриев относился и сердечно, и отчасти даже почтительно, был молодой барин. Остальные обитатели дома были для него как бы существа низшего разбора. Одних он ненавидел, других он презирал, к третьим относился как к неодушевленным предметам и даже не разговаривал с ними никогда, не отвечал на их вопросы.
Трудно было решить: хороший ли человек, но изломанный судьбой был этот дворовый Ромодановых, или злой и уже от природы с дурными наклонностями. Он, однако, уподоблялся самой смирной лошади, выпущенной на волю без узды. Самая заезженная кляча в этом случае начинает зря скакать, тыкаться в стены лбом и лягаться во все стороны. Иван Дмитриев, которому старая барыня спускала все без исключения и которого избаловала своим потворством и поблажкой, был ленив, груб, неблагодарен и вдобавок совершенно недоволен своей судьбой и своим положеньем. Он был крепостной, но жил и действовал как вольный, делал, что хотел, не повинуясь никому и не имея даже никакого определенного занятия в доме. В то же время все то, что мерещилось его честолюбию и чего желалось ему втайне, было совершенно невозможно как крепостному. Имея свои деньги, полученные по завещанию от покойного барина, он давно мечтал сделаться купцом, быть не Ванькой-холопом, а быть: «ваше степенство». Но старая барыня ни за что на свете не хотела отпустить его на волю.
Тайна странного положения Дмитриева в доме, этих странных отношений между барыней и дворовым была известна лишь им двум и отчасти барской барыне Анне Захаровне. Источник всего терялся в темной истории, случившейся двадцать лет назад вскоре после рождения на свет Абрама и смерти молодой барыни, его матери. Почти с того времени старый барин Ромоданов особенно стал любить и баловать Дмитриева, включил его в свое завещанье, оставил ему пятьсот рублей в личное распоряжение, но в то же время, умирая (чего Дмитриев не знал), строго-настрого заказал жене ни за что не отпускать этого Дмитриева на волю.
– Болтать будет – про что знает! – сказал боярин.
И старый заезженный конь без узды, т. е. крепостной холоп, распущенный, избалованный, ленивый, завистливый, раздражительный, был в тягость всем в доме и в тягость самому себе. Только один Абрам, по-видимому, любил, а в сущности, только привык к Дмитриеву, а лакей, со своей стороны, тоже, по-видимому, любил барича, а в сущности, считал его в будущем якорем спасения для своих честолюбивых замыслов. Барич, наследовав от бабушки, мог его со временем сделать вольным купцом – одним почерком пера.
Беседы Дмитриева с Абрамом, частые, долгие и откровенные до цинизма, имели, по счастью, не слишком большое влияние на молодого барина; иначе он давно бы стал негодяем. В сущности, Дмитриев воспитывал барича – и воспитал. Теперь молодой недоросль был уже отчасти на ногах, отчасти самостоятелен, и результат воспитания был незамысловатый. Все на свете сводилось к одному правилу: что богатому и родовитому барину должно быть все на свете – трын-трава! И во всем ему должно быть – море по колено!
– Вырастите и живите в свое удовольствие! – говаривал Дмитриев. – Хотите вы Ивана Великого на сторону свернуть… Ну и старайтесь. И гляди – свернете.
Иван Дмитриев был смолоду красив и большой любезник и ухаживатель за прекрасным полом и во дворе, и в околотке. Когда Абраму было еще только двенадцать лет, Дмитриев поверял уж ему все свои сердечные тайны, рассказывал свои любовные похождения, иногда ужасные, показывал ему на улице, в церкви, на гулянье, иногда даже у себя, своих любезных и знакомил с ними Абрама. Водил его еще ребенком с собой в гости к этим женщинам и показывал ему своих детей, прижитых таким образом на стороне. И Абраму еще не минуло полных шестнадцати лет, когда он вдруг сделался соперником учителя-лакея и, отвоевав у Дмитриева одну уже пожилую его любезную, стал сам ее возлюбленным.
Дмитриеву это очень понравилось!
Теперь роли переменились: Абрам стал дон-Жуаном первой руки и постоянно поверял свои сердечные тайны Дмитриеву, и лакей с удовольствием исполнял роль Лепорелло.
Все это было известно Лебяжьевой; но до нее главным образом касалось содержать в порядке и чистоте не сердце и душу барича, а его белье, его платье и его горницу.
До бабушки не касалось ни то, ни другое. Кроме дядьки Дмитриева и барской барыни, были еще два лица, входившие по обязанности в соприкосновение с душой и разумом молодого барина.
Это были два учителя – немец Кейнман и дьячок с Остоженки с такой мудреной фамилией, что никто в доме не мог ее запомнить.
Первый – полу-учитель, полудоктор, усерднее лечил и услаждал беседами Марью Абрамовну, нежели учил барича. Дмитриев давно уже убедил питомца, что отношения немца с его бабушкой – дело нечистое. Дмитриев знал, что это вздор и клевета, но считал нужным и выгодным вселять в Абрама неприязнь и к учителю и к бабушке. Дьячок с букварем, псалтырем, с указкой и с книжками, одна грязнее и глупее другой, сильно зашибал, очень любил «монаха», как называл он косушку вина и часто являлся он к барину на урок в таком виде, что лыка не вязал и, сидя за столом, кивал носом, пьяно и глупо хихикал без причины или вдруг принимался горько плакать. Во всяком случае, он служил для Абрама неисчерпаемым источником для всяких грубых шуток, потех и затей.
Теперь уже, одолев давно букварь и умея кой-как писать и читать, Абрам занимался разными науками с Кейнманом. Названия наук были разные, и некоторые очень мудреные, но всякий урок раза два в неделю поселял в ученике познания, касавшиеся исключительно или географии Прибалтийского края и отчасти Финляндии, или же познания в анатомии и в фармакологии. Абрам знал наизусть все города и городки около Риги, Митавы и Ревеля, отечества Кейнмана, и знал отлично, где у человека печень, сердце, какая разница между артерией и веной.