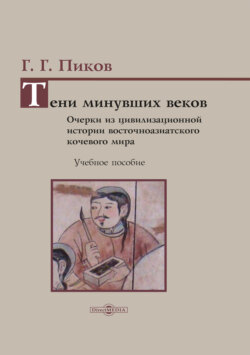Читать книгу Тени минувших веков. Очерки из цивилизационной истории восточноазиатского кочевого мира - Геннадий Геннадьевич Пиков, Г. Г. Пиков - Страница 6
Часть I
Методологические, историографические и исторические аспекты
3. Кочевая империя как феномен истории евразийской кочевой цивилизации
ОглавлениеТермин «кочевые империи» сравнительно молод, но появился он как закономерный результат многолетних споров и размышлений о происхождении, развитии и месте в мировой истории кочевых народов.
Как уже было сказано, империя, – это не просто форма государства, а особая его стадия, для которой характерно наличие преимущественно аграрной экономики («феодализм»). «Империи» воспринимаются как центр – «orbis terrarum». Так трактуется не только классическая Римская империя, но и различные средневековые имперские образования. По мнению Григория Турского, Византия – это мировая держава, имеющая свои интересы во всех концах христианского мира и способная «побуждать» (inpellentibus missis imperiabilus) местных правителей подчиняться имперским требованиям. Византийский император, каролингские правители часто именуются «отцами», которые проявляют «отеческую заботу» обо всех народах и людях. Император как бы воспитывает своих сыновей – правителей подвластных территорий и готовит их к самостоятельной жизни. Именно в «средние века» имперская идея переживает свой золотой век, поскольку только в этот период существуют те факторы, которые обусловили существование такого рода государства (слаборазвитая экономика, решающая роль земледелия или скотоводства, особое значение насилия как второго после аграрных отношений «средства» решения экономических и социальных проблем, этносы, пестрота экономик, языков, культур, необходимость сопротивления культурному и военному натиску извне, четкое оформление цивилизационного ареала). Империя здесь – алгоритм оформления цивилизации и ее апогей и механизм сопротивления военному и культурному натиску извне. Она – апогей цивилизационного государства.
Кочевники занимают особое место в процессах политогенеза и это позволило даже поставить вопрос о том, можно ли кочевые образования считать государствами? Способны ли они были подняться до уровня такой сложной системы, как империя? Поскольку в понимании кочевников главное в империи ее политическая составляющая, вертикаль власти, это дало основание многим исследователям говорить о существовании у кочевников особой формы империи – кочевой. Сами названия «кочевая империя», «империя завоевания» есть в то же время результат гиперболизации таких факторов в истории кочевников, как милитаризация, внешняя экспансия, воинственный дух и пр. и противопоставления их в этой связи оседлым народам. Это не просто неверно, но обидно и вряд ли применимо к многочисленным народам Азии и Африки, в конечном итоге почти к половине тогдашнего человечества.
Вероятно, впервые в отечественной литературе понятие «кочевая империя» было введено в оборот М. Н. Суровцовым6. Как строго научный термин в рамках своей типологии кочевых образований его применила С. А. Плетнева7. Этот термин уже не раз становился предметом полемики. Насколько имеет право на существование сам термин «кочевая империя» и как его трактовать? Может ли эта империя считаться государством? По этому поводу высказывалось множество самых разнообразных мнений и, вероятно, все они должны быть так или иначе учтены, в том числе: климатические изменения (усыхание степей по А. Тойнби и Г. Е. Грумм-Гржимайло, увлажнение по Л. Н Гумилеву), комплекс Марса – бога войны в менталитете кочевников, перенаселенность степи, усложнение социальных процессов, ослабление земледельческих обществ (феодальная раздробленность), уменьшение заинтересованности земледельческих обществ в торговле с номадами, появление у кочевников харизматических фигур, пассионарность (по Л. Н. Гумилеву) и др. Но, вероятно, прежде всего, нужно учитывать то, что любая цивилизация есть не уровень развития общества, а сложное и противоречивое движение, а имперские конструкции в любой цивилизации возникают на стадии ее максимального развития.
Задача любой «империи», и кочевники не исключение, – не завоевания, а максимально упорядоченное структурирование определенного пространства, для которого характерна пестрота и иерархия различных «лоскутков» – экономик (кочевой в разной степени развитости у монголоязычных и тюркоязычных племен и оседлой у различных подчиненных народов), языков, культур. Эти «лоскутки» «сшивались» в пестротканое полотно империи и «коммунальная квартира» постепенно превращалась в единую «семью». Шло это в виде разрушения локальных социально-экономических и политических организмов и медленного складывания региональной системы. Ни одна известная в истории империя не проводила сколько-нибудь масштабных завоеваний, а больше оборонялась. Здесь есть смысл акцентировать внимание на двух интересных точках зрения. По мнению Кычанова Е. И., государства кочевников возникали в результате процессов имущественного и классового расслоения в самом кочевом обществе. Как считает Н. Ди Космо, изначальной предпосылкой создания степной империи является структурный кризис внутри общества номадов, который дополняется сложной внешнеполитической ситуацией.
Функции любой империи, в том числе кочевой, помимо этого: организация регулярности общерегиональных торговых и культурных связей, продукто- и товарообмена, совместной обороны, совместной экспансии, единой религиозно – культурной системы, способной противостоять вызову (вызовам) извне и изнутри, единого идеологического пространства, распространение единого, универсального образца, в конечном итоге, объединение региона и упрочение этого территориального объединения, ибо «империя» – механизм организации пространства в борьбе с многочисленными врагами (внешними и внутренними), сохранение традиций, выработка универсального права и др.
Отсюда для кочевой империи во многом характерны те же признаки, которые можно найти и у империй земледельческих, поскольку империи являются «ядрами» цивилизаций, то многие их признаки, естественно, являются признаками цивилизациями в целом:
❖ определенность («замкнутость») региона, основанная на этнокультурной близости, политико-экономической целесообразности, близости или идентичности социального развития;
❖ недостаток свободных земель;
❖ сложно развивающаяся экономика с обязательным присутствием земледелия;
❖ сложившиеся экономические связи;
❖ монархическая форма правления;
❖ сакрализация власти правителя, который являлся наместником Неба на Земле и обладал правом на управление всем миром и даже правом «творить свой миропорядок», покорять соседние народы;
❖ из-за отсутствия необходимости в полицентризме форм высшей власти и специфики экономики (кочевое скотоводство, равно, как и земледелие) ограничение вариативности государственных конструкций и их завязанность на вождя;
❖ «номинальность» центральной власти, которая выступает регулятором отношений многочисленных социальных и этнических прослоек;
❖ большая роль династического фактора в истории государства и этнополитическая интеграция в форме династического государства;
❖ наличие иерархии этнических и социальных групп;
❖ «этажность» общества, многоступенчатая социальная структура с резкими полюсами;
❖ многоуровневая социальная организация, где низшие звенья основаны на узах кровного родства, а высшие – на военно-административных связях и фиктивном генеалогическом родстве;
❖ использование традиции в качестве регулирующего фактора;
❖ особая роль насилия.
Менталитету центрально-азиатских кочевников часто приписывали особую страсть к убийствам. Кочевые завоевания всегда, начиная с глубокой древности, воспринимались как крупномасштабные катастрофы и в прошедшем столетии стали считаться одним из факторов, обусловившим так называемое «отставание» Востока от Запада. Не стоит, однако забывать, что историческая наука как инструмент идеологии или, наоборот, как максимально деидеологизированная номенклатура понятий и методов, сформировалась в оседлом мире и принять до конца видение кочевников на исторические события и процессы все еще не способна. Бандитизм же явление в некотором роде нововременное и есть смысл отличать его от средневекового разбоя. В средние века разбой и грабеж были нормальным явлением во внешней сфере, но внутри государства это рассматривалось как незаконное деяние. Бандитами считались лишь те, кто нарушал юридическую договоренность или традиции. Только в новое время, когда наблюдается своеобразное противостояние власти, бизнеса и криминала, возникает само понятие бандитизма как универсальное, не связанное ни с какими этническими или политическими границами. И именно тогда под него, прежде всего, подпадают кочевники, но отнюдь не представители иных цивилизаций.
❖ единое универсальное право;
❖ акцент в нем на поземельных отношениях;
❖ жесткие законы;
❖ максимально, насколько это необходимо, развитая пенитенциарная система;
❖ развитая система управления, связанная с военными и административными функциями. Она сочеталась с типичной феодально-кочевой практикой управления;
❖ иерархическая система государственных чиновников, дополняемая традицией передачи должности по наследству;
❖ переход от дуального (крылья) к триадному (центр – крылья) принципу административного деления (существование нескольких столиц во главе с Верховной, что отражало концепцию «одного ствола и множества ветвей»);
❖ бицефализм власти: «со-правление» родов (в Ляо – Елюй и Сяо);
❖ акцент на экономике во внешней политике – на получении прибавочного продукта за счет грабежа, контрибуций, военной добычи, дани, «подарков», транзитного торгового обмена, неэквивалентной торговли;
❖ особая роль дипломатии;
❖ формирование регулярной армии, дополняемой отрядами отдельных феодалов. В кочевых империях, пожалуй, впервые в средние века появилась постоянная армия (кидани, чжурчжэни, монголы). При Ляо она была объявлена «оплотом государства»;
❖ незначительная роль внутренних форм эксплуатации, в том числе рабства;
❖ большое развитие внешнеполитических отношений и «данничества»;
❖ единое летоисчисление;
❖ единая картина истории;
❖ синкретическая «имперская» культура, в которой «материнская» (киданьская, чжурчжэньская, монгольская) культура используется небывало активно, но искусственно, т. е. фактически осуществляется своеобразное «возрождение» «сверху», которое носит служебный характер;
❖ медленное складывание синкретической религиозной системы;
❖ амбивалентность («двуличность») сознания;
❖ общегосударственная письменность и наличие «искусственного» языка и др.
Классическая модель империи, известная по истории земледельческих районов, в Степи невозможна, хотя сама по себе имперская конструкция была необходима. Естественно, что, создавая ее, кочевники делали акцент на вертикали власти, и одно это обстоятельство само по себе стимулировало превышение необходимой дозы милитаризации страны. Для кочевников милитаризм необходим уже потому, что их государство не может отгородиться от остальных «варваров» «китайскими стенами» и вынуждено постоянно держать наготове огромные армии, которые нужны и для акций против оседлых районов.
Одним из камней преткновения здесь видится уникальность кочевой цивилизации, которую до сих пор часто рассматривают через призму европоцентризма. Мало того, что европейская цивилизационная модель предельно самобытна и нельзя ее институты искать в других «мирах», в том числе и оседлых, но и сама постановка вопроса о том, могут ли кочевники создавать свое государство или нет, отдает пренебрежением к ним, укоренившимся представлением о том, что государство возможно лишь у оседлых народов, что наличие государственности a la Europa обязательный критерий развитости общества, что эволюционизм есть прямолинейное восхождение по ступенькам «наверх», что векторно развивается все органическое.
«Кочевой» империей нельзя считать любое государственное образование, в создании которого принимали участие кочевники.
Такое представление достаточно широко распространено не только в науке двух прошлых веков, но и в настоящее время. Так, например, кочевыми империями называют государства, созданные тюрками на Среднем Востоке и в Малой Азии. Скорее можно говорить о попытках кочевников контролировать те или иные оседлые области. С таким же успехом можно было бы тогда говорить о том, что древняя Русь, в развитии которой принимали активное участие выходцы из Скандинавии, является скандинавским государством.
В данном случае под «кочевой империей» понимается такое государственное образование, политические, экономические и культурные центры которого находится в степной зоне, хотя со временем в него и входят те или иные оседлые районы.
Оно есть результат не захвата, а тех внутренних процессов, которые шли именно в кочевой зоне.
Кочевой империей нельзя считать любое крупное государственное объединение, созданное непосредственно кочевниками.
Хотя в каждом государственном образовании в средние века, что у оседлых народов, что у кочевых, присутствует имперская идея, классическими кочевыми империями можно назвать державы Хунну, Ляо, Цзинь, Юань. Традиционно считается, что одним из главных признаков любой империи является обширность территории, между тем эта территория всегда ограничена географическими объектами (море, пустыня, горы) или другими государственными образованиями и для нее характерна этнокультурная и политико-экономическая близость входящих в нее зон. Разумеется, империя – государственное образование, выходящее за пределы узкоэтнического или традиционно-государственного пространства, но быть беспредельной она не может и возможности объединять всю цивилизационную зону никогда нет8, а это означает, что внутри нее может быть в определенный исторический момент только одна империя, на руинах которой впоследствии возникает новая конструкция. Как социокультурная модель империя весьма эффективна, об этом говорит длительность ее существования: государственность Хунну так или иначе просуществовала с III в. до н. э. по V в. н. э., империя Ляо (907–1125) около 200 лет, империя Цзинь (1125–1234) – чуть больше 100, империя Юань (начало XIII в. – 1368) – около полутора столетий. Одна эта хронология говорит, что кочевые государства стали возникать практически одновременно с оседлыми. В Степи новый этап наступает с конца III в. до н.э. – усиливается мобильность населения, складывается новая военная система, новая политическая ситуация, в которой основными силами становятся не скифы, саки и другие народы скифо-сибирского мира, а хунны и сарматы.
На эволюцию и длительность имперской традиции повлияла и геополитическая история Евразии. «Рубеж эр» не случайно практически во всей Евразии стал знаковой вехой. Уже в первом веке начинается так называемое Великое переселение народов (I–VII вв.), результатом которого станет окончательное складывание новой цивилизационной и этнополитической карты. Этот процесс смог решить многие геополитические и макроэкономические проблемы, вставшие перед прежним миром. Он же прервал фактически не только существование первой «кочевой империи» Хунну, но и повлиял на дальнейшую тенденцию к образованию империй у кочевников. Хунну были типичными кочевниками и в их культуре одновременно прослеживаются традиции скифского «звериного стиля» и более позднего тюркоязычного кочевнического мира. Империя Хунну возникла в восточной части имперской зоны и объединяла в основном тюркоязычные племена. Речь идет о Центральной Азией, под которой понимается район внутренней части азиатского материка, ограниченный горными системами Алтая (север), Тибета (юг), Памира (запад) и Хингана (восток). В цивилизационном плане под «Центральной Азией» следует понимать не просто географическое понятие, а историко-культурный феномен, один из древнейших очагов цивилизации. Обитавшие восточнее протомонгольские племена ухуань и сяньби (появились после разгрома конгломерата дунху), хотя и были кочевниками, еще не вышли на уровень имперской организации. Правда, сяньби во II в. н. э. смогли контролировать обширную территорию («на юге она доходила до границ Хань, на севере – до динлинов, на востоке – до фуюй, на западе – до усуней»), но необходимости имперской конструкции здесь не было. Если будущая «Монголия» еще не «созрела» для империи, то Центральная Азия в результате Переселения народов стала своего рода «проходным двором» и волны племен породили здесь лишь множественные кратковременные и региональные образования.
Сказался, видимо, и такой фактор, как хаотичное этнополитическое развитие Евразии в первые века н. э. В Европе наступили «темные века», когда усиливается натиск «варваров» на Римскую империю и возникают «варварские королевства». На Ближнем и Среднем Востоке положение начнет меняться лишь с возникновением Византийской империи и Сасанидского государства, которые, правда, будут находиться в достаточно жесткой конфронтации друг с другом вплоть до арабских завоеваний. В Восточной Азии после падения Ханьской империи начнется период Троецарствия (Саньго). Усилились брожения в Кочевой степи, в которые активно вмешивался и Китай. С кризисом раньше справились оседлые цивилизации.
Возможно, на судьбу кочевых империй повлияли и природные циклы, по крайней мере, любопытен сам факт практически тысячелетнего перерыва между двумя крупнейшими и влиятельными имперскими образованиями – Хунну на западе и Ляо на востоке. Сказался и такой региональный фактор, как постепенное усиление монгольских и маньчжурских племен. Монголия выходит на уровень империи и это сказалось непосредственно на судьбе Ляо и Цзинь.
«Кочевая империя» – восточноазиатский феномен.
Она не могла появиться в других районах Евразии. В классическом виде империи существуют на обоих полюсах Евразии – в Европе и Китае. В обоих случаях при всех естественных различиях проглядывается общая конструкция – центральная территория, где впервые появляется «истина» (Римская империя, Хань), и «варварская» периферия, постепенно принимающая цивилизационную парадигму. Естественно, что «варвары» вместе с «мировой» религией перенимают и идею «империи». Нужно учитывать, что Европа с «чистыми» кочевниками имела дело только изредка (скифы в древнегреческой истории, гунны, монголы) и вблизи нее не было возможности вести классическое кочевое хозяйство. Европейцы были знакомы преимущественно с номадами, т. е. людьми, которые вели присваивающее хозяйство. По этой причине «translatio imperii romanorum» («возрождение римской империи») происходило здесь после гибели Западной Римской империи и было в той или иной мере воспроизведением классической модели, на Дальнем же Востоке «translatio imperii sinicorum» («возрождение китайской империи») проходило при «живой» китайской империи, на Западе внутри оседлого мира, а здесь – за его пределами. Западные кидани вообще понесут эту идею в кочевой тюркский мир. Си Ляо – фактически еще одна трансляция. Вдобавок на территории кочевников была особая экономическая и этническая ситуация, где «классическая» империя просто не могла существовать.
На основной части Азии (от Гималаев до Средиземного моря) сложилась «кустовая» система халифата, когда различные культуры (сирийская, коптская, иранская, североафриканская и др.) располагались скорее «по горизонтали», чем «по вертикали».
Кочевники здесь представлены в основном тюрками, которые фактически находились на стадии формирования ранних военных государств в отличие от «арабов», у которых халифат представлял собой форму монархической теократии. Основной тенденцией здесь является не столько создание своих собственных государств в кочевой зоне, сколько проникновение в оседлые районы.
Кочевая империя как восточноазиатский феномен появляется на таком этапе развития кочевой цивилизации, когда она, впрочем, как и другие евразийские «миры», достигла предела своего внутреннего развития. Все земли были поделены, а рост населения принял характер демографического взрыва. Максимально освоены и степные районы, даже места и пути дальних перекочевок контролировались и осваивались кем-нибудь. А. Кордье некогда грустно заметил: «Приходится признать, что этот период истории Китая имеет лишь посредственный интерес. Эти вожди, которые жаждали императорского титула, не имея на него других прав, кроме захвата земель у своих соседей, движимые только гордостью, выгодой и боевой доблестью, без общей идеи; люди грубые, невоспитанные, суеверные, не боящиеся ничего, кроме колдовства и волшебства, напоминают баронов нашего феодализма, настоящих хищников, выслеживавших жертву, чтобы броситься на нее в удобный момент, грабивших города и деревни ради добычи, которую они накапливали в своих замках. Ни одной общественной идеи, ни одной моральной, ничего благородного, только грубая сила была средством их действий, а грабеж и убийство – целью. А если они и воздерживались от жестокостей, то не под влиянием истинных религиозных чувств, но из страха перед сверхъестественными силами, которых они не понимали, но воздействия коих весьма опасались».
Этот период займет, как в Восточной Азии, так и в Европе, около 300 лет. Начало II тыс. – противостояние различных миров, в том числе и кочевников, и оседлых народов. Цивилизации достигают апогея своего развития, их парадигмы складываются окончательно и соответственно обостряется и культурное противостояние «миров». Активизируется информационное давление цивилизаций друг на друга (интервенция исламской культуры в Европу, проникновение католиков в славянские земли, миссионерское движение, появление энциклопедических трудов о Востоке Г. Рубрука, П. Карпини, М. Поло, формирование кочевых государств с опорой на китайскую модель). Можно сказать, что начинается период «религиозных войн» (примерно XI–XV вв.). «Миры» не могут больше распространять свои «истины» так, как это некогда делали апостолы, проповедью, и происходит широкое распространение миссионерского движения. Миссионеры должны не столько знакомить с «истиной» представителей других цивилизаций, сколько бороться с чужими идеями. Идеи «евангелия» («благой вести») и «джихада» становятся идеологическим обоснованием территориальной экспансии. «Религиозные войны» (Крестовые походы, Реконкиста, исполнение воли Неба Чингисханом) как никогда беспощадны и фанатичны.
6
Суровцов М. Н. О владычестве киданей в Средней Азии. // История Железной империи. Новосибирск, 2007.
7
Плетнева С. А. Кочевники средневековья. Поиски исторических закономерностей. М., 1982. С. 40–72.
8
Отсюда и деление цивилизации на геополитическое «ядро» и культурную «периферию».