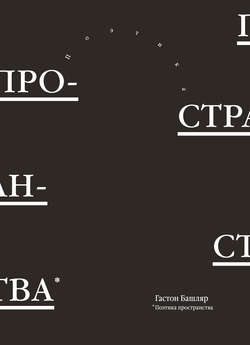Читать книгу Поэтика пространства - Гастон Башляр - Страница 3
Введение
II
ОглавлениеВозможно, нас спросят, почему, изменив нашу прежнюю точку зрения, мы теперь стремимся найти феноменологическое определение образов. Действительно, в наших предыдущих работах, посвященных воображению, мы сочли более целесообразным исследовать, настолько объективно, насколько это возможно, образы четырех стихий, четырех принципов всех наглядных космогоний. Оставаясь верными нашим привычкам философа, изучающего научные дисциплины, мы попытались исследовать образы без какой-либо попытки их личной интерпретации. Но мало-помалу этот метол, привлекательный своей истинно научной осмотрительностью, стал казаться мне не вполне подходящим для того, чтобы заложить основы некоей метафизики воображения. Разве «осмотрительный» подход как таковой не представляет собой отказ повиноваться спонтанной динамике образа? К тому же мы успели узнать, как трудно бывает отрешиться от этой «осмотрительности». Легко сказать, что ты решил сменить привычки в своей интеллектуальной деятельности, но как осуществить это на деле? Для рационалиста такая перемена выливается в маленькую повседневную драму, своего рода дуализм мышления, который, при всей фрагментарности осмысляемого объекта – ведь это всего лишь образ, – тем не менее становится суровым испытанием для психики. Но в этой маленькой культурной драме, драме на скромном уровне своего виновника – нового, только что рожденного образа, – уместился весь парадокс феноменологии воображения: как некий образ, единичный и обособленный, может казаться результатом сосредоточенной работы всей психики? И почему такое единичное и мимолетное событие, как рождение единичного поэтического образа, может воздействовать – без всякой подготовки – на души и сердца других людей, преодолевая все заслоны здравого смысла, опровергая все доводы благоразумия, так гордящиеся своей незыблемостью?
И тогда нам представилось, что сущность этой транссубъективности образа невозможно понять при помощи одних лишь привычных нам объективных референций. Только феноменология – то есть рассмотрение факта возникновения образа в индивидуальном сознании – может помочь нам восстановить объективность образов и измерить охват, силу и смысл его транссубъективности. Всем этим случаям объективности и транссубъективности нельзя дать определение раз и навсегда. В самом деле, поэтический образ по сути своей вариативен. В отличие от концепта он не является конститутивным. Конечно, отследить изменяющее воздействие поэтического воображения в подробностях изменчивых поэтических образов – работа хоть и однообразная, но тяжелая. Если мы призовем человека, читающего стихи, обратиться к учению, которое называют «феноменология» (а это название часто понимают неправильно), наш призыв вряд ли будет услышан. Но давайте оставим в стороне всевозможные учения, и тогда смысл призыва станет понятным: мы просим читателя стихов не воспринимать образ как объект, и уж тем более – не как заменитель объекта, но уловить его специфическую реальность. Для этого надо систематически ассоциировать творческий акт сознания с самым недолговечным продуктом сознания: поэтическим образом. На уровне поэтического образа двойственность субъекта и объекта становится мерцающей, переливчатой, подверженной беспрестанным инверсиям. В сфере создания поэтом поэтического образа феноменология превращается, если можно так сказать, в микрофеноменологию. В результате такая феноменология получает шанс стать строго элементарной феноменологией. Образ – слияние чистой, но мимолетной субъективности с реальностью, никогда не достигающей структурной законченности: здесь перед феноменологом открываются бесконечные возможности для экспериментов; он использует наблюдения, которые могут быть точными, потому что они просты, потому что они «не приводят к последствиям», как научные идеи, которые всегда несвободны. Образ в своей простоте не нуждается в знании. Он – преимущество наивного сознания. В своем выражении он – первозданная речь. Поэт благодаря новизне своих образов всегда стоит у истоков речи. Дабы определить, какой может быть феноменология образа, определить, что образ предшествует мысли, следовало бы сказать, что поэзия – не столько феноменология духа, сколько феноменология души. И тогда нам пришлось бы собирать документальные данные о грезящем сознании.
Философия современного французского языка, а тем более психология, почти не используют в своей практике сходство и различие понятий, обозначаемых словами «душа» и «дух». Вот почему обе эти науки остаются глухими к темам, которые столь часто встречаются в немецкой философии и в которых различие между духом и душой (der Geist и die Seele) выявлено с такой четкостью. Но раз уж философия поэзии должна иметь в своем распоряжении все богатства словаря, она ничего не должна упрощать, ничего не должна огрублять. Для такой философии дух и душа – не синонимы. Если мы сочтем их синонимами, то не сможем понять чрезвычайно важные тексты, исказим смысл документов, которые предоставила нам археология образов. Слово «душа» – бессмертное слово. Из некоторых стихотворений его удалить просто невозможно. Оно как дыхание[2]. Звучание слова уже само по себе должно привлекать внимание феноменолога поэзии. Слово «душа» в поэзии может быть произнесено с такой убежденностью, что из этого вырастет целая поэма. Итак, перечень поэтических тем, соответствующих душе, должен оставаться открытым для наших феноменологических исследований.
Даже в области живописи, где выполнение поставленной задачи, по-видимому, требует диктуемых духом решений, связанных с законами восприятия, феноменология души может найти зародыш нового творения. В замечательной статье, посвященной выставке картин Жоржа Руо в Альби, Рене Юг пишет: «Если бы надо было определить, что позволяет Руо опрокидывать существующие рамки и условности, пришлось бы вспомнить старое и редко употребляемое слово “душа”». Рене Юг объясняет нам: для того чтобы понять, почувствовать и полюбить творчество Руо, «надо броситься в самый центр, в сердце, в срединную точку, где все берет свое начало и обретает смысл, и тут мы встречаем забытое или презираемое слово “душа”». А душа – и живопись Руо это доказывает – обладает неким внутренним светом, который «внутреннее видение» узнает и воспроизводит в мире ярких красок, в мире солнечного света. Итак, тому, кто желает понять и полюбить живопись Руо, необходимо кардинально изменить психологические перспективы. Ему понадобится сопричастность к внутреннему свету, который не является отражением света, исходящего от внешнего мира; конечно, о случаях внутреннего видения, проблесках внутреннего света нам зачастую сообщают с чрезмерной готовностью. Но здесь с нами говорит живописец, творец сияющих красок. Он знает, из какого источника исходит свет. Ему знаком скрытый смысл увлечения красным цветом. В основе такой живописи – непокорная душа. Фовизм живет внутри человека. Значит, такая живопись – феномен души. Творчество должно стать искуплением мятущейся души.
Статья Рене Юга укрепляет в нас уверенность, что есть смысл говорить о феноменологии души. Во многих обстоятельствах нам следует признать, что поэзия – это труд души. Сознание, объединившееся с душой, не так беспокойно, не так проникнуто интенциональностью, как сознание, объединившееся с феноменами духа. В стихотворениях проявляются силы, которые не циркулируют по каналам знания. Диалектики вдохновения и таланта станут понятнее для нас, если мы будем рассматривать два их полюса: душу и дух. На наш взгляд, душа и дух необходимы для изучения феноменов поэтического образа в их разнообразных оттенках, в особенности для того, чтобы отследить эволюцию поэтических образов от мечтательного раздумья до осуществления. В другой нашей работе мы рассмотрим мечтательное раздумье как феноменологию души. Мечтательность сама по себе есть психическое состояние личности, которое слишком часто путают со сном. Но когда мы имеем дело с поэтической мечтательностью, с мечтательностью, которая не только наслаждается собственным состоянием, но и обещает поэтические наслаждения другим душам, понятно, что обычная сонная истома тут ни при чем. Духу свойственны моменты отдохновения, но душа, объятая поэтической грезой, бодрствует без всякого напряжения, умиротворенная и деятельная. Чтобы создать стихотворение, законченное, тщательно структурированное, нужно, чтобы дух заранее спланировал его в общих чертах. Но у простого поэтического образа не существует плана, для него потребуется лишь душевный порыв. Душа заявляет о себе в поэтическом образе.
Так поэт со всей ясностью ставит перед нами феноменологическую проблему души. Пьер-Жан Жув пишет[3]: «Поэзия – это душа, открывающая для нас некую новую форму». Душа – первооткрыватель. Она становится созидающей силой. Она выражает сущность человека. Если даже эта «форма» уже была известна и освоена ранее, стала компонентой каких-либо «общих мест», все равно она была для духа не более чем простым объектом, пока ее не озарил внутренний свет поэзии. Но вот душа открывает форму, наполняет ее, ликует внутри нее. Итак, фразу Пьер-Жана Жува можно считать афористически ясной формулой феноменологии души.
2
Charles Nodier, Dictionnaire raisonné des onomatopées françaises, Paris, 1828, p. 46. «Различные наименования души почти у всех народов представляют собой ономатопеи дыхания».
3
Pierre-Jean Jouve, En miroir, éd. Mercure de France, p. 11.