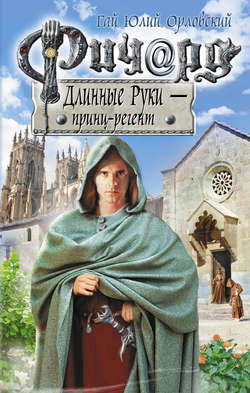Читать книгу Ричард Длинные Руки – принц-регент - Гай Юлий Орловский - Страница 4
Часть первая
Глава 4
ОглавлениеБобик поднял голову, взгляд внимательный, я сообщил, что все в порядке, проветриться выходил, а что ночь – неважно, лег на ложе не раздеваясь и закинул ладони за голову.
И все-таки сон не идет. Я вспомнил, что в монастырях жизнь не замирает ни на минуту, ночные бдения здесь в ходу и приветствуются, облачился в доспехи, сверху надел оставленную для меня монашескую рясу, надвинул капюшон поглубже на лицо и вышел из кельи.
Монашеское одеяние просто идеально для шпионов и убийц: никто не видит твоего лица, а под широкой рясой можно спрятать целый арсенал.
В доспехи влез вовсе не потому, что чего-то опасаюсь, просто надо отстаивать свои привилегии, которые хозяева всегда хотят по меньшей мере ограничить. И хотя паладины в общем подчиняются церковным правилам, однако внутри этих правил у нас, как уверен, весьма широкие возможности и полномочия.
Капюшон мне нужен потому, что до того, как отличительными признаками монаха стала его ряса, их узнавали издали по тонзуре. Не знаю, кто придумал, но верхушку головы брили, а оставшиеся волосы как бы символизировали и доныне символизируют венец апостола Петра, основополагающий камень церкви и первого папу римского.
Когда тонзуру выстригают у новициев, то читают семь псалмов, а потом уже шесть раз в год стригут в полной тишине. Самые продвинутые монахи выделяются среди серых собратьев необычными тонзурами, которые изобретают сами или обезьянничают у еще более авангардных хиппарей, так что аббаты то и дело выпускают строжайшие предписания, требующие единообразия и возврата к традициям.
К счастью, я не новиций, а гость, и хорошо еще, что это не орден валломброзанцев, у них новиции с первого же дня должны голыми руками вычистить свинарник. А еще, давая обет, в течение трех дней лежат распростертыми на полу неподвижно и храня «сугубое молчание», этого я бы точно не вынес, разве что ухитрился бы заснуть на это время.
Коридор вывел в прямоугольный зал, где с одной стороны колонны якобы поддерживают свод, а с другой из ниш молча и вопрошающе смотрят деревянные фигуры святых и подвижников.
Монахов почти нет, лишь однажды промелькнула вдали фигура в таком же, как и у меня, надвинутом на глаза капюшоне. Я только успел разглядеть узкий и раздвоенный, как козлиное копыто, подбородок, как монах исчез, словно ушел сквозь стену.
Из зала ведут две лестницы в разные стороны, однако обе наверх, а мне чудится, что все самое важное находится где-то внизу, оттуда доносится ровный гул, будто за толщей скальных пород работают огромные механизмы.
Из боковой двери появился приближающийся свет, стал заметнее, ярче. В зал вошел монах с так глубоко надвинутым капюшоном, что упрятан даже подбородок, что же он видит…
Вокруг головы сияние, нет, вокруг всего тела, только от головы ярче. Я охнул нарочито громко:
– Как здорово! Это что с тобой, брат?
Он повернул голову в мою сторону, замедлил шаг, я смотрю с прежним интересом, он нехотя остановился.
– Брат, – прозвучал тихий голос, – это не моя заслуга…
– Открой личико, – сказал я, – а то как-то не совсем вежливо. Вроде бы гордыня… Я паладин, зовут меня Ричард.
– Я брат Целлестрин, – прошелестел он.
Я смотрел, как он поспешно поднял капюшон, но не отбросил за спину, а оставил на уровне чуть выше бровей. Лицо бледное, изнуренное, но красивое той трепетной интеллигентностью и духовностью, что любим в друзьях, но не хотели б иметь в себе из чувства благоразумия и трезвого понимания, в каком мире живем.
И самое удивительное – от лица идет чистый свет, а когда он взглянул по-детски распахнутыми глазами, наивными и бесхитростными, я задохнулся от ощущения счастья.
– Я слушаю тебя, брат, – произнес он вежливо и стеснительно. – Я вижу, ты человек новый.
– Да, – ответил я, – этот дивный свет…
Он сказал виновато:
– Я ничего не могу сделать, чтобы его скрыть, прости.
– За что?
– Да так, – сказал он стеснительно. – Сколько раз пытался сделать его незаметнее, но он все ярче и ярче. Прости, брат, за невольное…
Я прервал:
– Нет-нет, я в восторге! Замечательно, что ты такой. Нельзя становиться незаметным, никто подражать не будет. Это должно быть заметно, весомо, зримо…
Он поклонился, снова надвинул капюшон на лицо и пошел, сгорбившись и почти касаясь плечом стены, к дальнему выходу из зала. Он так усердствовал в своей скромности, что я едва не выругался вслух от злости за его неверное понимание основных постулатов в целом вообще-то великолепного учения – христианства.
Громко лязгнуло, это отодвинулся тяжелый металлический засов, прячась в железные петли. Массивная дверь с готовностью распахнулась, словно дюжие слуги поспешно открыли ее перед королем.
Я постоял с целую минуту, тупо глядя на услужливую дверь.
– Нет, – сказал я себе, – хоть часок, но поспать надо. А то тут и рухнуться недолго.
Первое требование устава предписывает вставать зимой до петушиного пения. Я надеялся, что петухов здесь не отыщется, но едва сомкнул глаза и начал погружаться в непонятный пока сон, как услышал откуда-то снизу хриплый и наглый крик, тут же горлопана поддержали другие петухи.
Если в других монастырях приходилось наблюдать за звездами, чтобы отсчитывать время, замерять длину тени, то здесь я еще вчера увидел клепсидру в большом зале, так что в комнатах монахов наверняка есть песочные часы самого разного размера.
Следом за пением петуха, хотя какое это пение, отвратительный хриплый крик, донеслись удары колокола.
Я раскрыл глаза, уже четко зная, где я и с какой миссией, никакой затуманенности в мозгу, только полудурки просыпаются и пытаются понять, чего это они тут оказались.
Камин полыхает ярко и жарко, несмотря на ряд свечей вдоль стен, а на столе ко всему еще и большая лампа, хотя это та же свеча, только побольше, накрытая колпаком из матового стекла, чтобы оранжевый огонек не досаждал утомленным от долгого чтения глазам.
Я торопливо слез с постели. Если монах не поднимается с первым же ударом колокола, это уже серьезный проступок, который рассматривается на обвинительном капитуле, ибо запоздавший может не успеть к заутрене. Я вообще-то гость, гостям в монастырях дают некоторые послабления, но гости сами ими не злоупотребляют, ибо «в чужой монастырь со своим уставом не ходють».
Ряса по мне, хотя в плечах узковато, а рукава широки уж чересчур, еще непонятно, кто разжег камин, пока я спал, и почему Бобик позволил кому-то войти… если только камин не возжегся сам, среагировав ночью на понижение температуры, и откуда взялась лампа…
Напялив рясу, я тихо вышел, ступая на цыпочках, а дальше сунул руки в рукава друг друга и пошел, склонив голову, стараясь ничем не выделяться, а это нетрудно, когда в рясе до пола и с капюшоном, скрывающим лицо.
Для монахов достаточно было бы выращивать хлеб по той же технологии, по которой растут свечи, а воду можно добывать, растапливая снег, однако в монастыри частенько идут наиболее умные и предприимчивые и создают хозяйства, на сотни лет опережающие свою эпоху, в чем я убедился и на этот раз, проходя мимо мастерских, складов, и в конце концов спустился по широким выдолбленным в толще камня лестницам в пещеры под Храмом.
Похоже, монахи давненько обнаружили, что там внизу текут не только ручьи с чистейшей водой, но и реки, в которых водится удивительно вкусная и нежная, совершенно безглазая рыба.
Один из монахов могучего сложения приволок мокрую сеть и со вздохом облегчения свалил ее в угол. Постоял, опираясь на толстый длинный шест, к которому прикреплена сеть, а когда поднял голову, я узнал брата Жака.
– Слава Всевышнему! – воскликнул я. – Хорошо, что встретил тебя, брат Жак, ибо ты понравился мне!
Он оглянулся, на лице появилась широкая ухмылка.
– Что, поработать восхотелось?
– Да, – сказал я с восторгом. – Еще как!.. Очень!.. Правда, не сейчас и не здесь, а так даже как-то сам себе не верю, такой энтузиазм, такой энтузиазм!
Он улыбнулся еще шире.
– В это верю. Что, в самом деле нравится здесь?
– Да, – ответил я и, понизив голос, поинтересовался: – Что с братом Целлестрином?
Он помолчал, подумал, посмотрел исподлобья.
– А что не так?
– Да все так, – ответил я, – даже слишком. От него прет свет во все стороны, как от тебя запахом вина. Засовы перед ним отодвигаются, двери распахиваются, чуть ли не осанну поют… Он что, святой?
Он снова подумал, сдвинул глыбами плеч.
– Не знаю. Мне самому казалось, что святыми могут становиться только мудрые старцы.
– Ну да, а он вроде бы не старец…
– Точно, – подтвердил он. – Я помню, когда он пришел. Совсем сопляк еще… Но он так неистово истязал свою плоть, так страстно жаждал просветления и очищения… этой, как ее… ага, души, что… ну вот это и ага.
– Значит, – спросил я с замиранием сердца, – все-таки святой?
– Ну, – сказал он в затруднении, – типа да.
– Настоящий?
– А этого никто не знает, – ответил он. – Еще больных излечивает одним прикосновением, любые тревоги может отогнать, стоит заговорить участливо… а он очень добрый, перед всеми душу распахивает, всем готов помочь так, что хоть бей его…
– А как, – спросил я, – он всего этого добился?
Он поскреб в затылке, лицо стало задумчивым.
– Долго и трудно, – сказал он нехотя, – боролся со злом в себе.
– Разве он один? – спросил я.
Он криво улыбнулся.
– Точно подмечено! Все мы боремся, изгоняя из себя соблазны, похоть, нечистые желания, но у всех по-разному, понимаешь?
– Еще как, – согласился я. – Я вот тоже борюсь, но недолго.
– Побеждаешь?
– Нет, – пояснил я, – сдаюсь. А они сразу же теряют ко мне интерес и уходят. И я снова почти праведник.
Он посмотрел на меня озадаченно и с растущим уважением.
– Вот как… Хитро… Надо как-нибудь… Но Целлестрин прост, он бил в одну точку, и у него, похоже, получилось лучше, чем у других.
– А остальные?
– Пока только он.
Я сказал подбадривающе:
– Но и ты, наверное, близок?
Он покачал головой.
– Не смеши. Я весь из соблазнов и пороков. А по нему видно, что никогда не воровал яблоки из чужого сада, как святой Августин. С молитвами, ночными бдениями, мольбой об очищении он вообще стал недосягаем для нас… Я как вспомню, когда увидел в коридоре тот яркий свет из-под его двери!
– Ну-ну?
– Я первым вбежал к нему, – сообщил он с некоторой гордостью, но тут же перекрестился, – и увидел тот неземной свет, исходящий от его лица! Выражение было такое кроткое и всепрощающее, что даже меня проняло, а это не так просто ввиду моей великолепной и такой нужной для жизни толстокожести. Братья, понятно, пали на колени и вознесли Господу благодарственную молитву.
– Представляю, – сказал я.
– Да, – согласился он. – Это было громко.
– Счастливые вы здесь, – сказал я. – А на тебя как взгляну, так плакать хочется. От зависти.
Он вздохнул, оперся обеими руками на шест и прижался к нему щекой, отчего вся огромная рожа перекосилась.
– С того дня, – сообщил он, – брат Целлестрин и стал творить чудеса. Пусть не великие, но, смекаю, постепенно вырастет, как думаешь?
– Я просто уверен, – ответил я бодро. – Значит, он постоянно творит чудеса?
– Небольшие, – снова уточнил он, – зато часто.
– Остальные завидуют?
– Еще бы! Сам понимаешь, другие вообще кипятком разбрызгивают!
– Особенно молодежь, – согласился я. – А что говорит аббат?
Он пожал плечами.
– А что он скажет? Ставит в пример. Говорит, из брата Целлестрина вот-вот вылупится очень великий подвижник, раз он уже сейчас праведник перед Господом. И предвещает, что брату Целлестрину предстоят великие дела и свершения.
От тележки с рыбой в нашу сторону крикнули и помахали руками. Брат Жак сказал добродушно:
– Надо идти работать. А то поговорить мы все любим. Даже без вина.
– Ну, – сказал я, – вино будет. Настоящее, церковное.
Он посмотрел с недоверием, я лишь загадочно улыбнулся. Вообще-то почти любое вино создано монахами, начиная от шампанского и всевозможных ликеров и кончая уже не вином, а грогом, глинтвейном, ромом и виски, но среди обывателей утвердилось мнение, что только кагор считается церковным вином, раз им причащают в церкви. Так что угощу их для начала кагором.
Похоже, местные монахи, не довольствуясь простой рыбной ловлей, разводят рыбу в искусственных прудах, так называемых садках, видно по тому, какие отборные рыбины на тележках, все одинакового размера и откормленные так, как никогда им не удается отожраться в диких условиях…
– Брат паладин!
Я оглянулся, меня торопливо догоняет брат Альдарен, помощник самого елемозинария отца Мальбраха.
– Приветствую тебя, брат, – сказал я приветливо. – Как спалось?
Он ответил с горделивой кротостью:
– Я эту ночь не спал.
– Ого, – сказал я, успев вовремя проглотить шуточку насчет горячих потных баб. – Работал?
– Молился, – сообщил он. – Лежал на полу перед распятием, раскинув руки крестом, и просил заметить меня, скромного слугу Божьего…
– Зачем? – спросил я с удивлением. – Ты какой-то язычник… Создатель наш велик, не знал? Он видит все и всех, слышит даже топот ног муравья, бегущего за добычей! Предполагать у него тугоухость – кощунство, брат.
Он вздрогнул, сказал испуганно:
– Но молитва же… чтобы Господь услышал?
– Он и так слышит, – заверил я, – даже мысли! Предполагать иное – умалять его величие. А молитвы… что молитвы? Они для того, чтобы самому лучше понять и сформулировать, что же в конце концов хочешь. Ты чё хотел хрюкнуть?
– Совместная трапеза, – напомнил он. – Присутствуют все, кроме тяжело больных. И все гости.
– Для меня как бы честь, – сказал я высокопарно. – Веди, брат, здесь нам не грозит попасть в жаркие и цепкие лапы распутных, но веселых дев…
Он вздрогнул и торопливо перекрестился, а затем еще и забормотал молитву.
– Вот так, – сказал я поощряюще, – а можно и еще тише.
Он сказал слабо:
– Молитвы… молитвы в самом деле помогают весьма как бы не совсем так, как ждут. Это только слова. А вот ночные бдения перед алтарем…
Я спросил осторожно:
– А есть разница?
Он кивнул.
– Огромная. В молитве просишь, чтобы Господь выполнил за тебя какую-то черную или тяжелую работу, а в бдении раскрываешь свою душу, копаешься в ней, высвечиваешь все темное, что еще осталось, а его всегда много, и не просишь Господа за тебя что-то сделать, а спрашиваешь совета, как самому сделать эту работу быстрее и правильнее.
– И что, – спросил я, – помогает?
Он взглянул на меня с иронией.
– Я понимаю ваше недоверие, брат паладин. Но разве не так брат Целлестрин получил святость?.. Более того, открою вам, как человеку, что пришел и скоро уйдет, некоторые наши отцы через бдения обрели дар творить чудеса… перед которыми брат Целлестрин просто щенок.
Я охнул.
– Через бдения? Самосозерцания?..
– Инквизиционное самосозерцание, – уточнил он. – Ведь можно самосозерцать спокойно и бесстрастно ради самого самосозерцания, но если смотреть внутрь себя с неистовой страстью выжечь слабости и укрепиться духом, то… некоторым удается. Эти люди, не буду называть их имена, в самом деле способны сдвинуть горы.
Я смотрел потрясенно.
– Брат Альдарен… вы меня удивляете зело. Я вам почти верю, а это весьма нечто.
– А я вижу, – проговорил он медленно, не сводя с меня испытующего взгляда, – вы сами уже рветесь пройти, хотя еще не отдаете себе отчет, обряд посвящения и суровый период бдения!
– Да? – переспросил я в полном смятении. – Не знаю, вы правы. Я об этом не думал, но когда такие возможности… хотя бы шанс… гм, творить чудеса одним щелчком пальцев…
Он окинул меня чуть скептическим взглядом, дескать, чудеса делают не так, вдруг глаза его чуть расширились, а брови полезли на середину лба.
– Брат паладин, – вскричал он тоненьким голосом, – что это у вас?
Его палец обвиняюще указывал на мою рясу, где навершие рукояти меча оттопыривает ее характерным бугорком.
– Мои атрибуты, – ответил я с достоинством, – как у вас, скажем, тонзура. Ибо я весьма паладин!
Он воскликнул:
– Брат паладин, мы в мирном храме!.. Имеет ли смысл вам не расставаться с мечом? Это же оскорбление для Храма, нашего монастыря и всех здесь обитающих!
– Милый братец, – проговорил я медленно, – я ценю твою заботу о Храме и целомудренности монахов. Но как ты не можешь пойти по Храму голым, так и я не могу без меча. Рыцарь без меча уже голый.