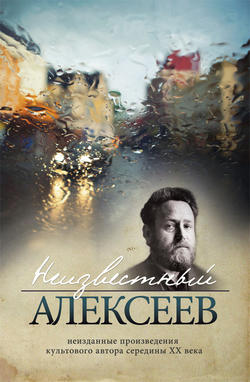Читать книгу Неизвестный Алексеев. Неизданные произведения культового автора середины XX века (сборник) - Геннадий Алексеев - Страница 10
Дневники
1964
Оглавление1.1
Проснулись рано и пошли гулять. Город пуст. На взморье ни души. Лед весь изломан и стоит дыбом. Вороны летают стаей и непрерывно, надсадно кричат. Серое сумеречное утро.
2.1
Bсe говорят о Бродском. Ходят слухи, что Ахматова и Эренбург ходили в ЦК.
4.1
Закончил «Афродиту». Не уверен, что вышло.
Майка сказала, что сегодня я кричал во сне: «Караул! Спасите!»
Мы долго смеялись. А не так уж смешно. Кошмары снятся почти каждую ночь.
«Добро и зло» в мировой литературе.
Фольклор. Античность. Шекспир. Гюго. Диккенс. Достоевский. Ницше. Андрей Платонов. Солженицын.
Служить добру или стать над добром и злом?
Христианство и проблема добра и зла.
Апокалипсис – торжество зла, но после вечное царство добра. Добро как символ жизни и зло – как смерть.
Добро – условие существования человечества.
Абсолютность добра и зла. Где критерий абсолютности?
Вечное коромысло.
Жадность мешает мне работать. Стараюсь не проронить ни крошки и пихаю в поэмы все что попало, всякий мусор. Потом начинаю чистку. От этого низкий КПД.
Интересно следить за женщинами. Как много и часто попусту думают они о мужчинах! И за что им такое наказанье?
5.1
Прослушал записанную «Афродиту». Вроде бы неплохо, а почему – сам не понимаю.
Сегодня снилось, что еду в трамвае, а на мне длинный черный плащ и черная плоская шляпа с плюмажем, как у Александра Первого.
Говорят, что каждую ночь человек видит четыре сна, но запоминает только последний.
6.1
С годами мое чувство Петербурга становится острее. Четыре часа ходил по городу.
Фиолетовый закат. Трубы и кресты антенн. Перспективы темных улиц. Мосты. Решетки. Фантастические нагромождения домов. Тусклые лампочки в грязных и таинственных подъездах.
В столовке, что на углу Садовой и Крюкова канала, пил пиво. Когда-то это был, видимо, третьеразрядный кабак. Таким он и остался под вывеской столовой. Пьяные мужики сидят в пальто и в шапках. Водку разливают под столом, на столе для маскировки стоят бутылки с лимонадом. На стене объявление: «КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ распивать принесенные с собой спиртные напитки».
7.1
Еще одна столовая. На Московском проспекте.
Обедает семья. Отец – низкорослый, с круглым лицом и маленькими злыми глазками, небритый, в сапогах бутылками. Мать – рыхлая женщина неопределенных лет, плохо причесанная, в каком-то нелепом длинном балахоне, в валенках с галошами. Два мальчика. Одному лет 15 – он, видимо, школьник. Другой, постарше, в форме курсанта военного училища. Он сидит в шинели на краешке стула и не ест. На лице выражение почтительности и застенчивости. Почтительности к родителям и застенчивости перед чужими, что родители его такие неказистые, бедные и так выделяются среди городских.
На полу стоит дешевенький картонный чемодан, рядом с ним какие-то узелки, свертки. Родные приехали навестить сына в городе. Сын будет офицером, выбьется в люди. Он не ест, потому что все равно его ждет ужин в училище – зачем же деньги зря тратить?
За стол они сели не сразу. Долго, не раздеваясь, стояли в нерешительности у стойки, шептались. Наверное, еда казалась им слишком дорогой.
Едят медленно, тщательно, по-крестьянски.
17.1
Таисия Николаевна сказала, что в жизни надо быть немного артистом. Так легче.
Вечер встречи с редколлегией журнала «Знамя». К. Симонов, С. Щипачев, В. Кожевников, А. Вознесенский и еще несколько поменьше. Зал Кировского дворца культуры был переполнен, стояли в проходах.
Симонов читал старые стихи, Щипачев – новые, о молодежи, и весьма либеральные, – волновался и был очень трогателен. Но все пришли, разумеется, ради Вознесенского. Кумир держался просто, был просто одет (свитер, серый пиджачок) и выглядел совсем мальчишкой. Читал уверенно, артистически повышая и понижая голос. Налегал почему-то на «а» – ПА-А-А-пробуйте, ПА-А-А-донок, БА-А-льшой. Буря восторга, крики «браво». Споры в публике. Не давали уйти со сцены. Кожевников что-то говорил в микрофон, умолял, но его не слушали. Наконец Кожевников крикнул, что вечер закрыт. Несколько литераторов так и не успели выступить. Уходя со сцены, Вознесенский подошел к микрофону и сказал: «Спасибо». На это последовал новый взрыв энтузиазма.
Две старушки, сидевшие передо мной, ожесточенно хлопали Симонову. Когда читал Вознесенский, они пожимали плечами и вопросительно глядели друг на друга.
22.1
Из каталога институтской выставки Горлит изъял мою картинку, которая называлась «Московский пейзаж». За то, что на переднем плане была изображена церковь. Рядом с нею был нарисован новый современный дом, на заднем плане торчали строительные краны, но это не помогло.
Юмор – единственное средство успокоения.
24.1
В Казанском соборе стал фотографировать роспись. Подошла служительница музея и сказала, что фотографировать нельзя. Разозленный, отправился к директору, сунул ему свою бумажку.
– А почему, собственно, нельзя?
– Потому что кое-кто может сфотографировать экспонаты для того, чтобы использовать их в целях религиозной пропаганды! Вы что думаете, тут дураки сидят? Все не так-то просто!
Говорят, что обком получает множество писем в защиту Бродского. А Бродскому не так уж плохо. Скандал – начало славы.
Бунинская грусть.
Бунин – это конец. Конец эпохи литературной и исторической. Грусть прощания и воспоминаний. Грусть возвышенная и изощренно-сладостная. Грусть, доведенная до предельной степени совершенства.
Все чаще ловлю себя на мысли, что по складу ума и души я человек ХIХ века и мои попытки быть современным просто смешны.
31.1
Мужицкая, прянично-навозная литература 20-х годов была своеобразной реакцией на утонченную дворянскую литературу XIX века. Рухнула запруда, хлынул мутный, мощный поток. Есенин, Артем Веселый, Павел Васильев. Всё брали нутром, талантом от земли. Традиции их не тяготили, потому что они не знали их. Но они создали свои традиции. Теперь трудятся их эпигоны.
И вечная тема – крепкий народ и хлипкая интеллигенция.
Критики тщатся развенчать «святую троицу» – Кафку, Джойса, Пруста. Рядовому читателю совершенно непонятно, из-за чего разгорелся сыр-бор, потому что он не имеет возможности познакомиться с творениями этих злых гениев – книги их не издавались десятилетиями и стали библиографическими редкостями. На Западе же советской критикой никто не интересуется.
Т. Мотылева в «Иностранной литературе» с явным наслаждением цитирует большие куски из «Улисса», но отцом современной литературы она называет, разумеется, Горького.
«Отказ от познания подлинной реальности, подмена ее игрой писательского воображения обедняет и губит искусство романа». Бедная Т. Мотылева.
Статья А. Гладкова о Платонове.
Неверно, что позднее у Платонова – самое лучшее. Постоянная травля сделала свое дело. Чтобы хоть немного печататься, он портил свой стиль, сглаживал его.
Его обвиняли в «оглуплении», «искажении жизни», «злорадном глумлении», «бессмысленном кривлянии», «злопыхательстве», «злонамеренном юродстве». Дивно.
И все же это, наверное, лучше, чем быть вообще вне литературы.
1.2
Несчастная диссертация вылезает из меня туго, как жилистое мясо из ржавой, тупой мясорубки.
В 30-х годах выселяли колхозников «чернодосочных» районов. Чего только не делалось в 30-х годах!
Надо чаще слушать хорошую музыку – Баха, Моцарта, Стравинского.
2.2
«Судьба Блока. Материалы о Блоке и символизме».
«…Газетчики глумились над ним как над спятившим с ума декадентом. Из близких (кроме жены и всепонимающей матери) никто не воспринимал его лирику. Но он не сделал ни одной уступки…
Ал. Ал. был, как всегда, далек от личных счетов. Он и не подозревал, что казался своим друзьям “непереносным, обидным, намеренно унижающим”…
У Блока в душе не было ничего, кроме все более и более растущего огромного “нет”…
Необыкновенно точный и аккуратный, безупречный в своих манерах и жизни, гордо-вежливый… он был для людей, близко его знавших, самым растревоженным, измученным и, в сущности, уже безумным человеком…»
Несчастные мы все, что наша родная земля приготовила нам такую почву…
Вчера ночью и утром – стыд за себя, за лень, за мое невежество в том числе. Еще не поздно изучать языки…
Правду, исчезнувшую из русской жизни, возвращать – наше дело…
В снах часто, что и в жизни: кто-то нападает, преследует, я отбиваюсь, мне страшно. Что это за страх?
Ненавидящая любовь – это, пожалуй, точнее всего, если говорить о России, о моем отношении к ней…
Блок принял революцию, как спасение от «буржуазной сволочи», но буржуазию он ненавидел как дворянин и интеллигент. И еще он принял революцию, как долгожданную катастрофу, которую желал и проповедовал страстно так много лет. Он принял ее, как очистительный смерч, как искупление. Здесь было и сладкое чувство мести кому-то за что-то, как у детей: «Ну и пусть! Ну и ладно!» Здесь была и легкость предельной безнадежности: «Пропадай все пропадом!»
Надо уверовать в свою миссию и делать свое дело. Иначе – гибель.
3.2.
Часто снится одно и то же кладбище где-то в Петергофе или в Стрельне. Как тамошние парки, оно взбирается на пригорок, и я всякий раз стою на этом пригорке у ограды и смотрю вниз. Зелень деревьев густая, но в ней просвет, и в просвете виден залив, серый, бесцветный.
Вариациям князя Мышкина в русской литературе нет числа. Например, Фарбер у В. Некрасова. В кино Смоктуновский играет его именно так.
В бешеных ритмах современных танцев есть что-то апокалиптическое. Веселье на грани безумия.
«Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! Ибо в один час пришел суд твой!»
Тот искуситель, «черт» карамазовский, спрашивает меня: а что если гордость твоя – яд и погибель? Если не в мир, а в зеркало глядишь ты – стукнуть легонько, и оно вдребезги? Если не крест несешь ты и не на Голгофу? Если бессмертие, которого ты возжаждал, вовсе не там? Если сел ты в тот автобус, да не в ту сторону едешь, и из гордости же спросить не хочешь – в ту ли?
И я отвечаю черту: и славно! Дождемся осени – цыплят наконец сосчитают. А если некому и некого будет считать, то там, где-то там, за гордыню меня не осудят.
Но черт не все вопросы задал. Хитрый. Еще много бесед предстоит мне с рогатым, ох, много!
4.2
Ю. Будто где-то я ее раньше видел.
«Хорошо вам, поэтам: написал и положил в ящик стола. А каково нам, режиссерам! Дома же с родственниками не поставишь спектакль!»
5.2
Ленинградский «День поэзии». 1964 год.
Будто писал кто-то один, кто-то двуполый и до странности скучно думающий.
Ю. рассказала об Ахматовой. Анна Андреевна простодушно хвастается тем, что ее опять стали печатать.
– Вот, поглядите, «Новый мир» вспомнил обо мне! А вы видели мои стихи в «Дне поэзии»?
Кокетничает. Любит эффектно одеваться. Тщательно пудрится, когда ждет гостей.
– Вы знаете, это стихотворение Бродский посвятил мне!
Странно, невероятно, что Анна Ахматова еще жива, еще пишет. Когда-то, бог знает когда, были Ивановские среды «на башне», была «Бродячая собака», был «Привал комедиантов». Все это уже давно отошло в область легенд. А эта женщина с патрицианским профилем живет где-то рядом, в трех-четырех километрах от меня.
6.2
Все стихи мои и поэмы – один крик.
Лишь бы с ума не сойти, вот что.
7.2
По ночам частые приступы «возвышенных чувств».
Бесконечный спор о Солженицыне. Тома критических статей. Лязг мечей и крики злобы. И каждый видит то, что ему хочется. Ивана Денисовича разрывают на части, топчут ногами, водружают на пьедестал. Его выдвинули на премию и страсти накаляются.
13.2
Сегодня туман и красное солнце, как в «Жар-птице». Стою и наблюдаю, как течет моя жизнь. Половина ее уже вытекла, это наверняка. Но, быть может, осталось уже лишь на донышке – не вижу, темно там, откуда она вытекает.
Наша лестница превратилась в приют для неких несчастных молодых людей, которым больше негде встречаться. Площадки усеяны огрызками и корками. На измызганных подоконниках стоят водочные бутылки. После выпивки юноши развлекаются – бросают горящие спички в потолок. Спички прилипают к штукатурке и оставляют на ней большие черные пятна.
14.2
К вопросу о кошках и о добре и зле.
В автобусе девушка везет к ветеринару котенка. Некие злые молодцы напоили его этиловым спиртом, чтобы проверить, можно пить этот спирт или нельзя. Котенка три дня рвет. Девушка отпросилась с работы, потому что лечебница для животных работает только днем, и котенок-то не ее, а общественный. Он в учреждении живет, в том самом, где бывает этиловый спирт.
«Ненавижу страдальцев!» – говорил Горький. И слыл гуманистом. Он же написал: «Если враг не сдается, его уничтожают».
– Ненавижу этого страдающего котенка! – сказал бы Алексей Максимович. – Мало ли бегает по улицам здоровых, веселых котов!
– Ненавижу злых молодцев, которые хлещут этиловый спирт! – говорю я. – С моей точки зрения, они имеют меньше прав на жизнь, чем этот котенок, который никому не делает зла. Жестокий человек хуже животного, хуже даже злобного животного, потому что животное не сознает своей злобы, а человек сознает и наслаждается ею.
А «враг» – слово сомнительное. Враг – это твой античеловек, тот, кого ты должен убить. Но еще неизвестно, что лучше – убить или быть убитым.
Опять Толстой. И Ганди.
Да нет же, я тоже злой. И способен убить. Тех пьяниц, отравивших котенка, я, ей-богу, убил бы!
15.2
Одному инженеру снятся странные сны. Один сон на целую неделю. Потом перерыв – и опять. Будто живет он на неизвестной планете среди неизвестных существ, похожих на людей. Жители планеты разговаривают с инженером на незнакомом языке, который, как ни странно, ему понятен. Все сны хорошо запоминаются, но инженер от них очень устает. Врачи установили, что он в здравом уме.
18.2
Ужасающая моя непрактичность. Черт дернул меня взяться за диссертацию о синтезе!
Ночью записывал какие-то обрывки, не стихи, а лишь фрагменты стихов, которые возникали во мне сами собою. Утром прочел – не так уж интересно, но есть кое-что.
Боюсь, что не выдержу и покончу с собой, боюсь смерти. Боюсь писать. Боюсь, что пропадет желание писать. Боюсь сидеть дома. Боюсь ходить по улицам. Боюсь телефонных звонков. Боюсь, когда долго никто не звонит. Боюсь своей боязни. Боюсь того дня, когда уже не будет страшно.
25.2
Полковники. Разные голоса, разная манера улыбаться и двигать руками. Полковники явно живые. Но они абсурдны. Их не может быть.
Театр абсурдных полковников. Их бессмысленные монологи доставляют им удовольствие. Они шутят, они потирают руки.
Килотонны. Мегатонны. Предупреждающий удар. Район поражения. Внезапность нападения. Рентгены. Токсины. Чумные блохи. Боевой дух.
Не будет продолжения. Умирали и знали, что кто-то остается, что остается чья-то память, быть может, и благодарность. Теперь смерть будет абсолютным концом.
27.2
Я был глуп и стеснялся себя, хотел быть каким-то другим. Я был младенцем. Теперь я уже подросток. Скоро стану взрослым.
2.3
Пушкинские парки. Тишина и какой-то особенно белый снег. Руины гвардейских казарм. Арматура – как прутья деревьев. Стены церкви исписаны похабными надписями. Среди надписей остатки мозаики – широко раскрытые, страдальческие глаза богоматери.
4.3
Белла Ахмадулина (в ресторане «Астории»).
Замысловатая прическа. Нарисованные глаза. Моднейшие туфли. В фигуре что-то детское – талии почти нет, но тело тонкое. И красивые ноги.
С нею некто седой, лет пятидесяти.
5.3
Можно бороться за правду в искусстве и за правду самого искусства. «Новый мир» делает первое, но второе важнее.
Солженицын – все же стилизатор, талантливый, как Жолтовский, например. Сама его манера письма как бы говорит: так было, так будет. А это неправда. Раньше такого не было. И впредь такого тоже не будет. Будет иначе.
6.3
Проснулся ночью, и мне показалось, что я лежу под черным небом, на котором только одна звезда. Но это был блик на потолке – лунный свет пробился сквозь штору.
С пристрастием перечитал «Плевок» и «Прогулку». Все-таки кое-что я умею.
11.3
В гостях у Мочалова и Слепаковой.
Мои последние стихи им понравились. «Это путь для белого стиха», – сказал Лева. После спорили о «хаосе», о способах его преодоления и о пресловутом долге художника. Нонна больше молчала и как бы посмеивалась про себя. Пили сухое вино и потом пиво. На закуску были креветки. «Ты пьян, Лева, – сказала Нонна, – у тебя красные пятна под глазами – это верный признак!»
Мочалов пишет книги об искусстве. Слепакова занимается переводами. Слухи о ее красоте несколько преувеличены.
– Все-таки надо печататься, обязательно надо печататься! – сказал Лева на прощанье.
Каждое утро, когда я еще лежу в постели, Филимоныч прыгает на кровать и тыкается мокрым носом мне в щеку, издавая при этом нежнейшие бархатистые звуки. Потом он ложится мне на грудь и некоторое время дремлет. Егo нос так близко от моего лица, что я ощущаю легкий ветерок его дыхания. Когда открываю глаза, вижу перед собой гигантскую кошачью морду с толстенными усищами – она закрывает весь потолок.
Вдруг появилось чувство самодовольства. Будто я уже добился, чего хотел, и все в порядке. А чего я хотел?
Агония зимы. Солнце светит вовсю, пробивая нашу квартиру насквозь, а на окнах белые пушистые травы – мороз. С крыш сбрасывают снег. Он падает с глухим тяжким стуком. Будто стрельба идет в городе.
13.3
Видимо, путь не во внешнем усложнении, не в декорировании стиха, а в максимальном его оголении. Раньше стихи могли быть игрой созвучий, набором «самовитых» слов. Теперь они должны быть игрой ума. Мысль – тонкая, разветвленная, слоистая, вибрирующая, – вот основа. При строгом, простом словаре. Незачем выдумывать новые слова, надо оживить старые.
Все жаждут взглянуть на мир сверху, но можно получить удовольствие, глядя на него изнутри.
17.3
По Неве плывут редкие льдины. Широкий оранжевый столб от вечернего солнца уходит в воду.
Написал еще один стих о египетском ребенке. Написал и растрогался.
19.3
Ратуют за содержание в поэзии, ругают изящную «бессодержательность». Но неизящная бессодержательность еще хуже, и такой множество, куда больше, чем изящной, – ее бы и ругали.
24.3
Начиная с раннего Средневековья в Европе происходило накопление культурных ценностей. В середине двадцатого века началось их уничтожение. Запылали города и рухнули древние соборы. Ничто не возместит эти потери.
25.3
Написал «Белую кошку». Долго мучился над приемом, а он оказался очень простым. Перечень, и в конце – узел. Стихотворение напоминает по форме веник – расходящиеся ветки с одного конца стянуты веревкой.
Оказалось много отходов. Но это хорошо. Раньше я из стихов делал поэмы, теперь – наоборот.
1.4
Теплое пасмурное утро. Почему-то разволновался. Всплыли какие-то смутные воспоминания. В них была такая же теплая пасмурность, такие же лужи и грязный, талый снег.
10.4
Трудно сохранять достоинство. Но увлечение мелочами позволяет забывать о нем.
Китайцы наглеют. Произошел великий раскол, история сделала ход конем.
А я наклеиваю фотографии.
11.4
Скандал в Эрмитаже.
Устроили полулегальную выставку четырех «левых». Директора сняли. Кого-то исключили из партии, кого-то будут судить «товарищеским судом».
А. была в запасниках Русского музея. Там множество полотен Кандинского, Малевича, Филонова. Служащие запуганы. Фотографировать ничего нельзя, записывать ничего нельзя.
Искусство, оказывается, так могущественно!
3.5
Андрей Битов на глазах становится знаменитостью. Когда-то Борис Понизовский сказал: «Битов будет хорошим советским писателем!» – так оно и выходит.
8.5
«Гамлет» Козинцева. Всё в Смоктуновском. Он родился Гамлетом. Но Эйзенштейн сделал бы «Гамлета» получше.
Текст в переводе Пастернака, – его имя в титрах. Своего рода публичная реабилитация.
15.5
Похоронили Тоню.
Удручающая повторяемость. То же Охтинское кладбище, тот же гроб из сырых сосновых досок, покрашенный розовой краской, та же ленивая сонная лошадь, запряженная в грязную телегу, те же лужи на кладбищенской дороге.
Женщина с грубым крестьянским лицом и щербатым ртом. Командует: «Ставьте сюда! Разверните! Ногами вперед! Ногами вперед!» На панихиде в церкви держала свечку и крестилась истово. Когда телега тронулась, стала хватать всех за руки: «Подайте, Христа ради! Я же и цветы подносила, и крышку направляла!»
Поминки. Bсe пьют, жрут и не думают о покойнице.
Вечером – гости. Мочалов и Слепакова.
Нонна тискала Филимоныча, читала стихи и пела песни. Мочалов тоже читал, но меньше. Потом был разговор о современном искусстве. Наши взгляды разошлись. Жаль.
20.5
Выборг. Музей города. Весь он размещается в одном небольшом зале. Рядом с залом маленькая комнатушка. Здесь за двумя сдвинутыми вместе столами лицом друг к другу сидят директор музея и его секретарша. Директор – отставной военный, глупый человек. Секретарша – красивая девушка с губами Софи Лорен, коричневый свитер плотно обтягивает ее тонкую талию и высокую грудь. Секретаршу зовут Светлана.
Брожу по городу и размышляю: такая девушка не может быть свободной, быть может, она даже замужем.
Покупаю два билета в кино и возвращаюсь в музей. Директора нет. Светлана читает книгу. Она сразу соглашается – я должен ждать ее у входа в кинотеатр.
Фильм посредственный, с потугами на современность. Светлана иронизирует, я тоже. Полное взаимопонимание.
После кино гуляем по городу. Я спрашиваю ее: «Как мне вас звать? Светлана? Света? Может быть – Сюзи? Что вам больше нравится?» – «Последнее», – отвечает она. Итак – Сюзи. Кроме всего прочего, у нее красивые глаза – серо-коричневые, чуть-чуть звериные, диковатые. Вообще в ее лице есть что-то простонародное, и ей это идет.
Она живет в высоком финском доме рядом с портом. Прощаясь, я поцеловал ей руку. Она смутилась и покраснела.
Возвращаясь в гостиницу, я думал все о том же: такая девушка, и совершенно свободна! Странно, право.
28.5
Лес. Деревья-красавцы и деревья-уроды. Береза обвивает сосну, льнет к ней всем телом. (Любовь деревьев похожа на человеческую.) Сломанные ветром елки, лежа на земле, продолжают жить, тянутся ветвями вверх, к свету.
На улицах вдруг появилось множество красивых женщин. С голыми руками и шеями, в коротких, обтягивающих зады юбках. Знать, лето уже началось.
30.5.
Девушка-работница шпаклюет цоколь дома на площади Ломоносова. На ней грязные, измазанные известкой, но модные брючки. Волосы не покрыты. Изящная прическа сделана с большим искусством и, видимо, тщательно оберегается. Когда девушка нагибается, на затылке видны многочисленные шпильки и заколки, поддерживающие это сооружение. Все прохожие заглядываются, и девушке это приятно.
4.6
У набережной в мелкой воде стоит лосиха. Толпа зевак. Останавливаются машины. Лосиха стоит совершенно неподвижно, как бронзовая, – смотрит на толпу. К ней пытаются подплыть на лодке. Она отходит в сторону, высоко подымая ноги и показывая широкие копыта. Снова застывает.
По городу ходят люди с охапками сирени и черемухи. После дождя сладко пахнет землей и молодой травой.
7.6
Костя К-инский. «Нет поэта, кроме Бродского, и я, Константин К-инский, пророк его на земле!»
Помешан на стихах, прекрасная память (без запинки прочел большой кусок из моих «Осенних страстей»). Последние мои стихи ему не понравились, сказал – холодные.
24 года. Нечесаная шевелюра. Светлые, полубезумные глаза. Третий раз женат. Последняя жена ужа пыталась покончить с собой.
Рядом с ним я выгляжу добропорядочным обывателем.
13.6
Два типа «выходцев из народа». Одни выходят и признаются, что вышли, – становятся интеллигентами. Другие тоже выходят, но не признаются в этом и ломают комедию. Есть еще не «выходцы», но заигрывающие, вроде Ильи З.
Не терплю общества литераторов. У меня начисто отсутствует инстинкт стадности. Предпочитаю компанию елок и берез.
14.6
В три часа ночи ехали на такси по городу. Ярко освещенные солнцем, почти дневные улицы были совершенно пусты. Будто город внезапно вымер, но все осталось на своих местах. Выжили только дворники, и они, как ни в чем не бывало, подметают тротуары.
20.6
Приснился пухлый розовый младенец с седой стариковской бородой. Было чувство любопытства и отвращения.
24.6
Выборгский музей. Сюзи в черном узком платье, рот накрашен, глаза подведены, волосы перехвачены шелковой черной лентой. Она разговаривает по телефону, в голосе ее игра, она загадочно и многозначительно улыбается.
Приходит служитель музея и просит ее напечатать несколько подписей к фотографиям – в музее расширяют экспозицию. «Не буду я ничего печатать! – капризничает Сюзи. – Не хочу! Нaдoeлo!»
Однако печатает. Я ей помогаю – обрезаю бумагу ножницами. «Вы сегодня вечером свободны?» – «Да, но только до половины восьмого».
Ресторан выборгского вокзала. На столе коньяк, шампанское и конфеты. Подходит официантка, и Сюзи долго разговаривает с нею о каких-то своих делах, разговаривает полунамеками, как с хорошей знакомой. Ровно в половине восьмого Сюзи уходит. Я сижу один и пью коньяк с шампанским. Потом иду в гостиницу и заваливаюсь спать.
Ночью проснулся от каких-то жутких звуков. Их издавал сосед по номеру. Никогда еще я не слышал столь художественного и трагического храпа.
Встал рано и долго ходил по утреннему городу, пришел к дому Сюзи. Была половина девятого – в это время Сюзи должна идти на работу. Сел на скамеечку, стал ждать. Прождал целый час – Сюзи не появилась.
Пришел в музей. Директора нет, Сюзи сидит на своем месте и печатает на машинке. «Каким образом вы здесь оказались?» – «Я ночевала у подруги!» – «Бросьте печатать, пойдемте погуляем!»
Сюзи послушна. Идем гулять.
Проходим мимо парфюмерного магазина. «Хочу пудру!» – говорит Сюзи. «Какую пудру?» – «Немецкую, в этом магазине продается».
Заходим в магазин, и я покупаю ей пудру.
Сидим на вокзале и ждем поезда. «Я пойду в туалет, мне хочется покурить», – говорит Сюзи. «А здесь разве нельзя?» – «Здесь неудобно, я стесняюсь курить на людях». – «Чего стесняться-то?» – «Да так, знаете, увидит кто-нибудь из знакомых…» – «Ну и что?» – «У нас провинция, у нас не любят, когда девушки курят».
Прощаемся на перроне. Я целую ее в губы. Она не сопротивляется.
Поезд трогается. Я машу ей рукой.
Поезд набирает скорость. Я смотрю на нее в открытое окно. Она стоит на перроне одна – высокая, стройная, рыжеволосая девушка двадцати одного года от роду. Месяц назад я не знал, что она существует.
29.6
Утром пищу стихи и с отвращением думаю о предстоящих служебных делах. Днем эти дела засасывают меня, и я забываю о стихах. И так все время: вверх – вниз, вверх – вниз. Качели.
6.7
Приехал в Выборг со студентами. Пришел в музей – на месте Сюзи сидит незнакомая девушка. «Простите, а где же Светлана?» – «Она уволилась, но иногда она еще приходит сюда».
Сюзи встретил во дворе. На сей раз платье было синее (с рыжими волосами очень недурно).
– Почему вы уволились?
– Уезжаю.
– Куда?
– Неважно.
– Я надеюсь, что сегодня вечером вы совершенно свободны.
– Нет, не совершенно, только до восьми часов.
– Неужели вы не подарите мне хоть один вечер целиком?!
– Подарю. Только не этот.
– Ну завтрашний, например!
– Завтра я вообще занята.
– Чем же, если не секрет, вы будете заняты?
– Я буду кататься на лодке. Меня пригласили.
– Но может быть, вы откажетесь?
– Не могу. Неудобно.
Да восьми часов сидела со мной в ресторане и курила сигареты, которые я привез ей из Ленинграда. Я вдруг заметил, что у нее очень худые кисти рук.
– Ужасные руки, правда? – сказала Сюзи. – Они всегда такие были, не знаю почему.
7.7
Лежу на кровати в своем номере и думаю о Сюзи. Она где-то с кем-то катается на лодке. Черт знает что!
Сажусь за стол и пишу ей письмо. Иду на почту и отдаю письмо девушке, которая выдает письма до востребования. Потом хожу по улицам и всматриваюсь в проходящих женщин – в каждой мне кажется Сюзи.
Опять высокий финский дом у порта. Поднимаюсь по лестнице, нахожу квартиру 33, звоню. За дверью долго бренчат ключи. Наконец дверь открывается. Женщина лет сорока с простоватым, но приятным лицом. Похожа на Сюзи.
– Здравствуйте! Я к Светлане. Она дома?
– Нет.
– А вы не скажете, когда она придет?
– Нe знаю. Ничего не знаю.
– Разве Светлана не живет уже здесь?
– Да почти не живет. Вчера вот приходила.
– Вы ее мать?
– Да.
– Это правда, что она уволилась из музея?
– Не знаю. Она мне ничего не говорила. Может быть, и уволилась!
Пауза. Она стоит в дверях и с любопытством меня разглядывает. Потом говорит со вздохом:
– Светлана пошла по плохой дорожке. Никого не слушает. Делает, что хочет. В музее ее недавно разбирали на собрании…
– А что она натворила?
– Да так. Плохо относилась к сотрудникам. И за аморальное поведение… Вы, наверное, Алексеев?
– Да.
– Я читала ваше письмо и хотела написать вам. Плохо у нас со Светланой. Дома не ночует. Мы не знаем, где она, с кем она. Сегодня вот моя мама ходила, узнавала. Живет она с каким-то военным…
– Живет, а замуж не выходит?
– Да, замуж не выходит.
– А этот военный, наверное, женат? У него дети есть?
– Не знаю. Адрес только знаю. Хотите, я его вам дам? Сходите туда.
Я записываю адрес. Опять пауза.
– Простите, что я вас побеспокоил! Но Светлана ведет себя очень странно. Мне ничего не оставалось…
– Ну чего уж там! Заходите, я буду рада!
Выхожу на улицу. По гранитной лестнице подымаюсь на холм. Солнце садится за крыши домов. Пароходные дымы рвет ветер.
– И прекрасно! Какое право имею я на жизнь этой девчонки? Зачем я ей? Так – «приятно поговорить с умным человеком»!
8.7
С утра занимался служебными делами, вместе со студентами добывал деревянные рейки, необходимые для обмеров.
Деревообрабатывающий комбинат. Директор в обеденный перерыв удит рыбу (озеро рядом). Подбираюсь к директору, перескакивая с камня на камень, и сую ему бумажку, полученную в горисполкоме. Он кладет ее на колено, подписывает и, не сказав ни слова, продолжает удить рыбу. Возвращаюсь на комбинат и отдаю бумажку главному инженеру. «Главный» – молодой человек сугубо интеллигентной наружности. Очень любезен – польстило, что «архитекторы из Ленинграда».
Сюзи встретил, подходя к музею.
– Зачем вы это сделали? – спросила она, зло сощурив глаза.
– Сюзи, хватит валять дурака! – сказал я, тоже разозлившись. – Если я вам не нужен, скажите прямо, а если нужен – извольте, я пробуду в Выборге еще две недели.
– Но меня в Выборге не будет! – сказала Сюзи.
– Значит, я вам не нужен.
– Я этого не говорила, просто мне необходимо уехать.
Идем на почту, и Сюзи получает мое письмо. Она читает, а я слежу за выражением ее лица. Прочитав, она некоторое время смотрит куда-то вдаль. Потом глубоко и жалобно вздыхает.
Договариваемся встретиться завтра вечером. Я пытаюсь поцеловать ей руку, но она испуганно отдергивает ее.
– Что с вами, Сюзи?
Сюзи молчит, глядя в сторону. Уголки ее рта чуть подрагивают.
9.7
Она пришла, опоздав минут на 20. В том же синем платье, в пальто нараспашку. На голове капроновый платочек, белый с крупными синими горохами. Концы его обмотаны вокруг шеи. Этот по-крестъянски повязанный платочек очень подходит к ее звериным глазам. Сюзи в сельском стиле.
Я фотографировал ее в городском саду около библиотеки Аалто. Позировала она с удовольствием.
– Сюзи, поверните голову налево! Сюзи, посмотрите на меня! Сюзи, не будьте букой, улыбнитесь!
Сюзи послушна.
Сидим в ресторане гостиницы. На столе все то же шампанское с коньяком (Сюзи обожает эту смесь). Она говорит, я слушаю. Она на редкость откровенна.
Родилась она на фронте. Отца нет. После школы работала машинисткой на Сетевязальной фабрике. Потом перешла в музей. Мать ее не любит, она мать – тоже. «Мы чужие люди. Она обыкновенная мещанка. Бесится. Все женщины бесятся в 45 лет. Завидует, что я молодая. Они с бабушкой жить мне не дают – требуют, чтобы я приходила домой в 5 часов!» Матъ пожаловалась директору музея. Устроили собрание, стали спрашивать у Сюзи, почему она не ночует дома. Она сказала: не ваше дело! Не имеете права вмешиваться в личную жизнь!
Ее возлюбленный очень любит своего ребенка. А то бы он давно на ней женился. И она не настаивает: действительно – у ребенка должен быть отец. Но теперь из-за всей этой истории ей приходится уезжать (тяжкий вздох).
Далее – об искусстве. Сюзи очень любит театр, но в Выборге нет ни одного, и она от этого просто страдает. Кино она тоже любит. (Очень понравился фильм «Как быть любимой», но публика вела себя ужасно, хотелось уйти!)
Берем еще бутылку вина. Пьем за брови Сюзи, за глаза, за ноздри, за рот, за зубы Сюзи – они у нее ровные и белые – где теперь найдешь такие зубы?
– Про волосы-то забыли? Они у меня не ахти какие, но всё же!
Пьем за волосы Сюзи, за уши и так далее.
– Хочу в Москву! – она с чувством. – Очень хочу в Москву! Алексеев должен вывести Сюзи в свет!
Обсуждаем, как это сделать.
– Вам надо учиться, Сюзи, – говорю я, – поступайте в вуз!
Сюзи явно не хочется учиться.
– Хочу быть нaтypщицeй! – говорит она. – Сколько платят натурщицам?
– Голым – рубль в час.
– Мало! За пять я бы постояла. Но меня все равно не возьмут – слишком худая, все кости торчат. И грудь у меня великовата. Когда одета – ничего, даже красиво. А так она отвисает. Такую грудь рисовать неинтересно… Хочу иностранную сигарету!
– Ну какую, например?
– Кемел!
– Таких здесь не бывает.
– Все равно хочу!
В ресторане начинаются танцы. Среди танцующих женщина в зеленых брюках. Сюзи смотрит на нее и презрительно дергает губами – она бы никогда не пришла в ресторан в зеленых брюках! Она знает, как вести себя в обществе!
– Скажите, Сюзи, – спрашиваю я, – если бы я был свободен, вы бы вышли за меня замуж?
– Вышла бы!
Ресторан закрывается. Гардеробщик сам приносит ее пальто. Выходим нa улицу. У входа в гостиницу стоят какие-то люди.
– Идите, – говорит мне Сюзи, – я вас догоню.
Иду вперед, останавливаюсь на углу, жду. Проходит минут десять. Возвращаюсь. Сюзи целуется с каким-то парнем. Подхожу к ним вплотную. Они меня не замечают.
– Вы что-то долго, Сюзи! – говорю я.
Сюзи оборачивается:
– Простите! Я только прощусь с ним!
– Извините, пожалуйста, – говорит парень, – но я ее очень давно знаю. Я хочу с ней проститься.
Подходят еще двое, один в штатском, другой – пехотный капитан. Оба пьяные. Хватают парня за руки, оттаскивают его от Сюзи. Капитан орет мне:
– Чего стоишь? Твою девку у тебя на глазах уводят, а ты стоишь! Где твое мужское самолюбие? Эх, дать бы тебе!
Он хватает меня за грудь. Я отталкиваю его и ухожу.
12.7
Приехал в Питер. Печатаю фотографии.
В тускло-красном свете на бумаге возникает лицо Сюзи. Надменное, хмурое, хитрое, улыбающееся. Снизу, в профиль, сверху, анфас.
Сюзи в платочке и Сюзи без платочка. Сюзи, смотрящая в сторону, и Сюзи, уставившаяся прямо на меня.
Снова Выборг. Снова дом у порта. Ее мать дома. Она приглашает зайти. Вхожу, осматриваюсь. Горки подушек на кровати, ковер с оленями, кружевные салфеточки на диване, искусственные цветы в дешевых стеклянных вазочках.
– Светлана уехала?
– Да, вчера вечером… Счастье искать отправилась. Плохо ей здесь было. Мать ее заставляла работать, а она не хотела. Красивой жизни хотела. Учиться тоже не желала. У нее ведь школа не кончена – за десятый класс она не сдала. Поступила в вечернюю школу, да ушла через полгода. Мальчики, танцульки – так и пошло. На Сетевязальной фабрике не ужилась, потому что плохо работала. В музее – тоже. Никого знать не хочет, все у нее плохие. На собрании с ней разговаривают, а она отворачивается. Мать она и за человека не считает. А что я ей плохого сделала? Не позволяла мужиков в дом водить?
– А как она думала дальше-то жить?
– Да как! Замуж выйти и иметь любовника! Любовника она уже завела, а вот мужа еще не успела! Найдет дурака какого-нибудь. Мало ли дураков-то!
– Вы ей говорили, что я приходил?
– Да. Но она не призналась. Не знаю, говорит, никакого Алексеева! Не знаю, и все!
– Да, странно.
– Вот именно! Врет она на каждом шагу. Изовралась вся. Всем врет!
Пауза.
– Мне пора, – вздыхаю я, – пойду уж. Всего вам хорошего!
В дверях она останавливается и снова жалуется на дочь. Но говорит она спокойным голосом. И будто ей даже приятно, что дочь у нее такая пропащая.
– В Волгоград поехала. Taм, говорят, много высоких красивых мальчиков. Пусть едет!
Вечером с Л. пили вино в номере. Пьяные отправились гулять. Поднялись на крепостную башню, по наружной лестнице залезли на купол: внизу были светлые пятна воды и огни города, в воде отражалось оранжевое небо. Было совсем не страшно смотреть вниз.
Когда ложились спать, Л. сказал:
– Да, совсем забыл! В пятницу вечером тебе звонила какая-то девушка. Я ответил, что ты уехал и спросил, что передать. «Ничего, – сказала она, – теперь уже ничего не нужно передавать», и положила трубку.
13.7
Не могу ходить по городу.
Смешно. Вздорная, испорченная девчонка – а вот поди ж ты!
14.7
Тихий, пасмурный день. Теплый сонный дождичек.
И опять фотографии Сюзи. Я смотрю ей в лицо, но она меня не видит. Она никогда меня не видела. Она смотрела не на меня, а сквозь. За моей спиной ей мерещились сверкающая лаком машина, рестораны, море коньяку с шампанским и горы американских сигарет.
Впрочем, ей нравились мои письма. Это несомненно.
15.7
Последний аккорд. Разговор с Евгенией Васильевной – сотрудницей музея. О ней Сюзи говорила хорошее.
– Светлана поступила к нам год назад. Через месяц пришла с плачем какая-то женщина – ее сын несколько дней не ночевал дома, а перед этим его часто видели со Светланой. Потом Светланы несколько дней не было на работе – она делала аборт. Потом в музей пришел милиционер и потребовал, чтобы Светлана встала на учет как больная венерической болезнью (три месяца она ходила в диспансер). Потом пришла Светланина бабка и сказала, что за ней нужно присматривать – она часто не ночует дома и вообще плохо ведет себя. Потом пришли какие-то девушки и удивлялись: кого вы приняли! Она же сущая хулиганка – пьет водку, курит, ругается матом! Наконец устроили собрание. На него пригласили мать и бабку. Мать сказала, что за пачку сигарет и рюмку водки Светлана отдается каждому встречному. Светлана заявила, что у нее есть любовник, а замуж она не хочет, потому что это мещанство. Директор уволил ее и сказал, что если она не уедет сама, он добьется, чтобы ее выселили.
– Но в чем же дело? Почему она такая? Она ведь не глупа, читает книги… Я бы сказал, что она интеллигентна!
– Видите ли, она воспитывалась в дурной семье. Отца нет. Мать водила в дом мужчин, жила для себя и на дочь не обращала внимания. Светлана много знает и обо всем имеет свое мнение. Она умнее и образованнее своих подруг. Нельзя сказать, что ее испортила среда, она сама себя испортила. От какого-то отчаянья. Она озлоблена на всех, на весь мир – всё презирает. Ласкают ее только мужчины, вот она к ним и льнет. Она мне говорила: «Противно! Все парни твердят одно и то же – у тебя красивые глаза! У тебя красивая фигура! – надоело!» Я ей: «Светлана, тебе надо влюбиться по-настоящему!» А она: «Не могу! Мне никто не нравится!» Ее мать – плохая женщина. Как могла она при всех, на собрании, сказать такое о родной дочери! Может быть, и хорошо, что Светлана уехала.
Новый музейный стенд. Подписи под экспонатами те самые, которые печатала Сюзи. Время от времени она клала подбородок на каретку и, шевеля губами, читала написанный от руки текст. Иногда она вздыхала, как вздыхают дети после плача – в два придыхания. И подбородок ее трогательно вздрагивал.
16.7
Солнце садится. У окон гостиницы носятся стрижи. Снизу, из ресторана, доносится разухабистая и нестройная музыка. Включил радио – хоронят Мориса Topeзa.
Надо написать письмо. Тщательно написать, чтобы она все поняла. Может быть, еще можно что-нибудь сделать. Пропадет девка.
22.7
На Невском в нарядной, оживленной толпе среди хорошеньких голоногих девушек бредет маленькая, изогнутая в три погибели старушонка. Толпа обтекает ее, как река обтекает остров.
Надо настроить себя на большую поэму. На главную, пора уже.
23.7
Вдвоем с отцом достраиваем дом – обшиваем каркас вагонкой. Когда забиваешь гвоздь в бревно, оно поет, звенит, как камертон. Сначала звук низкий, потом все выше и выше.
Доски чистые, желтые. На солнце они сверкают, как латунь.
24.7
Во сне я целовал руки какой-то незнакомке в меховом пальто «под леопарда». Потом появилась Майка – и я вдруг почувствовал, что она мне дороже и нужнее всех женщин.
Интеллигентские нежности. После часа физической работы на ладонях вздуваются пузыри. После трех часов пузыри лопаются, и обнажается красное, свежее мясо.
30.7
В молодости Пабло Неруда писал хорошие стихи. В зрелые годы им овладела гигантомания. Его поэмы невероятно многословны, тяжеловесны и скучны. Все та же «установка на великую литературу».
Вторая мировая война и искусство. Неужели и впрямь, для того чтобы создавать духовные ценности, человечество время от времени должно низвергаться в такие мрачные пропасти?
Из разговора Гали Н. по телефону: «Организму не свойственно, когда его режут».
1.8
Бёлль. «Глазами клоуна». Утомляют рассуждения о католицизме. Ганс Шнир искусственен, хотя и искусно сделан.
Афоризм: «Если наш век заслуживает какого-либо названия, то его надо назвать веком проституции».
Написал семь стихотворений о Сюзи.
2.8
Поезд Ленинград – Феодосия.
Проводники – молодые, нагловато-вежливые парни. Вечером они отдыхают от культуры: из их купе доносится спокойный витиеватый мат.
Или это я где-то вычитал, или сам придумал: человечество делится на тех, которые смотрят в окно, когда едут в поезде, и тех, которые не смотрят; последних большинство.
Россия и Азия. Татарщина. Национальная замкнутость. Петр и прорыв на запад. Сталин вернул нас востоку. Так мы и болтаемся все время между Европой и Азией.
Хорошо стоять у открытого окна, когда поезд под дождем идет через лес.
3.8
Рано утром – Вязьма. Гудки маневренных тепловозов, голос диспетчера из громкоговорителя.
Пошли смешанные леса. Двухскатные кровли сменились четырехскатными. После Брянска совсем украинский пейзаж. Чем дальше к югу, тем больше гусей и уток, хотя воды все меньше. Птица кишит в каждой луже.
Блаженство – лежать на верхней полке и смотреть через открытую дверь в окно коридора. Засыпать, просыпаться, снова засыпать и снова просыпаться. И видеть все тот же узор полей, скирды, заросшие кустарником, овраги и белые сёла вдалеке.
4.8
Крым. Степь. Поля до горизонта. На горизонте синеют горы. Подъезжаем к Севастополю. Меловые срезы гор. Пещеры. Туннели. Наконец вокзал. По длинной лестнице подымаемся в город. Главная улица – «сталинский ампир». Руины собора. В соборе похоронены великие адмиралы. В бухте вода мутная, желтовато-зеленая. Военные корабли. Вечером – Херсонес. Развалины византийского храма. Волны бьются в его основание. Рядом на мысу – большой колокол на двух массивных столбах. Майка сидит на обломке мраморной капители и что-то поет – мне не слышно что: море шумит. Море занято своим делом и не обращает на нас внимания. Оно прекрасно.
У древней крепостной стены ждем автобус. Подошли две собаки, посмотрели на нас и ушли. Три женщины – совсем девочка лет шестнадцати, постарше – лет двадцати и пожилая – лет пятидесяти. Молодые дурачатся, поют, хохочут. Пожилая любуется ими. Темнеет. Море шумит.
Почему так волнует все античное здесь, в Крыму? Прародина нашей культуры. Всё европейское у нас от Греции. Через Византию. А то жили бы мы с медведями в лесах и питались бы клюквой. Князь Владимир взял Корсунь. Ходили и к Царьграду. Но Кирилл и Мефодий были греческие монахи.
5.8
В Севастополе нет спасения от туристов. У каждого памятника фотографируются. Задние стоят, передние сидят на корточках. У всех напряженные, каменные лица. Сфотографировались – и бегом дальше.
Одна из туристок сказала, поглядев на мою бороду: «Людоед какой-то!»
Черный жучок с оторванной лапкой пытается переползти широкую асфальтированную аллею. Ползти ему трудно, его заносит вбок. Он обречен – его растопчут. Но ползет, надеется.
Дорога на Ялту. Въезжаем в горы. Через каждый километр столб с табличкой: «Охота только по особому разрешению». Кому дают это разрешение?
Байдарские ворота. Синяя стена моря. Вверху она сливается с небом. Ощущение полета. Внизу, в невероятной глубине, полоса берега с белыми домиками. Белая церковь на скале.
К Симеизу шоссе идет на большой высоте. Над ним нависают голые зловещие скалы. Море внизу, и его очень много. По нему ползут катера.
6.8
Утром один гулял по Симеизу.
Запахи. Деревья и камни. Камни и море. Деревья, дома и горы. Дорога и деревья. Сотни комбинаций.
Кромка прибоя, сверкающая на солнце. Далекий белый пароход. Местами кипарисы стоят сплошной стеной. Зеленая вода у «Дивы». Лестницы, ведущие куда-то вниз и куда-то вверх. Подпорные стены из серого камня.
Первое купание. Сложный комплекс знакомых ощущений. Томительное наслаждение. Сравнить не с чем.
Кто-то убил морского кота. Сбежался весь пляж. Стоят, ахают. Кот весь в колючках – этакое страшилище. В глубине моря, кроме рыб, никто не видел его безобразия, а теперь его вытащили на посмешище – дергают за хвост, щупают колючки.
Разговор хозяек.
– Сказали – на две недели, а уехали через день!
– А у меня еще хуже! Каждый день стирали, гладили моим утюгом, шили на моей машинке и ночью сидели до трех – электричество жгли. Еле дождалась, когда уехали!
Ночь. Млечный путь погружается в море. На севере мы забываем, что есть звезды.
7.8
В морской воде тело кажется совершенно белым, полупрозрачным. Интересно плавать с маской и наблюдать за ныряльщиками. Когда они погружаются, их не видно – белый столб из пузырей. Движения у плавающих тоже забавны, особенно у женщин.
Запах гальки на берегу.
Воробьи в столовой прыгают по тарелкам, склевывают остатки пищи, дерутся, кричат. Воробьиха кормит великовозрастного птенца. Он с нее ростом, но потолще. Нахально разевает клюв. К столам не летит – сидит на перилах ограды и ждет. Маменькин сынок.
Строгие вертикали кипарисов придают пейзажу некий геометризм.
9.8
Купание с маской среди камней. Подводные ущелья и гроты. Водоросли разных оттенков – от синего до красного. Стаи мелких рыбешек. На дне рыбы покрупнее – завидя пловца, они стараются скрыться.
Хорошенькая и кокетливая девушка на пляже. Кокетливо ходит, кокетливо сидит, кокетливо разговаривает и кокетливо молчит. Кокетство ей идет.
Вечерний пляж. Пусто. У самой воды на стуле сидит старик с седой бородой. Он читает газету.
Шум прибоя.
Пароход, идущий к Севастополю, освещен вечерним солнцем. Но у нас уже сумерки – горы заслоняют солнце.
10.8
У кипарисов много общего с морем – та же вневременность, то же величие. Кипарисы напоминают о вечности, недаром их сажают на кладбищах. Кипарисы молчаливы, они не шумят и не шелестят под ветром. Они обтекаемы. Их форма законченна и монументальна, как у египетских обелисков.
Хорошо, когда кипарисы стоят ровной плотной стеной. Хорошо, когда на вершине голого рыжего холма стоит один острый черный кипарис. Великолепны старые кипарисы с толстыми, разветвленными и побелевшими от времени стволами.
На берегу Понта читаю Светония. Пути к власти и способы ее удержания – теоретическое пособие для начинающих диктаторов. Трогательные подробности: «Бескорыстия он не обнаружил ни на военных, ни на гражданских должностях… Впоследствии народ воздвиг на форуме колонну из цельного нумидийского мрамора, около двадцати футов вышины с надписью «Отцу отечества».
Волны Понта бьются о скалы с поразительным упорством. Двадцать веков – как один день. Может быть, ничего и не было вовсе? Было только море.
Проплыл вокруг «Дивы». Был момент, когда скала закрыла берег – пляж и людей. Остались море и отвесная каменная стена. Стало страшно. Настоящее одиночество – вещь неприятная.
Природа иногда показывает нам волчьи зубы, хотя мы уже привыкли считать ее ручной.
Крымские татары основали свою столицу вдалеке от моря. Море пугало их. К тому же они не были мореплавателями. Что чувствовал Колумб спустя месяц после отплытия? Потерпевших кораблекрушение часто находят безумными. Лем в «Солярисе» неспроста сделал море живым существом, непостижимым и бесконечно чуждым человеку.
11.8
Цвет моря при свежем ветре. У берега – охра, далее – светлый изумруд, потом чистый кобальт и на горизонте – ультрамарин.
Очередь в столовой. В основном – московская и ленинградская интеллигенция. С Украины народ попроще – им тут близко и недорого. Раздражает мягкое «г». Интонации украинской речи довольно однообразны. Растягивание гласных кажется манерным. Женственный язык. Все украинки ужасно тараторят. У всех украинцев толстые черные брови, хотя волосы бывают и светлыми.
Несмотря на постоянное присутствие модно одетой столичной публики, местные жители одеваются так же, как в любой украинской или русской деревне. Кастовость? Или сила инерции?
12.8
Ночью несколько раз просыпался и слушал, как шумит море. С веранды был виден пароход. Как яркий большой светляк, он полз по черной стене в сторону Ялты.
Черный лебедь в алупкинском парке. Перья его похожи на лепестки георгина. Небрежно, с чувством собственного величия, он подбирает кусочки печенья.
13.8
Группа поэтов, вылезших на свет божий в середине и конце 30-х годов, – как хилый осинничек на месте вырубленной корабельной рощи. Сейчас они ходят в мэтрах. Поучают, усмехаются, пишут мемуары.
Поэзия – здание, которое вечно строится. Каждый последующий кладет свой кирпич на кирпич предыдущего. Но для этого надо обладать соответствующим ростом. Те, которым не дотянуться, кладут свои кирпичики рядом, искусственно утолщая стену. Это ненужный расход материалов. В наш век толстые стены – вообще анахронизм.
14.8
Сон.
Пришли к могиле Тони. Могила совсем неглубокая, тело едва присыпано землей, и земля колышется. «Смотрите! – говорю. – Тоня живая! Ее живую похоронили!»
Тут Тоня встает и отряхивается от земли. Она девочка лет двенадцати, но меня это не смущает. Я беру ее за руку, веду и говорю всем встречным: «Это Тоня! Правда, удивительно? Она очень помолодела там, на кладбище!»
И все удивляются.
Потом я ловил рыбу в Америке, в узкой неглубокой речке с красной водой. Ловил на донку и поймал крупного подлещика. В Америку я попал как-то случайно, и меня все время беспокоило, что я незаконно ловлю рыбу в Америке.
Проснулся и долго приходил в себя. Некоторое время сон был сильнее яви – он стоял перед глазами. Потом краски пожухли, детали смазались.
Хорошо бы изобрести фиксаж для снов, чтобы они не забывались. Впрочем, врачи говорят, что помнить сны вредно – перегрузка для мозга.
Много прекраснейших, редких снов пропало у меня безвозвратно.
Авангардистская поэзия Западной Германии. Слово-фетиш. Графика стиха (смешение искусств).
Все это, быть может, нужно пройти по дороге куда-то. Но куда?
Тезис: «Современный поэт идет не от мысли к форме, а от формы к мысли и чувству».
Не всегда, но верно.
15.8
Луна. Лунный след на море. Красные огни рыболовного катера.
Искал на небе Полярную звезду. Нашел и обрадовался.
16.8
Майка сказала мне: «Хемингуэй работал каждый день и чувствовал себя неспокойно, если день был бесплодным, а ты обленился».
С восемнадцати до тридцати лет я был совсем как Хемингуэй. А теперь ясно, что это необязательно, Высшее удовольствие – работать для себя: пиши, что хочешь, как хочешь и сколько хочешь. Не хочешь – не пиши.
Майка верит, что меня будут когда-нибудь печатать.
И все же – будем работать. Потому что надо. НАДО!
17.8
Прощание с подводным царством. Осторожная и игривая креветка. Мудрые крабы в расщелинах. Большой невозмутимый морской ерш. Какая-то красная рыбка с полосатыми плавниками.
Забавы с прибоем. В воде все превращаются в младенцев. Визг и хохот. Мальчонка лет четырех с надувным поясом. Прибой играет им, как мячиком. Мальчонка не боится – смеется.
Последняя очередь в столовой, – сегодня она на редкость длинная. Охотимся за подносами, потом – за чистыми стаканами. Здесь нужны ловкость и нахальство. Слюнтяи обречены на голодную смерть.
К нам повадился ходить хозяйский котенок. Он совсем тощий (все кошки в Крыму тощие – их не принято кормить). Купили колбасы и накормили его до отвала. Бедняга потрясен такой щедростью и просто изнемогает от благодарности.
Вдруг выяснилось, что он не хозяйский, а так – ничей, приблудный. Жалко его. Уедем, и он снова будет голодать.
18.8
Проснулся рано. Лежал и думал о Блоке. Эталон поэта, данный однажды, чтобы знали, с чем сравнивать.
В самолете – как у зубного врача. То же кресло. Та же беспомощность и ожидание чего-то неприятного. Стюардессы в роли дантисток: Пристегните ремни! Не курите! Не вставайте!
Соседи играют в карты. Есть такая порода людей, которые во всех видах транспорта обязательно играют в карты. Или в домино. Даже в автобусе, когда ехали в Симферополь, – играли. Играли, не обращая никакого внимания на красоты природы и на тряску. Эти милые люди приехали в Крым откуда-нибудь из Свердловска, из Хабаровска или Магадана, чтобы перекинуться в картишки.
– Внимание! Мы летим на высоте 9000 метров! Скорость – 850 километров в час! Температура воздуха за бортом – минус 25 градусов! Пролетаем Харьков!
В окне видны облака, освещенные луной. Мы значительно выше.
Внуково. Ослепительно белые тела самолетов, вырванные из мрака прожекторами.
Лефортово. Высоченный, совсем взрослый Марк в длинном халате. Рассказывает новости: Айхенвальд пишет сейчас прекрасные стихи, Самойлов – тоже, а Коржавин пишет ерунду – исписался.
19.8
Проснулся и не сразу понял, где нахожусь. Подошел к окну: туманное, но солнечное утро, дворники подметают тротуары. Москва.
Огляделся. На стенах комнаты несколько портретов Е. М. в добротной ученической манере. Рука академика живописи Соколова.
Едем в центр. Вот Пушкин. Стоит, понурясь. Преклоняюсь, но без любви. Он чувствует мою холодность и не лезет мне в душу.
Вечер. Сидим на скамеечке у входа во Дворец пионеров. Вдали силуэт университета. Нечто фантастическое, древнеиндийское, невероятно-огромное и нечеловеческое.
Прослушав мои последние стихи, В. сказал: Не шаг, а прыжок вперед.
Браво, Алексеев!
20.8
Читал у Левушки М. Как всегда, он не мог найти слов. Остальные – тоже (плюс действие алкоголя).
22.8
Троице-Сергиевская лавра. Перед собором старушки в черных и белых платочках – все с бидончиками для святой воды.
В углу у трапезной – проходная. В будке за стеклом инок в скуфейке. Перед ним телефон. Видимо – патриаршие покои.
Идет священник. К нему подбегают женщины, о чем-то просят. Священник улыбается, разводит руками и идет дальше. Женщины семенят за ним.
Обрывок разговора: Потом гляжу – выносят чашу, иностранцев выводят на середину и причащают…
Музей лавры. Покровы, пелены, плащаницы, потиры, братины, дискосы, митры, оклады икон. Сапфиры, топазы, аметисты, жемчуг, бирюза, червонное золото. На окнах толстенные решетки. «Седелки» зорко поглядывают на посетителей.
Дорога на Переяславль. Вечерний туман в низинах. Пьяные деревни (все избы покосились).
Переяславская гостиница. Роскошный номер с одной полутораспальной кроватью, со шкафом и с графином воды на столе.
– Забронированный! – с гордостью сказала администраторша, открывая дверь.
Вечерняя прогулка по городу. Грязь, лужи, матерная ругань. Кажется – все мужское население перепилось, хотя и не праздник. Впрочем – суббота. В городском саду играет оркестр.
23.8
Данилов монастырь. Трапезная в порядке – покрыта тесом, побелена. Остальное – почти руины. На стене надпись: НЕ ПОДХОДИТЬ! РАЗРУШАЕТСЯ! В руинах ютится автобаза. Под горкой у пруда – свалка. Валяются надгробия из полированного гранита. Тучи галок вьются над главами.
Горицкий монастырь. Узорчатый кирпич изумительной надвратной церкви. Остатки монастырского сада. Музей. В музее святые мощи из Данилова монастыря. Тут же акт о вскрытии раки в 1919 году. Акт свидетельствует, что мощи отнюдь не святые.
Личные вещи Шаляпина из его усадьбы, реквизированной в 1918 году. На фотографии Шаляпин в лаптях и в косоворотке.
Сидим на холме перед монастырем. Внизу озеро. На прибрежном лугу стадо коров. Издалека доносится прелюд Рахманинова (радио). Безветренно. Пасмурно. Безлюдно. Вдали за озером идет дождь.
Никитский монастырь. Тоже руины. Но строят леса – будут восстанавливать. Рядом с монастырем гигантский макет Москвы – дома в рост человека. Здесь снимают «Войну и мир».
24.8
Ростов Великий. Встали с петухами, пошли к кремлю. Кресты и подзоры ослепительно сверкали. Сквозь массивную решетку ворот было солнце. Обошли вокруг, вошли внутрь, вышли и еще раз обошли вокруг – вздыхали и ахали.
В столовой нарасхват белые булочки. Крестьянки с бидонами и мешками (приехали на рынок) брали по 10–12 штук.
Яковлевский монастырь. Классицизм, петровское барокко. Внутрь не попасть – колючая проволока, солдат с автоматом. Ржавые ребра ободранных глав. На карнизах растут кусты.
Борисоглебский монастырь. Ходим по стенам. В амбразурах лесные дали, поля. Изразцы на фасадах церквей: фантастические звери, всадники, диковинные цветы.
В чайной на полу, загораживая вход, лежит пьяный человек. Его перешагивают. Перешагнули и мы. Когда, пообедав, вышли, пьяный валялся уже на улице – никто не обращал на него внимания.
У южных ворот монастыря – «городской сад». В центре его – гипсовый Ленин, покрашенный серебряной краской. Другой Ленин, чуть поменьше, но тоже серебряный – в садике у автобусной станции. Наконец, третий, опять-таки серебряный, но бюст – в центре самого монастыря.
25.8
Дорога на Ярославль. Автобус набит до отказа. Напрягаю мускулы рук и ног, чтобы удержаться в стоячем положении. Из-за убогих избенок выныривают вдруг фантастические, нездешние башни нефтеперегонного завода.
Умные марсиане захватили страну ленивых, темных людей. То ли марсиане не подпускают туземцев к своей технике, то ли техника и вся марсианская цивилизация туземцев вовсе не интересуют, но они живут себе по старинке в жалких деревянных избушках рядом с этими чудесами из алюминия и нержавеющей стали.
Ярославская художественная галерея. Надпись под картиной: «Неизвестный художник. Портрет неизвестного». Изумительная Корсунская богоматерь: огромный, тщательно выписанный лик с глазами, в которые страшно смотреть, и маленькая, прильнувшая к щеке матери, головка Иисуса.
Волга. Соответствующие эмоции соответствующей длительности и интенсивности. Хотя и не в первый раз ее вижу.
– Волга! Да-а-а, Волга! Неужто Волга?
Церковь Ильи Пророка. Фрески. Иконостас. Все вместе изумляет, подавляет, бросает в дрожь и успокаивает. Низ в полумраке, свет падает на столбы и на верхнюю часть стен. Своды тоже в тени. Зато роспись в куполах и на барабанах сияет как бы внутренним светом, отрываясь и улетая в поднебесье. И оттуда, с небес, грозно глядит Христос.
Церковь в Толчкове. Лес глав с луковицами. Колокольня-девушка (очень уж стройна и мила). Старушка-сторожиха: «Купола-то все золотые были, я помню. А теперь вот только пять. На остальные золота не хватило. Пропили небось. Да и то слава богу – церковь как новая!»
Пешком идем в Коровники. По немощеным пыльным улочкам бродят утки, куры, собаки и кошки. Иоанна Златоуста реставрируют, но не очень ретиво – деревянные леса уже совсем потемнели. Фотографирую. Подходит пьяный парень и спрашивает, почему церковные росписи, когда их замазывают, снова проступают сквозь известку. Рассказываю ему о фреске. Парень слушает, кивает головой. Произносит разнообразные междометия.
Обычная вечерняя неприкаянность в провинциальном городе. Остается только кино.
Путешествия по России утомительны. Много однообразно-неприятного: вечно переполненный транспорт, недостаток гостиниц, дурные дороги, неучтивость жителей.
Приблизительно так писали иностранцы, посещавшие страну в XVIII веке.
Для меня путешествия обременительны необходимостью почти все время быть на людях.
26.8
Садимся на старый смешной пароходик и плывем к Толгскому монастырю. Он стоит на берегу и издалека белеет стенами. Пароходик плывет медленно, и медленно растут эти стены с башнями и главы церквей над ними.
Сей памятник под охраной не состоит и существует сам по себе. Однако он выжил и даже неплохо сохранился. Его приспособили под жилье. Живут даже в крепостных башнях, расширив амбразуры и превратив их в окна. К монастырю примыкает колония для малолетних преступников, и все монастырские жители работают в этой колонии.
Монастырский собор велик и строен, со многими галереями и пристройками. Стекол в окнах нет. Снаружи видны остатки росписей XVII века. Стены собора в толстых трещинах.
Из ворот монастыря видна Волга и высокий правый берег с березовой рощей. Другие ворота выводят в поле: пыльный проселок, несколько старых ив у обочины и синий лес вдалеке.
День неяркий. Солнце за неплотными облаками. Волга гладкая, светлая. Кое-где мерцает рябь. На горизонте растворяется в дымке прозрачный железнодорожный мост.
Вспомнил ежа. Собственно, это был еще не взрослый еж, а ежонок. Вечером, накануне отъезда из Симеиза, сидели на скамеечке в парке. Ежонок, не торопясь, прошел мимо нас по аллее. Я взял его в руки, поднес к фонарю и разглядел. На вид он был обыкновенным, но появление его показалось мне странным. Конечно, это был не ежонок, он только притворялся ежонком.
29.8
Ночная Москва.
Около Энергетического института стоит автобус – студенты собрались за грибами. Корзинки всех сортов и размеров. На углу – скучающий негр. Руки засунуты в карманы. Ему хочется развлечься, но лень ехать в центр. Да и поздно.
Пустой эскалатор метро. Внизу на платформе две парочки в обнимку, третья спряталась в нише. Поезда долго нет – ночью поезда неторопливы.
Опять пустой эскалатор. Опять парочки в тех же позах.
Совершенно пустой ярко освещенный подземный переход. Странно – столько света для меня одного!
На улице Горького все прохожие – иностранцы. Москвичи уже спят.
Несколько машин у перекрестка ждут зеленый свет. Но никто не пересекает им дорогу. Светофор работает автоматически.
Двое пьяных, согнувшись, пристально разглядывают витрину винного магазина.
Фонари горят вполсвета. Ярко светятся изнутри автоматы газированной воды, образуя два редких пунктира по обеим сторонам улицы.
Свернул за угол. Еще парочка. Он целует ей шею. Она откинулась назад, глаза закрыты. Пахнуло сладкими пряными духами.
30.8
С. сказал: Алексееву не хватает только одного – красивой трагической биографии.
Разговор с А. О «ленинградской» и «московской» школах в нынешней поэзии (типичными представителями первой А. считает Бродского, Горбовского и меня, второй – Коржавина, Самойлова и себя), о вреде поклонения факту и правомерности мифотворчества, о том, что надо идти от мироощущения к предметному его выражению, а не наоборот. Читал ему свое последнее. Он слушал напряженно и был взволнован.
Неловко, когда тебя хвалят в глаза.
Устал от Москвы. Хорошо, что живу в Питере. В столице я бы измызгался, затаскался. Первопрестольная полезна мне в малых дозах.
6.9
Снова дача. Срубили сосну, что росла у самого крыльца. Срез пня сразу покрылся смолой. Будто кровь выступила. Загубили живую душу.
Филимоныч растолстел и зазнался. Ужасно стал важный.
8.9
Времена меняются. Когда-то на табличках в скверах писали: «Ходить по газонам строго воспрещается!» или «По газонам не ходить! За нарушение – штраф!» А теперь пишут: «Просим по газонам не ходить».
С величайшим наслаждением перечитал «Родину электрификации». У Платонова детская свежесть языка, как чудо. А слова все старые.
9.9
Касса в гастрономе. Кассирша сидит высоко, и лица ее в окошечке не видно. Видна хорошая высокая грудь в шерстяной, плотно облегающей кофточке. Грудь подрагивает, шевелится. Грудь говорит приятным низким голосом: Ваших три рубля! Не найдется ли у вас копеечка? Платите, следующий!
10.9
Гейне мне близок. Ирония и сюжетность, парадоксы, вульгаризмы, трагическое в комическом и комическое в трагическом.
Днем не могу сидеть дома. Все кажется – там, на улицах, на набережных происходит нечто ужасно важное, что нельзя пропустить.
Волки всегда пожирали агнцев. Волки пожирают агнцев. Волки будут пожирать агнцев. Но всех никогда не съедят. А если съедят – сами передохнут с голоду.
Эти рассуждения не помогают. Я не могу глядеть на волка, перегрызающего горло агнцу. Мне хочется убить волка.
Стараюсь писать для себя. Но все выходит будто напоказ. Сегодня содержательный день. Думаю, вспоминаю, сопоставляю, оцениваю. Сегодня я высоко.
Пора искать новые тропы. Вечная борьба с инерцией.
11.9
Все больше и больше я становлюсь похожим на мечтателя из «Белых ночей». Пассивность моя неизлечима.
Созерцаю закаты, облака – безоблачные закаты и закатные облака, – созерцаю отражение рекламы в мокром асфальте и красивых женщин в автобусах. Я выбрал роль созерцателя. Так легче. Но не так уж и легко. Все эти мучения с совестью осточертели.
Будет еще тысяча прекрасных закатов с облаками и без них. Будет еще десять, двадцать, тридцать апрелей и не меньшее количество ноябрей. Но количество не перейдет в качество. Из состояния равномерного движения меня могут вывести только какие-то особые выдумки фортуны, а она у меня не отличается изобретательностью.
16.9
Гитлеровские сборища всегда были великолепно организованы. Это впечатляло. Это доводило рядового немца до сладких возвышенных слез, до верноподданнического исступления.
Пишу дневник, ловлю время решетом. Будто потом можно будет, перелистав тетрадки, снова прожить эти годы.
Только сейчас я начинаю понимать, что такое – искусство, как оно делается.
Этикетка тройного одеколона осталась такой же, какой она была в 80-х годах, быть может, даже до революции. Глядя на эти завитушки в стиле «модерн», я вспоминаю детство, вспоминаю старые петербургские квартиры, полутемные комнаты с высокими потолками, с громоздкими шкафами и буфетами, с каминами и картинами Клевера в тяжелых золоченых рамах. Меня тянет назад, в тот совсем другой город середины тридцатых годов, не потерявший еще запаха начала века. Я выхожу на улицу, сажусь в автобус и еду куда-нибудь на Петроградскую сторону, на Каменноостровский проспект. Захожу в старые парадные, подымаюсь по лестницам и любуюсь остатками витражей в стиле «модерн».
21.9
Всякие попытки заменить «гуманизм вообще» гуманизмом для кого-то ведут к преступлениям и к оправданию их. Всякая теория, всякая идеология, основывающаяся на отказе от общечеловеческих представлений о человечности, так или иначе оправдывает насилие и служит ему.
23.9
Туманный день. Дворцовая набережная.
Вдруг – оглушительный выстрел. Оттуда, из тумана. И сразу – громкий бой часов. Потом – гимн. Колокола играют его медленно, неуверенно, будто припоминая мелодию. Призрачный гимн из тумана.
Вдали – гудящий мост. Силуэт его виден, но машины, идущие по нему, незаметны. Будто гудит сам мост.
Первые костры осени. Липы только еще загораются, но клены уже неделю полыхают оранжевым пламенем.
Можно писать стихи только осенью и только про осень, и сказать все. Потому что осень – это не только то, что есть, но и то, что было и что будет. У осени есть опыт весны и лета. И она понимает, что такое зима. Пушкин не зря любил осень. А осень знала, с кем имеет дело, и была с ним откровенна.
День неестественно тихий. Михайловский сад будто опущен в банку со спиртом – ни один листик не шевелится.
У Зимнего дворца идет высокая стройная женщина с красивым гордым профилем и роскошными рыжими волосами. На тротуаре играют мальчишки, им лет по десяти. Один из них подбегает к женщине и громко спрашивает: «А вы не Екатерина Вторая?» Его приятели хохочут. Женщина делает вид, что ничего не слышала. Всё вместе – великолепно. (Непридуманное стихотворение.)
Внимательно и с удовольствием перечитал «Неумолчную поэзию» Элюара.
Вода в канале неподвижна. Она гнилая. Кажется, что она уже настолько засорена всякой мерзостью, что потеряла способность двигаться.
Вдруг из-под моста выныривает милицейский катер. Он разрезает эту тухлую воду, вспенивает ее и бросает на каменные стены набережной. Волны бьются о гранит с глухим злобным стуком. Волны подбрасывают вверх мусор, будто канал, пробудившись, хочет очиститься, будто он вспомнил о своем достоинстве, о том, что он сродни океану. Но это ненадолго. Вода успокаивается. Ее поверхность снова покрывают белесые разводы плесени со сгустками нечистот. Зловоние усиливается.
В конце своей автобиографии я мог бы написать: жизнь всегда была для меня процессом болезненным, потому что я относился к ней слишком серьезно, гораздо серьезнее, чем она заслуживает.
26.9
Юрий Домбровский. «Хранитель древностей». Хорошая сюрреалистическая литература. Пожалуй, лучшее из написанного о 37-м годе. Кафка превращал действительность в сон, а Домбровскому ничего не надо превращать. Действительность 37-го года страшнее любого сна. Алогичность самой реальности выглядит здесь как художественный прием.
Конец повести – тяжкий кошмар, когда хочешь проснуться и не можешь, когда кричишь – и не слышишь своего крика. Ощущение полнейшей беззащитности перед огромной темной силой, надвигающейся неотвратимо.
Все люди-то спят,
Все звери-то спят…
Отдай, старуха, мою лапу.
5.10
Лермонтовский юбилей.
Как умудрился этот чернявый юнкер с усиками стать великим поэтом?
Испытываю панический страх перед всякими канцеляриями, перед секретаршами директоров с их бесчисленными телефонами, перед бухгалтериями и главными бухгалтерами, перед всеми людьми, которые удостоены права подписывать бумажки и с которыми должно быть предельно вежливым, чтобы не отказались подписать.
Мои темы, как планеты вокруг солнца, вращаются вокруг «бренности бытия». Я прилип к экзистенциализму, как банный лист к заднице.
В автобус вошла девушка в туфлях на «шпильках». На один каблук накололся желтый кленовый лист. Девушка не замечает, и хорошо. Придет домой – рассмеется.
Сад отдыха. В павильоне Росси стоит гроб, заваленный цветами. Ходят люди с красными повязками на рукавах. У входа толпится человек двадцать. Тихо разговаривают об усопшем. Я не знаю, кто он.
Падают листья. Рядом шумит Невский.
7.10
В столовой, что на углу Садовой и Вознесенского проспекта, работала пятнадцати-четырнадцатилетняя девочка, тощенькая, с длинными ногами и жиденькими косицами. Она убирала со столов посуду.
Теперь она уже сидит за кассой. Подрисованные глаза, заграничная кофта, уверенный голос, уверенные движения чистых белых рук.
Девочка сделала карьеру.
9.10
Женя М., я и Женин сосед Вася Ходорка.
Вася выпивши. Через каждые пять минут он просит извинения и прочувствованно жмет нам с Женей руки. Через каждые десять минут в комнату входит его жена с немецким догом. Она просит Васю не срамиться, уйти и не мешать. Вася нарочито громко орет на жену и выставляет ее вместе с догом за дверь.
Вася показывает мне свою трудовую книжку – ее он всегда носит с собой, чтобы жена не знала, какая у него зарплата. Потом он уходит, но скоро возвращается и предлагает нам с Женей «раздавить полбанки». Мы отказываемся. Он еще раз предлагает, мы еще раз отказываемся.
– О, Гена! Прости меня! – говорит Вася с театральным пафосом, – Прости меня, Гена! Мне обидно! У тебя будет такое впечатление, что Ходорка пьяница. А Ходорка не пьяница! Ходорка – хороший парень! Женя, скажи ему, правда ведь, я – хороший парень? Прости меня, о, Гена! Гуд бай, Джонни! Гуд бай! Экскюз ми!
Вася знает несколько английских слов – его научил Женя.
Вася – литейщик. Окончил 6 классов. В юности был карманным вором. Несколько раз сидел. Теперь честно зарабатывает свой хлеб.
Когда мы с Женей вышли в прихожую, Вася стоял в дверях своей комнаты. Он смотрел куда-то вдаль, и на его лице не было никакого выражения. Шагнув ко мне, он покачнулся и упал навзничь. Вышла Васина жена и сказала: «Не подымайте, пусть полежит!»
Уходя, я обернулся: Вася лежал неподвижно, над ним сидел немецкий дог.
15.10
У отца второй инфаркт. Его опять положили в больницу.
16.10
Хрущев отстранен. «В связи с преклонным возрастом и ухудшением здоровья».
Что день грядущий нам готовит?
Китайцы взорвали первую атомную бомбу.
18.10
Иногда, когда со стен старых домов отваливаются куски старой штукатурки, на свет божий вдруг вылезают надписи с того света: «Гофман. Торговля аптечными товарами», «Бакалейный магазин братьев Носовых» и тому подобное. Тогда становится очевидным, что история – не миф и этот город действительно назывался когда-то Петербургом.
19.10
Начало путешествия.
Старый седой шофер говорит о Хрущеве:
– Сколько денег спустил! Мы работали, а он по заграницам разъезжал. Каждый день приемы – завтраки, обеды, ужины. По телевизору показывали – чего только на столе нет! Ну ужинали бы себе там потихоньку, а то ведь еще нарочно показывают! Зачем? Попробовал бы он пожить на сто двадцать рублей! Кабы я был председателем совета министров, я бы себе больше двухсот в месяц не платил, ей-богу!
– А на выпивку?
– Я бы подхалтуривал помаленьку!
Смеемся.
Остановились у железнодорожного переезда – закрыт шлагбаум.
– Как это раньше строили? – сказал Женька. – Вот, например, эту насыпь? Тачками ведь землю возили! Сколько же надо было возить?
– Не тачками, а на телегах, – сказал шофер. – Знаешь, сколько лошадей было в городе? Тыщи! И какие! У Сорокина битюги мясо возили. Все в сбруе с кистями до земли. Не битюги – слоны! Раньше любую тяжесть лошади брали. Иные тянули тонн до пяти. А одна не утянет, так несколько запрягали. Видел я однажды – везли колокол для колокольни Иоанна Предтечи, что на Обводном. Десять пар цугом. И один возчик. По всему городу. Красота! А теперь лошадей почти нет – какие уж тут лошади!
Сидим в Ту. Посадка окончена, ждем взлета. Неподалеку сидит пожилая, бедно одетая женщина с потертой сумкой из искусственной кожи. Она робко озирается по сторонам, потом говорит, ни к кому не обращаясь: «Я в Душанбе. Далеко. Первый раз на самолете-то, – смущенно улыбаясь. – Из деревни я. К невестке еду. В Душанбе».
Все наперебой объясняют ей, что будет дальше: как самолет будет разворачиваться, как он будет взлетать и что может случиться в дороге (о пакетике из плотной бумаги). Она внимательно слушает, кивает головой, вздыхает.
Наконец взлетаем. Женщина сидит неподвижно и напряженно смотрит в одну точку. Ей предлагают взглянуть в окно.
– Ой, боюсь я! – отказывается она. – Не буду глядеть! Страшно!
Набираем высоту, врезаемся в облака, пронизываем их и забираемся выше. Облака сверху – как холмистая белая пустыня. Кое-где над ней возвышаются округлые белые башни. Перед иллюминатором – крыло. Оно совершенно неподвижно, на нем ничто не дрожит. Трудно представить, что мы несемся со скоростью 900 километров в час. Лишь иногда конец крыла чуть-чуть покачивается.
Пожилая женщина уже смотрит в окно. В ее тусклых глазах нет ни страха, ни удивления. Ей не любопытно. Она сосет конфету и бережно прижимает к груди свою сумку.
20.10
Раннее утро. Ташкентский аэропорт. Горьковатый запах пыли и сожженной солнцем травы. Узбеки в чалмах и тюбетейках, киргизы в лисьих шапках. Пирамидальные тополя. Синие горы на горизонте. Я возвращаюсь в свое отрочество.
Едем в город.
Пыльная серая зелень. Одноэтажные белые дома. Арыки с мутной водой.
Оперный театр. Нас пускают внутрь и показывают интерьеры (для ленинградцев открыты все двери). Изумительная резьба по ганчу. Архитектура середины прошлого века. (Строительство театра закончено после войны.)
Три часа дня. Аэропорт Навои (маленький белый домик на краю большого рыжего поля). Блеклое выгоревшее небо. Первозданная тишина Азии.
21.10
Показываем эскизы высокому начальству.
Директор комбината Зарапетян – восточный мужчина царственного облика. Он здесь самый главный – вроде эмира бухарского. Он здесь владыка. Органов советской власти в Навои еще нет (новый город-то).
Выслушиваем августейшую критику. Но в общем эскизы принимаются.
22.10
Утром к гостинице подъезжает маленький грузовичок. Залезаем в кузов и едем. Ехать холодно. Ветер свистит в ушах.
Останавливаемся в старом городе у продовольственной лавочки. Покупаем вермут и пьем его тут же, расположившись на пыльных ящиках. Перед нами неподвижно стоит подросток-узбек в халате и в тюбетейке. Он молча внимательно нас разглядывает.
Едем дальше.
Пустыня. Вдалеке – горы. Среди пустыни стоит портал со стрельчатой аркой. Рядом большой купол, до половины засыпанный песком. Это все, что осталось от знаменитого караван-сарая Рабат-аль-Малик, построенного в двенадцатом веке. Еще до войны здесь стояли высокие стены. Их уже нет.
Оазис. Тутовые деревья. Хлопковые поля. Задумчивые ишаки под деревьями. Останавливаемся и спрашиваем у старика-узбека о дороге на Хазару. Узбек со всеми здоровается за руку и говорит: «Салам!» Мы по очереди отвечаем: «Салам!»
Хазара. Мавзолей. XIII век. Несколько куполов. Никаких украшений. Внутри – только узорчатая кирпичная кладка. Кирпичи плоские, желтые. Неподалеку от Мавзолея – могила местного святого. Небольшой купол и стрельчатая ниша. На длинном шесте болтается белая тряпица – знак святого места. Тут же колодец. Я наклоняюсь над ним, и ремешок фотоаппарата соскальзывает с моего плеча. Гулкий всплеск глубоко внизу.
Раздеваюсь, обвязываюсь веревкой, и меня спускают в колодец. Ногами, спиной и локтями упираюсь в стенки. Достигаю воды, Она холодная. Опускаюсь в воду до пояса, потом до подбородка, но дна все нет. Погружаюсь с головой и ногой подцепляю ремешок аппарата. Меня вытаскивают. Отжимаю трусы и бегаю, чтобы согреться. Шофер нашего грузовичка говорит, что я герой. Если бы увидели местные жители, они убили бы меня за осквернение святыни.
Едем дальше.
Пересаживаемся на маршрутный автобус.
Опять бесконечные хлопковые поля с тутовыми деревьями.
Длинная очередь машин с хлопком у приемного пункта.
Наконец – Бухара.
Узкие улочки с глинобитными домами без окон. Женщины в ослепительно ярких разноцветных платьях. Бородатые узбеки в синих и белых (вернее, серых) чалмах на маленьких, покорно семенящих ишачках. Перекресток нескольких улиц, перекрытый большим куполом. Под куполом множество мелких лавчонок. Продают всё – от пряников до мотоциклов.
Мечеть Калям. Минарет тринадцатого века. Зеленый глазурованный купол. На куполе гнездо аиста. Великолепный двор с аркадами. Он приспособлен для торгового склада: ящики, автомобили, мотоциклы. Маленькая рыжая кошка без задней ноги. Подошла и, мурлыкая, стала тереться о мою щиколотку. Снаружи у стен мечети – базар. Горы дынь и арбузов. Ишаки на привязи. Арбы с гигантскими колесами.
Старинный бассейн в тени деревьев.
Ночное шоссе. Ослепляющий свет фар встречных машин. Вырываемые из мрака деревья.
Черная пустыня под звездным небом. Далекие огни на горизонте. Они медленно приближаются.
23.10
Нас провожают человек десять. В буфете сдвигаем три столика вместе. Появляются зеленые бутылки с «московской». Водка теплая, противная. Закуска – знаменитый жареный усач – необычайно вкусная рыба.
Пьяные крики и тосты. Наши вещи тащат к самолету. Последние объятия и рукопожатия.
Взлетаем. Внизу узор дорог и арыков.
Милая стюардесса Тамара. Мы влюблены в Тамару все эти полтора часа.
В Ташкенте пересаживаемся на Ил-18.
Снова в воздухе. Высота – 7 километров. Самолет трясется мелкой дрожью. В окне крупные звезды.
Просыпаюсь от голоса стюардессы: «Внимание! Самолет идет на посадку. Просим не курить и пристегнуть ремни. Посадка будет произведена в аэропорту Домодедово».
Полночь. Ждем автобус. Перед зданием аэропорта шоферы такси от скуки бьют двух пьяных. Бьют не очень зло, вполсилы, с хохотом.
Приходит милиционер, хватает пьяных за руки и ведет их куда-то по пустынной площади. Милиционер тщедушный, низкорослый, а пьяные – дюжие парни, но они не сопротивляются власти.
25.10
Читал у А. Возник спор. Вторглись в философию, дошли до высот. То и дело хватали мою книжку и читали куски для иллюстраций. Я не спорил, наблюдал.
Познакомился с Юрой Д. Он очень симпатичен. И умница.
«Русское кафе» на Мясницкой. Пусто. Играет музыка. Окна запотели – улицы не видно. Выпил стакан вина – стало тепло и весело. Стало ясно, что все не напрасно, что все именно так и должно быть. У швейцара роскошная черная борода. Его зовут Сергей Иванович. Подавая мне пальто, он сказал: «Сегодня вы первый! Счастливым будете!»
Кафе «Марс» на улице Горького. У входа – милиционер и две дружинницы с красными повязками на рукавах. Заведующая в белом халате прохаживается между столиками и внимательно следит за посетителями. Идет борьба с распитием приносимого с собой спиртного.
И вдруг – бунт. Посетители возмутились. Толпа окружила милиционера, дружинниц и заведующую: безобразие! Оскорбление человеческого достоинства! Мы не арестанты!
Одна из дружинниц, деликатная на вид девица, сказала басом: «Жрали бы водку дома и дрыхли с женами! А здесь общественное место!»
Спор с П. о сущности счастья.
– Я – счастливый человек! – заявляет П. и объясняет, почему он счастливый.
– А у меня жизнь не удалась! – заявляю я и объясняю, почему не удалась.
В конце спора мы пришли к выводу, что оба счастливы: П. – своим счастьем, а я – своим несчастьем.
27.10
У С. Сегодня ровно 15 лет, как он был арестован. Он помнит тот день до мельчайших подробностей. Он смотрит на часы и говорит, что с ним было в этот час 27 октября 1949 года.
О моих стихах С. сказал: «Это настоящее, хотя лет восемь тому назад я бы так не думал».
В пустом автобусе едем с Женькой в Шереметьево. Пустой ночной аэропорт. В самолете тоже пусто (неудобный поздний рейс).
Элегантная, надменная стюардесса произносит стереотипные фразы. Взвывают моторы. Сигнальные огни за окном мелькают все быстрее и быстрее. Опять внизу ночная Москва. Через минуту она превращается в россыпь далеких тусклых звезд. Через пять минут она исчезает. Под крылом появляется серп луны. Включаю лампу и читаю воспоминания Эренбурга о Нюрнбергском процессе.
Крыло за окном иногда немного опускается, и луна подскакивает вверх. Стюардесса разносит бокалы с минеральной водой.
«Прежде были в ходу слова “совесть”, “добро”, “человеколюбие”. Потом они всюду вышли из обихода».