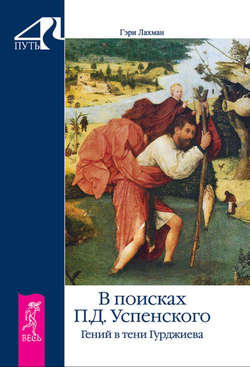Читать книгу В поисках П. Д. Успенского. Гений в тени Гурджиева - Гэри Лахман - Страница 4
Глава 1
Детство мага
ОглавлениеВ семье Успенского существовала традиция поочередно, через поколение, передавать от отца к сыну имена Петр и Демьян. Петры оказывались жизнелюбивыми оптимистами, любившими хорошо поесть и выпить; им нравилось приятное общество и радости искусства. Демьяны были отрекшимися от мира аскетами, пессимистичными критиками, которые считали жизнь обманом и ловушкой. Читавшие роман Германа Гессе «Нарцисс и Гольдмунд» немедленно узнают эту полярность.
Петр Демьянович Успенский, последний в своем роду, получил в наследство черты обоих характеров – наследство, которое, возможно, стало основой его парадоксальной личности. Однажды он заметил, что в его крови есть запах таверны, а в поздние годы часто вспоминал во время долгих вечеров за бутылкой о бурных днях в Москве и Петербурге, когда он «всех знал» и собирал свой салон в известном кафе «Бродячая собака». Однако тот же Успенский так и не смог избавиться от ощущения, что жизнь – наша повседневная обыденная жизнь – это ловушка. Быт – этим странным русским словом он описывал ощущение «всепроникающей, неподвижной, рутинной жизни». Именно для того, чтобы бежать от убийственной монотонности быта, он и отправился на поиски чудесного, в загадочное внутреннее и внешнее путешествие, которое привело его к Гурджиеву. В центре работы Гурджиева лежит идея, что все ценное приобретается в ходе борьбы с самим собой, внутреннего противостояния «да» и «нет». Если так, то судьба хорошо потрудилась еще до того, как Успенский задумался о своих исканиях. Петр и Демьян в нем располагали к вечному «да» и «нет». Если в конце и выиграл Демьян, сражение было нелегким, и победа далась непросто. Под грозной внешностью сурового учителя все еще жил теплый, дружелюбный и поэтичный Петр, и, расслабляясь в приятной компании, он временами давал о себе знать, порой весьма неожиданно.
Источник такого сочетания противоположностей – основную формулу алхимического Великого Делания – можно найти в родителях Успенского. Его мать была художницей, хорошо знала русскую и французскую литературу. Вероятно, именно под ее влиянием юный Петр уже в шесть лет прочел такие книги, как «Герой нашего времени» Лермонтова и «Записки охотника» Тургенева. Позднее он рассказывал своим самым близким ученикам, что Лермонтов был его любимым поэтом. Отец Успенского, чиновник землемерной службы, тоже был художником. Кроме того, он очень любил музыку – черта, которая его сыну, очевидно, не передалась. Однако другой его интерес стал центральным символом дела жизни сына. Отец Успенского был хорошим математиком-любителем, и особым его увлечением было четвертое измерение – тема, которая вызывала интерес у многих математиков, профессионалов и любителей в конце XIX века. Хотя Успенский позднее писал о высшей математике и перенял непоколебимые манеры требовательного наставника, он никогда не был профессиональным математиком, несмотря на описания, которые до сих пор появляются на обложках его книг. На самом деле он даже не получил университетского образования – его отчислили. Однако он перенял интерес отца к таинственному четвертому измерению, которое стало для него своего рода метафизической волшебной сумой, в которую и из которой появлялось все, что отрицал безотрадный, педантичный и крайне ограниченный позитивизм его юности, – то есть все «чудесное». Именно это сочетание художественного и научного, поэта и математика, придало ранним работам Успенского особый вкус и привлекательность.
Петр Демьянович Успенский родился в Москве 5 марта 1878 года. Позднее он рассказывал своим ученикам, что самые ранние его воспоминания – о доме бабушки по материнской линии на улице Пименовская, и вспоминал истории старой Москвы, которые она рассказывала ему и его сестре. Неудивительно, что человека, у которого память о себе стала предметом пожизненной одержимости, так сильно интересовали воспоминания, точное воспроизведение прошлого. Подобно своему современнику, французскому романисту Марселю Прусту, который был старше его всего на семь лет, Успенский обладал поразительной способностью воссоздавать прошлое, воспроизводить «другое место и время», пользуясь точной фразой Колина Уилсона. Он утверждал, что помнил себя в раннем возрасте и мог точно воспроизвести события, происходившие, когда ему было меньше двух лет. К трем годам он запоминал события и обстановку с пронзительной живостью. Он рассказывал о путешествии вниз по реке Москве – лодки, скользящие по воде, запах дегтя, холмы, поросшие густыми лесами, старый монастырь. Особенно хорошо ему запомнились выставка 1882 года и коронация Александра III год спустя, с фейерверками и празднованиями. Много лет спустя Успенский расскажет своему самому важному ученику, Морису Николлу, что не разделял интересов других детей, что обычные игры и игрушки его не привлекали. «В очень раннем возрасте, – скажет он, – я видел жизнь такой, какая она есть». Успенский считал, что причина этого в том, что в детстве он еще помнил свою прошлую жизнь, прошлое появление на колесе возрождения. Николл, который рос куда более нормальным ребенком, был «молодой душой», все для него еще было свежо, и потому он этого не помнил. Успенский считал, что уже много раз рождался в этом мире. «Изучение возрождения нужно начинать с изучения детских разумов, особенно до того, как дети начинают говорить, – говорил он ученикам. – Если бы они могли вспомнить то время, то могли бы вспомнить очень интересные вещи»[6]. Были ли живые воспоминания Успенского результатом перерождения или исключительно хорошей, но нормальной памятью, остается вопросом, как и предположение о том, что в детстве он помнил свою прошлую жизнь. Но именно воспоминаниям он посвятит всю свою жизнь.
Хотя Успенский рассказывает, что его семья не относилась к какому-то конкретному классу, и в доме его бабушки встречались люди из разных социальных слоев, в России его молодости социальный мир был строго поделен. Человек принадлежал к простому или благородному сословию. Учитывая культурное происхождение, семья Успенского относилась к интеллигенции. Они точно не были простолюдинами. Юный Успенский рос среди писателей, художников и поэтов. Его дедушка был живописцем, добавляя свое художественное влияние к влиянию родителей, и хотя он умер, когда Петру было всего четыре года, очевидно, что он оказал значительное воздействие на мальчика. Начавший карьеру как портретист, дед Успенского позднее работал в церкви, которая предоставила ему собственную студию для работы над религиозными картинами. Церковная живопись в то время была отдельной индустрией, особой художественной гильдией с уникальным значением. Позднее Успенский проявлял мало интереса к религии, и когда журналист Ром Ландау спросил, верит ли тот в Бога, Успенский ответил: «Я ни во что не верю»[7]. Но было бы удивительно, если бы образы с работ деда не произвели впечатления на маленького мальчика с богатым воображением. В сочетании с искусством – а позднее и наукой – атмосфера святого и священного должна была привить не по годам развитому ребенку раннее чувство трансцендентного. Он точно унаследовал любовь к живописи и с юного возраста начал рисовать – этот интерес в поздние годы проявится в любви к старым гравюрам и фотографии. Это последнее увлечение показывает Успенского с неожиданной стороны, демонстрируя его внимание к новым культурным веяниям. Хотя его вкусы больше склонялись к традиционным техникам, он осознавал влияние, которое зарождающаяся технология оказывает на чувства и мысли его современников. Его первый роман, «Кинемадрама» (позднее изданный под названием «Странная жизнь Ивана Осокина», но написанный в 1905 году, когда ему было двадцать семь) изначально планировался как сценарий для фильма. Человек, который искал тайного знания и древней мудрости прошлого, в то же время хорошо осознавал, как новые достижения массовой культуры влияют на сознание его современников.
Помимо живых детских воспоминаний, Успенский делился ранними переживаниями того, что позднее он называл «чудесным», тем «иным миром» магии и тайны, который всю жизнь его притягивал. Когда мать в первый раз повела его в школу, она заблудилась в длинном коридоре и не знала, куда свернуть. Петр подсказал ей дорогу, хотя они оба впервые оказались в этом здании. Он описал коридор, в конце которого было две ступени, и окно, через которое виднелся сад директора. Там и будет дверь в кабинет директора. Так и вышло. Он также рассказывал о еще более раннем опыте, когда, выехав в город в окрестностях Москвы, он заметил, что место изменилось с прошлого его визита, случившегося несколькими годами ранее. Как и в школе, здесь он раньше никогда не был. Позднее он осознал, что на самом деле не посещал это место – ему приснилось, что он там побывал. Идея, что во сне нам порой являются видения будущего, станет центральной темой другого теоретика времени, с которым окажется связано имя Успенского, – аэронавигационного инженера Дж. У. Данна. Как мы увидим, в 20-х и 30-х идеи Данна, как и идеи Успенского, повлияли на некоторых из ведущих писателей того времени[8].
Вскоре Успенский стал больше интересоваться снами. «Возможно, самые интересные первые впечатления моей жизни пришли из мира снов», – писал он позднее. Но в отличие от Данна, он не связывал спящий разум с опытом ясновидения. Для него ощущение дежа вю было связано с идеей «вечного повторения», странной верой, которую он позднее нашел у философа Ницше и других авторов. Эта идея такова: мы живем свои жизни снова и снова, совершенно одинаково, в бесконечной последовательности повторов. Это ощущение разделяла его сестра, с которой он был очень близок. Он рассказывает, как они сидели у окна детской и предсказывали, что сделают люди, проходящие по улице. Обычно эти предсказания оказывались точны. Но брат с сестрой никогда не рассказывали этого взрослым, потому что те им бы просто не поверили. Успенский считал, что в ранние годы дети гораздо больше открыты чудесному, и, только начав подражать окружающим взрослым, они теряют с ним связь. Успенский явно принадлежал к той небольшой группе людей, которые намерены не потерять эту чувствительность, и для него она проявлялась в настойчивом, практически болезненном ощущении тайны времени.
Но против него работали немалые силы. Другим общим развлечением брата и сестры было чтение необычной детской книжки «Очевидные нелепицы», в которой были нарисованы странные картинки: например, человек, несущий на спине лошадь, или телега с квадратными колесами. Для наделенных даром предвидения детей самым странным было то, что картинки совсем не казались им нелепыми. «Я не мог понять, что в них нелепого, – писал Успенский. – Они выглядели в точности как все обычные вещи в жизни». С возрастом Успенский «все больше и больше убеждался в том, что вся жизнь состоит из очевидных нелепиц». Позднейший опыт, по его словам, «только укрепил меня в этом убеждении»[9].
К восьми годам Успенский развил страсть к естественным наукам. Все в животной и растительной жизни его завораживало. Его жажду знаний не могли удовлетворить банальные школы, которые он был вынужден посещать. Как и многие другие блестящие, но быстро впадающие в скуку дети, Успенский находил школу неинтересной. Но пока его одноклассники, тоже скучающие, но не такие блестящие, развлекали себя на уроках латыни запрещенными романами Дюма и других романтических авторов, Успенский читал учебник по физике. Пока его товарищи мечтали о приключениях или предавались фантазиям о соседской девочке, Успенский «с жадностью и энтузиазмом», охваченный «восторгом» и «ужасом», преклонялся перед открывавшимися ему тайнами. Читая главу о рычагах, он обнаружил, что вокруг него «рушатся стены, и открываются горизонты, бесконечно далекие и невероятно прекрасные»[10]. Впервые в жизни его мир вырвался из хаоса. Его юный ум начал находить связи между разрозненными событиями опыта, соединять, упорядочивать, объединять и представлять результат сознанию как «упорядоченное гармоничное целое»[11].
Это архетипичная привлекательность науки – поразительное воздействие на впечатлительный ум его собственной способности понимать свой опыт. Это демонстрирует, что, в сущности, Успенский не был мистиком, как его часто называли, он не был даже оккультистом. Отстраненность его поздних лет порождается философским влечением к истине и порядку за пределами личного, за пределами себя – к тому, что, как определяет Иван Осокин в конце романа Успенского, будет существовать, «даже если меня не будет». Некоторые находят величайшее счастье в объективном, в том, что не имеет непосредственной связи с их личным опытом. Успенский был одним из таких людей, и его раннее знакомство с освобождающим видением науки стало также первым знакомством с широким миром за пределами его самого, миром смысла и порядка.
Но никто, даже Успенский, не может быть совершенно бесстрастен. И десятилетний мальчик, даже впервые познавший поразительную Вселенную за пределами себя самого, должен разбираться со многими личными вопросами. В случае Успенского хаос был сильнее обычного – не только в мире, но и в собственной жизни.
Прежде чем Петр дожил до четвертого дня рождения, его отец умер. Вскоре после этого, когда он жил с бабушкой на улице Пименовская, умер и дед. В итоге Петр оказался единственным мужчиной в семье, и нет сомнений, что мать возлагала большие надежды на необычайно одаренного сына. Потеря двух сильных и влиятельных отцовских фигур могла предрасположить Успенского к дальнейшим событиям.
В других обстоятельствах, учитывая статус его семьи в среде интеллигенции, можно было бы возлагать большие надежды на будущую карьеру Петра. Но личная травма и трагедия были не единственным факторами. Святая Русь, в которой рос Успенский, представляла собой общество, близящееся к катастрофе.
Россия конца XIX века, подобно ее будущему противнику, Австро-Венгерской империи, была старым и могущественным гигантом, шатающимся под собственным весом и вошедшим в период плохого управления и халатности, которые приведут к Великой Октябрьской революции 1917 года. В год рождения Успенского среди либеральной интеллигенции распространялся призыв о конституции. Другие, более экстремистские группировки, такие как тайное политическое общество «Народная воля», открыто поддерживали террор и революцию как методы свержения трехсотлетнего режима Романовых. Прямо перед третьим днем рождения Успенского бомбист-анархист взорвал царя Александра II. Его преемник Александр III, который правил тринадцать лет, попытался пресечь мятежи с помощью репрессий и политики «нулевой терпимости»[12], но через тринадцать лет умер, истощенный собственными усилиями. Николай II, последний царь, имя которого, как и его жены Александры, навсегда будет связано с загадочным «святым грешником» Распутиным, был добрым и бессильным мечтателем, абсолютно неподходящим для улаживания критических ситуаций. Он попытался достичь компромисса между своей нереалистичной верой в абсолютное правление и народными требованиями конституции. Но действовал он слишком мало и слишком поздно, и радикальные перемены было уже не остановить.
На этом фоне Успенский начал сомневаться в авторитетах. Не в политических – он был еще мальчиком и в любом случае испытывал мало симпатии к революционным группировкам, которые составляли молодежную культуру того времени. (Позднее он говорил о политических сборищах, где все только «говорили и говорили».) Авторитеты, против которых взбунтовался Успенский, были из сферы науки, которую он лишь недавно открыл. После начального энтузиазма он со временем понял, что видение «горизонтов бесконечно далеких и невероятно прекрасных», которое произвело на него такое впечатление, имеет мало отношения к тяжеловесному консерватизму профессиональных ученых. «Повсюду были глухие стены», – сказал он и вскоре начал стучаться о них головой. Ученые, говорил он, убивают науку, как священники убивают религию. Успенский стал «крайне анархически настроен». Это не значит, что он стал метать бомбы. Как и многие творческие мыслители, Успенский испытывал глубокое доверие и уверенность в собственных прозрениях и склонен был предпочитать их официальным, признанным мнениям. Ментально, морально и эмоционально он достигал зрелости во время, которое поощряло такого рода независимость.
Он поклялся никогда не принимать никакие академические звания. «Я испытывал особенное недоверие ко всем формам академической науки, – писал он, – и принял твердое решение никогда не сдавать никаких экзаменов и не принимать никаких званий»[13]. Учитывая то, что мы знаем о школьных днях Успенского, это неприятно попахивает зеленым виноградом. Из «Странной жизни Ивана Осокина» (хотя Успенский это и отрицал, но книга явно автобиографическая) можно сделать вывод, что Успенский, при всей своей одаренности, вовсе не был образцовым учеником. По крайней мере один из его близких друзей позднее утверждал, что именно нехватка точного академического образования сделала Успенского открытым влиянию Гурджиева. Борис Муравьев, который познакомился с Успенским в Константинополе в 1920 году, отмечал, что Успенский «не защищен внутренне той драгоценной броней, которую представляет собой научный метод». Это оставило его «открытым внешним влияниям»[14]. Возможно. Но самого Успенского, видимо, не беспокоило то, что он оставил школу. Вскоре после этого он открыл для себя работы Ницше; позднее стал вольнослушателем Московского университета, дополняя прочитанное разнообразными лекциями. Читатели, которые впервые брались за работы Успенского, ожидая найти мистика, вместо этого с удивлением обнаруживали философический требовательный разум. Также их могло удивить и то, что великолепный метафизик вечного повторения и четвертого измерения был своего рода малолетним правонарушителем.
Подобно другим романам того времени, ранние работы Успенского можно читать как роман воспитания, описывающий взросление мальчика в школьные годы. Вероятно, все мы хоть раз да говорили: «Если бы я смог прожить свою жизнь сначала, я бы все сделал иначе». Иван Осокин, альтер эго Успенского, именно так и поступает.
Возможно, слишком большим допущением будет вслед за Колином Уилсоном полагать, что Успенский, которого мы видим в «Странной жизни Ивана Осокина», «по сути, бессильный мечтатель и слабак»[15]. Однако с долей скептицизма стоит относиться и к замечанию Успенского, что «он никогда не был таким дураком», как Осокин. Вероятно, правда лежит где-то посредине. Успенский с его анархическими наклонностями наверняка был способен на школьные выходки, которые устраивает Осокин. В то же время скучающий, но талантливый Успенский, который читал учебники по физике вместо того, чтобы готовиться к неинтересным занятиям латынью, и нашептывал однокласснику о своих открытиях, являлся вполне вероятной мишенью для дисциплинарных воздействий. Другие обстоятельства указывают на тесную связь между Успенским и Осокиным. Оба учились во Второй московской гимназии, и у обоих злейшим врагом был педантичный давящий учитель. Успенский позднее признавался, что девушка, с которой у Осокина был трагический роман, подтолкнувший его к мыслям о самоубийстве, имеет реальный прототип. Подобно Осокину, Успенского выгнали из школы, и подобно Осокину, его отчисление разбило сердце матери: она умерла через два года. Подобно Осокину, Успенский путешествовал и любил Париж. В «Гармоническом круге» Джеймс Уэбб выдвигает предположение, что молодой Успенский мог посещать некоторые лекции в Сорбонне. И Успенский, и его персонаж Осокин хорошо говорили по-французски и знали французскую литературу. В романе Осокин подумывает об эмиграции в Австралию – Успенский однажды думал о том же. Если добавить к этому то, что имена «Иван Осокин» и «Петр Успенский» (или «П. Д. Успенский») обладают одинаковым ритмом слогов, набирается, я думаю, достаточно доказательств того, что «странная жизнь», которую Успенский описывает в своем раннем романе, – это жизнь не только Ивана Осокина.
На первый взгляд ничего особенно странного в этой жизни нет. Осокин – одаренный и умный подросток с талантом оказываться не в том месте не в то время; многообещающий юноша, который почему-то никогда не выполняет обещанного. В начале романа ему чуть больше двадцати, и он разбит крахом своего романа с красавицей Зинаидой. Поддавшись отчаянию, он заряжает револьвер и думает о том, чтобы завершить свое существование[16]. Но вместо того, чтобы вышибить себе мозги, Иван решает посетить волшебника, обладающего тонким вкусом в бренди и сигарах. (Даже на грани отчаяния жизнелюбивый Петр помнил о своих приоритетах.) Просторная комната волшебника «богато украшена в полувосточном стиле» дорогими персидскими, бухарскими и китайскими коврами. На столе стоят песочные часы. Иван излагает свою печальную историю. «Если бы только я мог вернуть несколько лет этого несчастного времени, которое уже не существует, – стонет он. – Если бы я только мог все сделать по-другому»[17]. Волшебник сообщает ему, что сделать это можно. «Все можно вернуть». Песочные часы можно перевернуть. Но это ничего не изменит: он просто повторит те же ошибки. Далее в романе Иван действительно возвращается в прежние годы, и мы обнаруживаем, что он не впервые встречается с волшебником.
В позднейших размышлениях о повторении Успенский развивал крайне любопытную идею: концепцию реинкарнации не в будущее, а в прошлое. Подобная идея встречается в научно-фантастических фильмах, таких как «Терминатор», где андроида-убийцу отправляют в прошлое, чтобы предотвратить власть машин в будущем. Зло настоящего, считал Успенский, можно уничтожить, только вернувшись в прошлое и вырвав его с корнем. Если источник зла останется, останутся и его последствия, и реинкарнация, которая переносит нас в будущее, не избежит последствий прошлого.
Осознать эту идею непросто. Перерождение в прошлом с намерением изменить его может привести к совершенно другому будущему, настолько отличному, что мы, пришедшие из будущего, в нем не существуем и потому не можем изменить прошлое… Но если не считать таких головоломных мыслей, кое-что об Успенском нам говорит и то, что идея, впервые озвученная им в 1905 году, занимала его и через много лет. Почти через десять лет после сочинения «Странной жизни Ивана Осокина» Успенский писал, что «мы не можем оставить позади грехи прошлого». Если причина зла в прошлом, бесполезно искать ее в настоящем. И человеку нужно возвращаться, искать и уничтожать причины зла, как бы далеко они не находились[18]. Одной из последних работ Успенского перед смертью был перевод «Странной жизни Ивана Осокина» на английский. В рассказах о его последних днях говорится о слабом, умирающем человеке, который возвращается в некоторые места своего прошлого, чтобы запечатлеть их в своем сознании настолько ярко, что он вспомнит их в следующий раз. Становится очевидно, что с начала своей творческой жизни и до ее конца Успенского глубоко волновала возможность изменения прошлого. «Если бы мы знали наверное, что выйдет из наших поступков, – спрашивает Осокин волшебника, – разве бы мы стали делать все, что делаем?»[19].
Больше десяти лет спустя создатель Ивана задаст настоящему волшебнику именно этот вопрос.
В поздние годы Успенский славился галантностью по отношению к женщинам – черта, которой не хватало неромантичному Гурджиеву. Для одной из своих первых учениц он делал чай и покупал множество пирожных с кремом; другая, учившаяся у него позже, говорила, что никто не был к ней добрее и не уважал ее как человека больше[20]. Успенский находил женщин интереснее мужчин и считал, что они принадлежат к «высшей касте», в этом отношении снова расходясь с Гурджиевым. Женщины, по убеждению Успенского, по большей части не участвовали в том, что он называл «историей преступлений». «Тысячи лет они не принимали активного участия в войнах и редко имели отношение к политике или государственной службе. Так они избежали самых преступных и мошеннических сторон жизни»[21]. Однако взгляды Успенского далеки от феминистических. Женщины играют важную роль в развитии жизни, потому что им доверена ответственность за «выбор» – не в простом биологическом смысле, а в вопросах высшего порядка, эстетики и морали. Проблема в том, говорит Успенский, что женщины слишком часто не справляются со своими обязанностями. Поскольку большинство женщин «довольствуются незначительными мужчинами», их главный грех в том, что они не «достаточно требовательны»[22]. Требовательны в чем? Конечно, не в своих практических интересах. Если женщина требует что-то для себя, это «жалкая вульгарность», форма эгоизма, которая и без того слишком распространена. Что же тогда? «Женщины, – говорит он, – недостаточно требуют от мужчины ради его блага»[23].
Женщина с точки зрения Успенского – своего рода идеал, поэтический символ, и ее задача – заставить мужчину выполнять свою высочайшую цель, прикладывать все возможные усилия. Она, пользуясь словами Гёте – Das Ewig-Weibliche/Zieht uns hinan («Вечная женственность. Тянет нас к ней»[24]). В наше холодное циничное время такие идеи выглядят совершенно старомодными: большинство женщин отвергают пьедестал и хотят, чтобы их воспринимали наравне с мужчинами. Но, как и многие другие «неромантичные» современные идеи, эта, принося пользу социальному равенству, приводит к потерям на более широком, метафизическом уровне. Как утверждает Успенский, эротические и сексуальные переживания тесно связаны с эстетическими и мистическими. Он говорит об этом с почти клинической точностью. «В мужчине (или женщине) сильных чувств, – пишет он, – сексуальные ощущения пробуждают новые состояния сознания, новые эмоции… Мистические переживания, несомненно и неопровержимо, имеют привкус секса… Из всех обыденных человеческих переживаний только сексуальные ощущения приближаются к тем, которые можно назвать мистическими… только в любви есть привкус мистического, привкус экстаза»[25]. Отношения между полами – это не просто удовлетворение естественного аппетита, они являются (или, по крайней мере, могут являться) своего рода трамплином в то, что психолог Абрахам Маслоу называл «высочайшими целями человеческой природы». Причина должна быть очевидна. Подобно мистическому и эстетическому, эротический опыт выводит нас за пределы себя, растворяет барьеры эго и открывает нашу сущность широкому равнодушному миру. Влечение мужчины и женщины может привести к одной банальной ночи; а может, подобно истории Данте и Беатриче, привести к прекрасному видению. В оковах эротического мы осознаем странное «различие» между мужчинами и женщинами. Это кажется настолько банальным, что о нем не стоит и говорить, однако само различие между полами мы часто воспринимаем как должное. Именно это «различие» заставляет мужчин видеть в женщинах некий бесконечно привлекательный идеал.
Иван Осокин приобщается к мистической силе эротизма, когда после отчисления из школы и смерти матери отправляется жить к дяде в деревню и встречается с прекрасной и, очевидно, более опытной Танечкой. В первом их объятии «по телу Осокина пробегают тысячи электрических искр»[26]. Вскоре Осокин едет в город на любимой лошади. «Сильные, упругие движения лошади под ним, теплый ветер с запахом цветущей липы и ощущение Танечки во всем теле – все это уносит Осокина далеко от всяких мыслей»[27]. «Танечка – это часть природы, как поле, лес, речка. Я никогда не представлял себе, чтобы ощущение женщины было до такой степени похоже на ощущение природы»[28]. Позднее, когда они собирают грибы, Танечка решает выкупаться в ручье. Осокин, как истинный джентльмен, уходит в сторону и курит в одиночестве. Затем он слышит, как она его зовет. Выйдя на берег, он видит, что она стоит обнаженной, по колени в воде. Но что-то между ними изменилось. Их детская, почти животная игривость стала чем-то иным[29]. Осокин ощущает «в ней огромную тайну, и эта тайна пугает его, волнует и окружает ее магическим кругом, через который он не может переступить»[30]. В ту ночь, когда она спит с ним, очевидно, что она выступает соблазнительницей. Происходило ли подобное с Успенским, неизвестно. Но учитывая живость описаний и страстную реакцию Осокина во время любовной сцены, вполне оправданным будет предположить, что происходило.
Однако не вся романтика в «Странной жизни Ивана Осокина» служит только прелюдией к философии. Часть ее – просто подростковое веселье. И многие рассуждения Успенского о женщинах выглядят не столько описанием их превосходства, сколько откровенной оценкой их очарования. Оказавшегося во время обучения в военной школе в казино Осокина привлекает «странно задумчивая блондинка», черное платье которой с четырехугольным вырезом открывает выпуклость груди. На ее руках видны «белые с синим жилки», и он отчетливо «чувствует в ней женщину»[31]. В Париже он встречает Валери, «высокую блондинку с волосами цвета осенних листьев». Он восхищается ее ступнями в «парижских туфлях на высоких каблуках», но также его привлекает ее ум: она читает Пушкина и изучает историю готических соборов. Но там же он встречает Лулу, «воплощенную нелепость». Лулу – это «нелепость, самая восхитительная, какая только может быть. От нее никогда не знаешь, чего ожидать». Иногда Осокин хочет «выпороть ее», но она, в конце концов, «настоящая женщина». В больших дозах они действуют друг другу на нервы, потому что Лулу «слишком примитивна, чтобы с ней можно было проводить целые дни». Однако он начинает чувствовать, что его жизнь в Париже становится слишком привычной, и вот вмешивается судьба. Вечером за рулеточным столом Осокин теряет все наследство меньше чем за час. Его гладкая легкая жизнь трагически разрушается[32].
И так тянется весь роман. Снова и снова Осокин-Успенский оказывается на перекрестках жизни, где, поступи он иначе, и результат был бы иным. Однако на каждом перекрестке прошлого и настоящего он оказывается не способен поступить иначе, и только потом осознает, что снова совершил ту же самую ошибку. Каждый раз он жалеет о своей глупости и решает измениться, однако ему ни разу не удается изменить прошлое. Он идет вперед, намеренный продолжать, несмотря на то, что впереди его ждут будущее, револьвер и волшебник. «В то же время в таинственном завтра что-то мерцает, что-то манит, ощущается что-то неизбежное и привлекательное»[33]. Повторение может быть вечным, но такова же и тяга к неизвестному, и именно она больше, чем что-либо другое, зовет молодых поэтов вперед. Успенский мог не осознавать этого, когда писал историю Ивана Осокина, но в ходе собственной жизни ему придется познать эту тягу сполна.
6
Ouspensky P. D. A Further Record. London: Arkana, 1986. С. 1.
7
Landau R. God Is My Adventure. L.: Faber and Faber, 1939. С. 175.
8
Описание моего собственного опыта пророческих снов см. в моей статье Dreaming Ahead в выпуске The Quest, зима 1997.
9
Ouspensky P. D. In Search of Miraculous. L.: Routledge & Kegan Paul, 1983. С. 3.
10
Ouspensky P. D. A New Model of the Universe. N. Y.: Alfred Knopf, 1969. С. 3.
11
Там же.
12
Суть политики «нулевой терпимости» заключается в следующем: ни один случай насилия не должен остаться без внимания и пройти безнаказанным.
13
Ouspensky P. D. A Further Record. С. 300.
14
Mouravieff B. Ouspensky, Gurdjieff and the Work: Fragments of the Unknown Teaching. Chicago: Prazis Research Institute, 1997. C. 11.
15
Wilson C. The Strange Life of P. D. Ouspensky. L.: Aquarian Press, 1993. С. 15.
16
Позднее, в 1913 году, Успенский будет читать лекцию по роману Михаила Арцыбашева «У последней черты», где рассматривается вопрос самоубийства. Печальная судьба Ивана Осокина позволяет предположить, что Успенский питал к этой теме не только теоретический интерес.
17
Ouspensky P. D. Strange Life of Ivan Osokin. L.: Arkana, 1987. С. 10–11.
18
Ouspensky P. D. A New Model of the Universe. С. 433.
19
Ouspensky P. D. Strange Life of Ivan Osokin. С. 13.
20
Bland R. Eztracts from Nine Letters at the Beginning of P. D. Ouspensky’s Work in 1921. Cape Town: Stourton Press, 1952; Селтон М. Случай П. Д. Успенского // Quest № 34, Бомбей, Индия, 1962.
21
Ouspensky P. D. Strange Life of Ivan Osokin. С. 123–124.
22
Там же. С. 125. Примечание: курсив в цитатах по оригиналу, если не указано иного.
23
Там же.
24
Цитата из «Фауста» в переводе Б. Пастернака.
25
Ouspensky P. D. A New Model of the Universe. С. 474–475.
26
Ouspensky P. D. Strange Life of Ivan Osokin. С. 82.
27
Там же.
28
Там же. С. 84.
29
Там же. С. 87.
30
Там же. С. 88.
31
Там же. С. 100–101.
32
Там же. С. 106–112.
33
Там же. С. 99.