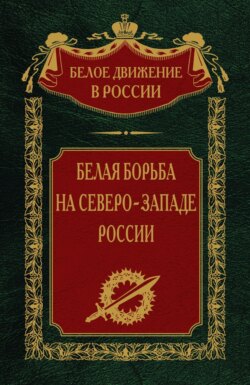Читать книгу Белая борьба на северо-западе России. Том 10 - С. В. Волков, Группа авторов - Страница 3
Раздел 1
Светлейший князь А. Айвен1
Основание отряда2
ОглавлениеОснование отряда относится к самому началу 1919 года, времени наивысшего напряжения борьбы белых с красными на территории бывшей Российской империи. В начале года Колчак хотя и отступил от Вятки и Перми, но твердо держался на Урале. Деникин подготовлял свое наступление с Юга и продвинулся до линии Киев – Курск— Царицын. На Севере генерал Миллер3, поддержанный союзниками, медленно продвигался на соединение с Колчаком. На Западе боролись с большевиками поляки, литовцы, латыши с помощью германских оккупационных войск, и эстонцы – с помощью отошедшего в Эстонию из Пскова Северного корпуса. Финляндцы же уже в 1918 году под водительством Маннергейма4 и при помощи германских войск генерала графа фон дер Гольца5 очистили свою территорию от красных.
Начало борьбы с большевиками на территории бывшего Прибалтийского края относится к последним месяцам 1918 года. Край с февраля уже был оккупирован германскими войсками. По Брест-Литовскому мирному договору германцы закрепили за собою линию от Усть-Наровы, включая город Нарву, по Псковскому озеру, по реке Великой, включая города Псков, Остров, Двинск, и далее по линии, проходившей восточнее Минска. По тому же договору большевики, по исполнении ими некоторых возложенных на них мирным договором условий, должны были получить обратно города Псков, Остров и Двинск, а немцы – отойти к границам бывшей Лифляндекой и Эстляндской губерний. Ввиду предстоявшей эвакуации Псковской области, немцы, не доверявшие большевикам и в рядах армии открыто враждебные красным, разрешили образование на псковской территории добровольческого корпуса, которому обещана была денежная и материальная помощь снабжением и снаряжением. Так началось 12 октября формирование Северного корпуса, разросшегося с течением времени в Северо-Западную Добровольческую армию.
Германское военное командование хотя и заключило мир с большевиками, но, не сочувствуя им, благосклонно отнеслось к формированию небольшой русской армии, поставившей себе задачу охранить Псковскую область от вторжения большевиков после ухода германцев. К командованию этой армии предназначался генерал граф Келлер, впоследствии убитый в январе 1919 года в Киеве. Но он в Псков не прибыл, и командование взял на себя генерал Вандам.
Германцы снабдили армию оружием и снаряжением и предполагали оставить при уходе еще и другое военное имущество, необходимое ей. Но формирование армии, точно так же, как и организация областного управления, не были окончены к моменту германской революции.
8 ноября началась германская революция, а вслед за ней и развал фронта германских войск, уже ранее развращенных братанием с красными товарищами. Солдаты стали самовольно покидать свои части и уходить домой. Большевики воспользовались этим моментом, сосредоточили большие силы в районе Торошино – Карамышево – Себеж и начали 25 ноября наступать на Псков. Германские части, которые имели задачу оборонять левый фланг позиции, а также поддерживать порядок в городе, начали без боя отступать по направлению к Изборску. Псковский добровольческий корпус, несмотря на свою численную слабость и на недостаток всего необходимого, храбро атаковал большевиков правым крылом, продвинулся и захватил броневой поезд и несколько броневиков. В это время замечен был охват левого фланга. В городе местные большевики, хорошо снабженные германскими солдатами, продававшими им казенное добро, оружие и амуницию, устроили восстание.
При такой обстановке русские части, конечно, держаться не могли, и им пришлось уличными боями пробить себе дорогу через город и под обстрелом неприятеля переправиться отчасти по мостам, отчасти на лодках через реку Великую на левый (западный) берег, бросив в Пскове все личное имущество свое и имущество своих частей. Большевики же ознаменовали свою победу многочисленными расстрелами в городе, начиная с владельцев гостиниц и кофеен, где бывали офицеры, и кончая рабочими тех мастерских и заводов, которые работали на армию. По официальным данным, опубликованным в местных большевистских газетах, число их жертв в первые же дни превосходило 300 убитых.
На запад же от Пскова длинными редкими колоннами растянулись отступавшие русские части, враждебно встречаемые большевистски настроенными местными жителями. Много отставших было перебито. В самом плачевном состоянии остатки армии достигли Валка, где полковнику Нефу6 удалось их собрать и перейти на эстонскую территорию. Часть же штаба и масса офицеров докатились поездами прямо до Риги. Так как большевики, не встречая сопротивления, быстро подвигались и, оттеснив армию полковника Нефа на север, заняли Валк, то находившиеся в Риге офицеры и чины штаба оказались отрезанными от своих частей и при дальнейшем наступлении на Ригу большевиков уехали по железной дороге отчасти в Либаву, отчасти прямо в Германию.
При весьма тяжелых условиях корпус отступил на Изборск и сосредоточился севернее Валка. Штаб же корпуса отрезан был от частей, так как большевики сразу заняли мосты через реку Великую. Переправа произведена была на лодках.
Во главе корпуса стоял полковник Неф, который всего за 4 дня боя принял на себя командование.
Состав корпуса в Пскове был следующий:
1) Штаб корпуса, состоявший всего из двух офицеров, начальника штаба и его адъютанта.
2) Рота, образованная из всех писарей корпуса.
3) Три стрелковых полка однобатальонного состава.
а) 1-й Псковский добровольческий стрелковый полк.
б) 2-й Островский добровольческий стрелковый полк.
в) 3-й Режицкий добровольческий стрелковый полк.
4) Партизанский отряд Балаховича7.
5) Отряд капитана Микоши8.
6) Талабский отряд.
7) Партизанский отряд полковника Бибикова9.
8) Батарея в 4 орудия.
9) Полубатарея в 2 орудия отряда Балаховича.
10) 30 пулеметов.
Всего было 3000 человек, включая 500 офицеров.
Островский полк, отходивший на Валк, сделал набег на станцию, разгромил городской совет, занял город Руэн и, войдя в соприкосновение с красными, отходил на Ревель, неся заставы совместно с ново-сформированными эстонскими войсками и финскими добровольцами.
В середине декабря полковник Неф заключил договор с эстонским правительством и, сосредоточив свои части у Ревеля, помог отстоять этот город от большевиков.
В течение декабря положение в Риге делалось изо дня в день все более критическим. Германские войска категорически отказывались сражаться против русских товарищей, продавали им за бесценок все, что могли, и уступали им за известную мзду один город за другим.
В Риге всполошились, и жители принялись за организацию отрядов земской обороны, известных под общим названием Балтийского ландесвера. Наскоро формировались роты латышские, немецко-балтийские и русские. Из германских добровольцев, желавших поддержать дисциплину в развалившейся германской армии, была сформирована так называемая Железная дивизия.
Одновременно в Риге собралось значительное количество русских офицеров, не желавших вернуться в отступившую на эстонскую территорию Псковскую армию, в том числе и начальник штаба ротмистр Розенберг10.
Последний старался убедить полковника Нефа отступить через Ригу и избрать Курляндию и Митаву базой для дальнейших формирований. Преимуществом этой базы было бы получение пополнений из русских лагерей военнопленных в Германии, но, как выше было сказано, полковник Неф предпочел базироваться на Эстонию. Для связи в Ригу был командирован генерал-майор Родзянко11, задача коего была – объединить под общим командованием Балтийский ландесвер12 и остатки Псковской армии. Это ему в Риге не удалось, с одной стороны, благодаря противодействию германского командования, а с другой стороны – разногласию митинговавшего русского офицерства Северной армии.
С середины декабря генерал Родзянко и я выехали в Либаву для доклада английскому адмиралу Синклеру о положении и передали составленную нами докладную записку. Встреченные весьма любезно, мы не могли, однако, добиться обещания о поддержке нам и вернулись в Ригу.
Но тут, при общем развале, при явной растерянности германского высшего командования и при полной неподготовленности молодых добровольческих частей, задержать наступление большевиков восточнее Риги не удалось.
Высланные в Хинценберг небольшие части Балтийского ландесвера были окружены красными и едва избегли полного уничтожения.
В городе началась паника… Кто мог попасть в поезд, бежал в Германию или в Либаву. Одна из латышских рот в городе взбунтовалась и была окружена и разоружена другими частями, поддержанными артиллерийским огнем с английских военных судов, стоявших на реке Западной Двине. В обороне города флот, несмотря на неофициальное о том обещание адмирала, по приказанию из Лондона, не участвовал, но помог эвакуировать в Данию и Англию некоторое количество беженцев.
2 января 1919 года город был брошен на произвол судьбы, и начался режим большевиков, ознаменовавшийся чрезвычайно развитой террористической деятельностью.
Отступившие от Риги ландесверные и германские добровольческие части, а также 2 латышские роты и русская рота капитана Дыдорова13 еще раз задержались в Митаве на линии реки Курляндской Аа, но 8 января эвакуировали этот город, отступая при невероятно тяжелых условиях снабжения и снаряжения при сильных январских морозах до линии реки Виндавы, где и задержались.
Одновременно в тылу в Либаве происходило переформирование всех добровольческих частей и подготовка их к новому походу. Сюда же прибыло латвийское правительство с премьер-министром Ульманисом во главе. Ввиду того что германцы по условиям перемирия обязаны были эвакуировать Курляндию, организация всех добровольческих частей шла от имени и за счет молодого латвийского правительства. Однако, ввиду того обстоятельства, что у этого правительства не было никаких средств, Германия согласилась отпускать взаимообразно латвийскому правительству как денежные средства, так и обмундирование, снаряжение и вооружение. Германские добровольцы и весь командный состав считались на службе у Латвии. По особому соглашению между представителями Германской империи и временным правительством Латвии, заключенному еще в Риге 29 декабря 1918 года, «Временное правительство Латвии согласно признать по ходатайству о том все права гражданства в Латвии за всеми иностранцами, состоящими в армии и прослужившими не менее 4 недель в добровольческих частях, сражающихся за освобождение латвийской территории от большевиков». Соглашение это подписано с германской стороны Виннингом, а с латвийской – председателем Совета министров К. Ульманисом и министрами Р. Паэгле и Я. Залитом.
По этому соглашению германские добровольцы, приобретая права гражданства в Латвии, несомненно приобретали права на покупку земельных участков в пределах республики. (Впоследствии латвийское правительство Ульманиса отказалось от исполнения обязательств, взятых на себя соглашением, мотивируя свой отказ ссылкой на Версальский мир, по которому обязательства, данные кем-либо германцам или Германии, считаются недействительными и не имеющими силы. Такое отношение латвийского правительства к вопросу вызвало летом 1919 года сильное брожение среди германских добровольцев, желавших поселиться на земле в пределах Курляндии.)
Одновременно с переформированием ландесвера в январе 1919 года началось и формирование русского отряда, принявшего название «Либавский добровольческий стрелковый отряд», но более известного под названием Ливенского отряда. Поводом к формированию его было то обстоятельство, что в Либаве сосредоточилась масса русских офицеров-беженцев, не имевших прямого отношения к Прибалтийскому краю, а потому не поступивших в ряды добровольческих формирований ландесвера.
Собрания русских офицеров, начавшиеся в Риге под председательством генерал-майора Родзянко, продолжались в Либаве под руководством полковника л. – гв. Конного полка графа Палена14. В офицерстве выяснились три течения. Одна группа, пессимистически настроенная, не верила в возможность успеха и только думала об устройстве личных дел и о переезде в более спокойную Германию. Другие стремились в Ревель на присоединение к Северному корпусу. Третья группа, во главе которой стал я, поставила себе целью организовать борьбу на местах. Я руководствовался при этом следующими соображениями.
Северный корпус базировался на Ревель и вполне зависел от возможности или невозможности получать пополнения и снабжения морем, а потому одновременно и от того, кто в данное время является хозяином моря. Мне пришлось несколько раз за это время с генералом Родзянко ездить к командующему английским флотом, сперва к адмиралу Синклеру, а затем сэру Коану. При адмиралах находились и представители английского Foreign Office (министерства иностранных дел). Если наши русские стремления и встречали полное понимание у английских моряков, то отношение дипломатических агентов было далеко не дружелюбное. Они определенно поставили себе целью ослабление русского влияния на побережье Балтийского моря.
Я не мог не прийти к убеждению, что помощь наших союзников Северо-Западной армии может быть лишь относительной, то есть лишь постольку поскольку эта русская армия будет способствовать очищению территории Эстонии от большевиков. Несмотря на это мое убеждение, я за все время моего пребывания в Либавском районе всемерно содействовал отправлению офицеров в Ревель.
Сообщение было лишь случайным, и пароходы, ходившие туда, были крайне плохого качества и ненадежны.
Второе соображение, побудившее меня выступить в пользу формирования русских частей в Либаве, – близость к Германии, где в это время находился неиссякаемый запас людей для пополнения любых частей, а именно не менее миллиона русских военнопленных. Большая часть их была заражена большевизмом, многие просто не желали воевать, но все же при таком количестве людей можно было всегда выбрать некоторый процент годных и надежных людей, в особенности среди офицерства. Правда, как мне пришлось убедиться на практике, даже офицеры, пробывшие некоторое время в плену, в первое время, благодаря хроническому недоеданию и бездеятельности, не годились для энергичной, настойчивой работы. Лишь постепенно часть их входила в норму, часть же так и оставалась никуда не годной. Пополнения из Германии могли прибывать в Либавский район эшелонами, и своевременная доставка их зависела как от германского штаба, так и от союзнических офицеров контрольных комиссий.
Третье соображение – в Либавском районе было очень много оружия и военного снаряжения, подлежавшего по условиям перемирия выдаче союзникам или уничтожению. Я полагал, что все, как германцы, так и союзники, согласятся на том, что лучшего назначения для этого снаряжения не может быть, как употребить его в деле борьбы с большевиками.
Четвертое, и самое важное, соображение было чисто стратегическое: я считал, что направление наступления из Либавы через Ригу на линию Псков – Двинск из всех направлений имеет наибольшие шансы на успех.
Инструкции, полученные мною позже из штаба Северо-Западной армии, предписывали мне именно это направление для присоединения после взятия Риги к правому флангу Северо-Западной армии. Имея в своем тылу хорошую сеть железных дорог с базой в Либаве, я имел все шансы на успех не только для подчиненного мне отряда, переименованного затем в корпус, но успех в этом направлении мог быть и решающим при наступлении Северо-Западной армии на Петроград.
Я вполне сознавал, что, останавливаясь на этом направлении, я попадаю в чрезвычайно сложные политические условия. Либава лежит в Латвии, которая 18 ноября 1918 года объявила свою независимость и с небольшой площадью двух уездов представляла собою единственную территорию, на которую распространялась власть правительства Ульманиса. Германская армия являлась в это время еще оккупационной властью. Она не была эвакуирована из Курляндии с разрешения победоносных правительств держав Согласия, ввиду большевистской опасности для Западной Европы. Военные миссии этих держав, поддержанные флотом союзников, осуществляли фактический надзор за всеми событиями и движениями германцев. Ко всему этому, произошло в Либаве скопление русских противобольшевистских военных чинов и сформировались немецко-балтийские части, из которых одни держались явно германской ориентации, другие же не скрывали своих русских симпатий.
Сформировать при таких условиях русский добровольческий отряд было весьма трудно. Латыши, естественно, не доверяли такой формации, которая боролась за восстановление России, германофильствующие балтийцы косились, союзники видели в русских германофилов, а германцы – антантофилов.
Ввиду таких затруднений, генерал Родзянко и граф Пален выбыли в Ревель, и я остался один в Либаве, но, поддержанный энергично группою русских офицеров-патриотов, продолжал проводить свою организацию.
Результатом этого явилась возможность издать 15 января первый приказ по вновь сформированному отряду.
Удалось это мне благодаря тому, что я нашел следующий выход из положения. Я лично со своим отрядом вошел в соглашение с Балтийским ландесвером. По этому соглашению Либавский добровольческий отряд, не входя в состав ландесвера, обязался временно подчиниться командиру ландесвера, за что получил полное снабжение, снаряжение, вооружение и довольствие. Соглашение это должно было длиться до того момента, когда отряду возможно будет идти на соединение с Северо-Западной армией, то есть по предположению вслед за взятием Риги.
Отряд был чисто русский, принципы его были те же, что и в Добровольческой армии, то есть борьба с большевиками для восстановления Великой России и для доведения ее до Учредительного собрания. В местную политику Прибалтийского края отряд не вмешивался и в случае недоразумения в этом крае обязался оставаться нейтральным. По отношению к Латвии я признавал ее политическую независимость.
Отношение между противобольшевистскими армиями и окраинными государствами должно было быть с самого начала основано на доброжелательности и доверии, являющимися единственным залогом совместной экономической работы в будущем. Самоопределившиеся народы должны были сознавать, что они в интересах своего дальнейшего экономического благосостояния целиком зависят от их отношения к России, в которой восстановлена законная власть. Это доверие противобольшевистские силы могли приобрести только в том случае, если права окраинных государств будут ими признаны и уважены. (Непризнание же независимости окраины было одной из главных причин неудачи русской борьбы с большевиками.)
Благодаря этой занятой мною принципиальной позиции, отношение мое во время пребывания моего отряда в пределах Латвии было всегда к правительству страны корректное, что правительством Латвии и народом было правильно оценено.
При таком создавшемся отношении отряд мог сохранить свой чисто русский национальный облик. На службу в отряд принимались только офицеры русской службы и добровольцы русскоподданные, как раньше служившие в армии, так и не служившие вовсе. Служившие ранее в германской армии от приема в отряд были исключены.
Вступавшие в отряд поступали на действительную службу Российского государства и обязывались подчиняться всем уставам военной службы и законам Российского государства, изданным до 28 февраля 1917 года. Допущены были лишь те отклонения, которые были введены и в Добровольческой армии, а именно: вместо выражения «нижний чин» введено было выражение «доброволец», «стрелок» или наименование по роду оружия. Обращение к добровольцам было на «вы», обращение добровольцев к офицерам до полковника включительно было «господин поручик», «господин полковник», обращение же к генеральским чинам было «превосходительство», наконец, отдание чести со вставанием во фронт было отменено.
Срок службы добровольцев обуславливался сроком, введенным в Балтийском ландесвере, то есть первоначально по 1 июля, затем по 1 октября 1919 года. Для офицеров служба была по самому смыслу своему бессрочная. Денежное довольствие было приравнено к окладам, введенным в ландесвере, то есть для добровольца 6 германских марок в сутки, для офицера – по 11, а затем эти оклады были повышены для добровольцев до 11 марок, а для рядовых офицеров – до 18 марок. Офицеры на командных должностях получали соответствующие прибавки.
О сформировании отряда через Российскую миссию в Стокгольме был поставлен в известность генерал Деникин, которому отряд считал себя подчиненным, точно так же как и адмиралу Колчаку. Сообщения с внешним миром, с генералом Деникиным и с министром иностранных дел Сазоновым в Париже были очень затруднены, и большинство из моих телеграмм и донесений не дошло по назначению. Не желая никого в этом обвинять, я позволяю себе высказать обоснованное подозрение, что кто-то где-то был заинтересован, чтобы эти известия не доходили по назначению. Наконец, в июне пришло официальное извещение от адмирала Колчака, что я назначен командиром русских стрелковых частей в Курляндии с подчинением генералу Юденичу в Финляндии, как Главнокомандующему фронтом.
Отряд шел под национальным русским бело-сине-красным флагом и имел печать с российским гербом дореволюционного образца. Обмундирование в отряде было германское, но с русскими погонами и по мере возможности с русскими пуговицами. Фуражка имела голубой околышек с русской кокардой. На левом рукаве носилась угловая нашивка бело-сине-красного цвета, а под ней четырехгранный белый крест.
Отряд никогда не выкидывал монархических лозунгов, но определенно верил, что разбитая, разграбленная и разодранная партийными распрями Россия в будущем не может быть возрождена иначе, как восстановлением сильной центральной власти, что отнюдь не должно означать возвращение к ошибкам царского режима вообще и по вопросу окраин в особенности. Отношение мое к вопросу так называемого белого террора было определенно отрицательное. Целью борьбы было восстановление в России порядка, а не уничтожение большевиков вообще. Самочинные расстрелы были, безусловно, запрещены, и все арестованные большевики передавались в военно-полевые суды, составленные из старших офицеров, исключительно по обвинению в определенном преступлении. Только лицо, совершившее преступление, независимо от принадлежности к партии подвергалось уголовному наказанию; при недоказанности преступления суд выносил оправдательный приговор, даже если обвиняемое лицо состояло на службе у большевиков. Благодаря этому многие красноармейцы переходили именно во вверенный мне отряд и за немногими исключениями оказывались вполне благонадежными.
Отношение к германским оккупационным силам было всегда корректное. Гауптман Вилюцкий в управлении оккупационной армии в Либаве сочувствовал русскому формированию. Командир ландесвера майор Флетчер и начальник его штаба граф Дона во всех вопросах оказывали отряду всякую возможную поддержку, и командующий граф фон дер Гольц определенно и убежденно сочувствовал делу восстановления России, конечно, не из симпатии к России, а как умный человек, понимавший опасность большевизма для Германии. Совместная работа с германцами в борьбе с большевиками установила между бывшими врагами самые лучшие отношения, что, однако, отнюдь не следует понимать в том смысле, что я попал в германофильское течение. Я определенно заявлял германцам, союзникам и русским, что я не германофил, но и не антантофил, а лишь русский патриот, который принимает помощь от кого угодно, если она идет в пользу русского дела.
Благодаря этой позиции между мною и союзными военными миссиями установились и поддерживались самые лучшие отношения. Я многим обязан симпатии начальника американской миссии полковника Варрика Грина. С начальником французской миссии Дюнаркэ установились самые дружеские отношения; то же самое я должен сказать и об отдельных членах английской военной миссии, в особенности о генерале Бырте. К сожалению, английские дипломатические представители, по причинам общеполитическим, все время относились ко мне с недоверием, но не столько из-за мнимого германофильства, сколько из сознания, что вокруг меня объединилась весьма значительная национальная русская группа, сила которой, в особенности после взятия Риги 22 мая 1919 года, росла не по дням, а по часам. Уничтожение этой русской силы в Южной Прибалтике есть исключительное дело англичан и генералов Гофа и Марша в особенности. Без их вмешательства в июле 1919 года (о чем речь будет дальше) русское дело разрослось бы стихийно до крупнейших размеров, ввиду особенно благоприятных для дела условий, в которых я находился и которые, к сожалению, вполне отсутствовали в Северо-Западной армии. Я напоминаю здесь лишь о возможности получения неограниченных количеств пополнений и снаряжения из Германии. Выгоды этого положения, к сожалению, не были полностью оценены, и повторения такого исключительного выгодного положения в будущем уже никогда предвидеть нельзя.
Из всего изложенного, я полагаю, в достаточной мере понятны будут те неимоверно трудные условия, при которых начато было мною дело, казавшееся тогда, в январе 1919 года, лишь незначительным частным предприятием какого-то ротмистра в уединенной Либаве.
С востока наступала красная волна, сдерживаемая лишь крошечными добровольческими отрядами. В Либаве скопилось неимоверное количество беженцев из Пскова, Риги, Митавы и со всей южноприбалтийской территории. Все частные квартиры, гостиницы, общежития и бараки были переполнены. Дни Либавы казались сочтенными. Пришлось думать о разгрузке Либавы, и поток беженцев хлынул в Германию, в страну, изголодавшуюся от продолжительной войны, но где беженцы, русские и прибалтийские, нашли временный приют. Описывать эту эвакуацию не стоит – это было повторение в ином месте, при иных обстоятельствах того, что случалось уже и в других портах злосчастной России. Лишь благодаря еще отчасти сохранившейся у германцев аккуратной педантичности эвакуация эта протекла в Либаве спокойнее, чем во многих других местах. Паническое же настроение, конечно, то же, что и при других эвакуациях и слишком знакомо – увы! – русским эмигрантам.
По окончании эвакуации главной волны беженцев во второй половине января оказалось, однако, что большевики наступать не могли: продвигаясь весьма быстро от Пскова до Виндавы, они выдохлись, в особенности латышские полки, уже раньше сильно потрепанные Колчаком на Урале; вернувшись на родину, они рассыпались, расходясь по домам. Сила некоторых полков не достигала 100 человек. Началась в Лифляндии и Курляндии мобилизация, но даже при большевистских приемах продвигалась она медленно, и новобранцы, не одетые, не обученные и плохо вооруженные, для наступательных действий вовсе не годились, для обороны же – лишь постольку поскольку наступление добровольческими частями не велось энергично.
Главные свои силы большевики сосредоточили по реке Виндаве южнее Гольдингена, и здесь оборона энергично велась небольшими ландесверскими частями, в особенности митавской ротой, русской ротой капитана Дыдорова и латышскими ротами полковника Колпака, павшего на этом участке смертью героя. Команду над латышскими частями принял доблестный и симпатичный полковник Баллод. Южнее латышских частей стояла германская добровольческая Железная дивизия майора Бишофа; еще южнее, уже в Литве (бывшей Ковенской губернии), – присланный из Германии 1-й резервный корпус, в состав которого входила гвардейская резервная дивизия.
Общее руководство всем фронтом сосредоточено было в руках генерала графа фон дер Гольца, штаб-квартира коего была в Либаве.
Ввиду того обстоятельства, что большевики не нажимали, высшему командованию удалось переформировать Балтийский ландесвер на новых началах. Нельзя забыть, что части были наскоро сформированы из бывших русских офицеров Прибалтийского края и добровольцев молодых и старых, никогда не служивших на военной службе. Надо удивляться, как при таких обстоятельствах эти мало сплоченные части без всякой подготовки, увлекаемые лишь восторженной любовью к Родине, совершили сравнительно удачно отступление от Риги до реки Виндавы с постоянными арьергардными боями и засадами в лесах.
Командный язык был русский, и вообще настроение военной молодежи было явно русофильское. Германцы решили подчинить ландесвер своему влиянию и начали ломку с вопроса командного состава, языка и метода обучения. Командиром ландесвера вместо русского генерала барона Фрейтаг-Лорингофена15 назначен был сперва германский полковник Розен, затем весьма талантливый, храбрый и симпатичный майор Флетчер, который быстро сумел завоевать себе доверие и преданность как офицеров, так и добровольцев.
Старшие офицеры ландесвера, полковники русской службы, перешли отчасти в русский отряд, отчасти в Ревель. Масса офицеров ландесвера хотела также демонстративно перейти в русский отряд, но лишь немногим это удалось, большинству в этом было отказано.
Для обучения строю в каждую роту были назначены инструкторами германские унтер-офицеры. Молодежь завопила, но в конце концов подчинилась, и надо отдать германцам справедливость, что никто, кроме них, не сумел бы из этих разрозненных добровольческих частей в несколько недель сформировать хорошо обученные и сплоченные воинские части.
Особенно выделялся ударный отряд (Stobtruppe), состав которого был наполовину германский с исключительно германскими офицерами.
Этот отряд силою приблизительно в 1200 штыков несомненно представлял собою в боевом смысле самую лучшую часть не только ландесвера, но всего фронта, но одновременно он являлся и носителем наиболее ярого крайнего германофильства. Командиром его был лейтенант барон Ганс Мантейфель, храбрый и талантливый офицер, павший геройской смертью во главе своего отряда при взятии Риги 22 мая 1919 года. Отряд имел две великолепные батареи и свою саперную роту. Все остальные роты были объединены под командованием графа Эйленбурга, храброго офицера и симпатичного, идейного человека. Сила его отряда была в 800 штыков. В его отряд входил эскадрон барона Гана16, штабс-ротмистра 12-го Ахтырского гусарского полка. Это была наилучшая кавалерийская часть всего фронта, с хорошим конским составом, так как большинство лошадей принадлежали офицерам и добровольцам эскадрона.
Кроме того, в состав ландесвера входили два самостоятельных эскадрона, а именно барона Драхенфельса17, подполковника 19-го Архангелогородского драгунского полка, и вольный эскадрон барона Энгельгарда, помещика Илукстского уезда Курляндской губернии. Первый эскадрон силою в 100 коней участвовал в боевых действиях на правом фланге фронта уже в Литве, а второй эскадрон силою в 80 коней занимался более карательными экспедициями, чем боевыми задачами.
Латыши были объединены под командою полковника Колпака, а после его смерти полковника Баллода. Сила их была приблизительно в 2000 штыков. Тактически они были подчинены командиру ландесвера, но имели свою отличительную форму – красный околыш на фуражке и красные петлицы с белой полоской. Командный язык был латышский. Между немецко-балтийскими и латышскими частями отношения все время были самые корректные; заслуга принадлежит как высоким нравственным качествам полковника Баллода, так и тактичности майора Флетчера.
Отношения между ландесверными частями и русскими добровольцами были вначале натянутые, но по мере продвижения и вообще совместной работы это чувство уступило место самому честному товарищескому отношению. И опять заслуга принадлежит как боевой доблести русского отряда, так и тактичности майора Флетчера, который открыто выражал свое восхищение перед боевой работой русских.