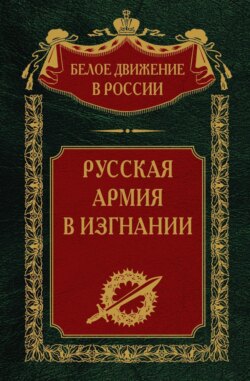Читать книгу Русская Армия в изгнании. Том 13 - С. В. Волков, Группа авторов - Страница 5
Раздел 1
В. Даватц1
Годы. Очерки пятилетней борьбы2
По лицу земли
ОглавлениеВторой период жизни Русской Армии – период подготовки к переходу на трудовое положение – можно считать законченным после наступления спокойствия в Болгарии. Для Сербии он начался еще раньше; но болгарские события не давали возможности закрепиться новым формам и начать третий период – переход армии на самообеспечение.
«Самообеспечение» армии вовсе не знаменует собою такого состояния, когда всем отдельным чинам ее обеспечен минимум средств к существованию. Дать русским воинам возможность своим трудом зарабатывать себе хлеб было одной из насущнейших задач Главного командования; но это была главная, но не главнейшая задача. Армия не могла превратиться в посредническую контору или биржу труда; помощь отдельным лицам не могла сделаться самоцелью. Сохраняя основу каждой армии – человеческий материал – Главное командование, раз оно не отказалось от мысли о значении армии, должно было заботиться прежде всего о сохранении всей организации.
Сама организация могла и должна была принимать новые формы, в зависимости от внешней обстановки. Подобно тому как во время боя походная колонна развертывается в резервную, заменяется линией колонн, переходит в развернутый строй и заканчивается рассыпным строем, так и во время этого тягчайшего боя в обстановке изгнания пришел момент принять рассыпной строй.
Для постороннего зрителя, на которого действует вид военных перестроений, рассыпной строй может показаться беспорядком, но он тем и отличается от неорганизованной толпы, что, предоставляя свободу личной инициативы, он сохраняет, не менее походной колонны, общее управление над людьми.
То, что было заложено в Галлиполи и на Лемносе, то, что было закалено в борьбе с коммунистическим натиском в Болгарии, наконец, то, что приобреталось в тяжелом повседневном труде, – все это позволяло уже не беспокоиться за прочность военной спайки. Все эти лица уже не нуждались больше в казарменном режиме. Смотря по обстоятельствам им можно было придавать различную организацию, начиная от чисто полковой организации отдельных рабочих групп в Сербии, переходя к форме рабочих артелей и кончая совершенно свободными студенческими землячествами.
Но воинскими частями, прибывшими из Крыма, не ограничивалась Русская Армия. Кроме них, по лицу земли были разбросаны русские офицеры и солдаты, принимавшие участие в противобольшевистской борьбе на других фронтах или совсем не принимавшие в ней участия, но являющиеся такими же чинами Русской Армии. Они, как отдельные лица, были брошены в водоворот жизни. Они, естественно, сразу же окунулись в эту жизнь, сразу же захлестнулись интересами окружающей среды. Каждый из них оставался по-прежнему воинским чином; но все вместе они не представляли из себя воинской организации.
Однако и в этой обстановке они неизменно стремились друг к другу и образовывали слабые профессиональные военные союзы. Учитывая это и придавая значение возможно большему единообразию в их конструкции, уже в апреле 1921 года был утвержден Главнокомандующим «нормальный устав» и военным представителям разных стран дано задание – не только содействовать образованию союзов, но и объединять их по каждой стране общим руководством.
В письме генералу Шатилову еще от 26 сентября 1923 года генерал Врангель так обрисовывает значение союзов: «…Армия, нашедшая себе приют на Балканах, ныне стала на ноги, за участь ее мы можем быть спокойны. Вокруг нее надо собрать тех воинов, которые рассеяны по всему миру. В дальнейшем, по мере того как наше изгнание будет длиться и чины армии в поисках работы будут постепенно оставлять ряды родных частей и, прибывая в ту или иную страну, входить в офицерские союзы, это различие между собственно армией и объединенным в союзы офицерством будет сглаживаться».
Союзы мало-помалу крепли – и, конечно, не могли не тянуться к основному ядру – Русской Армии. Ядро это явилось могучим объединяющим и организующим центром. Но на пути к этому объединению встали значительные препятствия. Препятствия эти были двух родов: внутреннего и внешнего.
Внутренние препятствия проистекали от условий самого образования союзов. Они возникли в совершенно мирных гражданских условиях жизни и, естественно, восприняли многое, что не укладывалось в рамки военной организации, несмотря ни на какие уставы: между формами совершенно свободной ассоциации и формами воинской жизни должно было быть внутреннее несогласие.
Внешнее препятствие состояло в том, что военные союзы легко подпадали под влияние политической агитации извне, – из воинских частей они превращались в политические клубы.
Перед Главным командованием встала задача: приблизить формы жизни союзов к воинскому укладу и тем сделать возможным широкое объединение всех воинских чинов за границей. Приказ № 82, о котором шла речь выше, был вызван именно этими обстоятельствами. Приказ этот ограждал союзы от влияния политических группировок и впервые применял к независимым общественным организациям воинское приказание.
Мы уже видели, как после некоторой борьбы привычное чувство офицеров одержало верх над непривычным чувством гражданской свободы: приказ был принят подавляющим числом союзов. Но с того момента, как он был принят, уничтожалась принципиальная грань, разделяющая две части Русской Армии. Оставалось углубить и закрепить новое положение, и 1 сентября 1924 года был отдан приказ об образовании Русского Обще-Воинского Союза.
В Русский Обще-Воинский Союз включались все воинские части и воинские союзы и общества, принявшие к исполнению приказ № 82, а также те, которые в будущем пожелали бы присоединиться к объединению. Внутренняя жизнь, регламентируемая уставом отдельных обществ, сохранялась в силе; Русский Обще-Воинский Союз как бы объединял все воинские организации. В своем административном управлении союз делился на отделы, во главе которого становились начальники отдела, непосредственно подчиненные Главнокомандующему, которым давалось общее руководство по деятельности отделов.
Таким образом, устанавливалось существенно новое положение, которое несомненно было присуще офицерским организациям, но которое не фигурировало ни в одном из уставов. По этим уставам выбранный председатель являлся только исполнительным органом избравшего его коллектива; теперь возможны были общие указания, и идущие не снизу, но сверху. Такое переходное – и внутренне противоречивое – положение продолжалось до приказа Верховного Главнокомандующего, приравнявшего военные союзы к воинским частям. Согласно этому приказу председатели офицерских союзов назначались властью Верховного Главнокомандующего: принцип выборности заменился постепенно принципом назначения (из общего числа военных союзов исключен только Союз Военных Инвалидов, как организация чисто гуманитарная). В руки Великого князя переходила теперь военная организация, с таким большим трудом сохраненная среди всеобщего распыления.
Для того чтобы завершить большое дело объединения, потребовалась планомерная, упорная и продолжительная работа. Случайные средства Главного командования истощились к осени 1922 года; ликвидация к этому времени Ссудной Казны давала возможность впервые составить сметные предположения на более или менее продолжительный срок и расходную смету на период с 1 октября 1922 года до 1 апреля 1924 года. Однако практически смета утверждалась только на ближайшую четверть года – ив каждый последующий период проводились новые и новые сокращения.
Уже к осени 1922 года почти все чины армии стали на работу, но дальнейшее проведение в жизнь намеченного плана не прекращалось, и 16 апреля 1923 года начальнику штаба Главнокомандующего, генералу Миллеру, было дано предписание «…в срочном порядке разработать меры для постепенного перехода работающих чинов армии на самообеспечение; наметить сообразно с условиями работ обязательные отчисления с заработной платы для образования капиталов больничных, страховых, организационных и т. д.; разработать положение о кассах взаимопомощи, взаимного кредита, сберегательных и т. д. В зависимости от условий работ и государства, где работают чины армии, меры эти могут быть разнообразны, но в конечном итоге должны привести к тому, чтобы в ближайшее время и по возможности не позже как к весне будущего года все части армии стали бы полностью на ноги».
Во исполнение указанного предписания стали копиться суммы про черный день. Отпускаемые Главнокомандующим в распоряжение начальников войсковых групп суммы на хозяйственные нужды частей, на помощь безработным и т. д. были обращены в «предельные»: неиспользованные кредиты возвращению Главному командованию не подлежали, оставаясь в распоряжении старших начальников и составляя так называемые «хозяйственные суммы» войсковых групп.
Эти суммы давали возможность в случае сокращения или прекращения казенных отпусков на ту или иную надобность покрывать наиболее насущные нужды. Из этих же сумм в дальнейшем частично покрывался расход по содержанию кадрового состава частей, так как содержание это за счет работы чинов части признавалось недопустимым, и этот принцип строго проводился в жизнь.
Одновременно накапливались капиталы и в самих частях. Суммы эти были двух родов. Части, стоящие на работах, обязаны были делать определенные отчисления в особый капитал, являющийся собственностью самих вкладчиков. Это были своего рода сберегательные кассы, но вкладчик, пока он состоял в части, лишен был возможности свободного пользования этими деньгами. Командир части являлся до некоторой степени опекуном над таким вкладчиком и, выдавая деньги в случае безработицы, болезни и пр., мог отказать в выдаче по первому немотивированному требованию. Деньги возвращались обязательно только лицам, уходящим из части совершенно. Подобные капиталы существовали и в мирное время в Русской Армии, в казачьих полках, и носили название «ремонтных».
Второй вид сумм состоял из обязательных взносов, которые не составляли уже собственности частных лиц, а являлись собственностью части. Эти обязательные взносы в различных местах установлены различно. В частях 1-го корпуса установлен единообразный ежемесячный взнос. По донесению генерала Витковского, процент вносящих колеблется от 32 процентов до 77 процентов списочного состава. Процент этот не имеет тенденции к понижению. В кавалерии и казачьих частях взнос этот определяется различно, по месту и доходности работ, и изменяется с изменением этих условий.
Накопление всех этих сумм давало возможность в случае временного прекращения работ обеспечивать перевозку рабочих групп с одного места на другое, оборудовать, где это является необходимым, околодки, оказывать помощь отдельным безработным, временно потерявшим трудоспособность, поддерживать связь, давать информацию и пр. Странное и трогательное явление – чины армии, не получающие содержания, но вносящие свои взносы за великую честь состоять в ее рядах!
По мере того как части переходили на трудовое положение, отдельные чины и группы разъезжались в поисках работы в другие страны. По условиям рынка труда такое дробление было совершенно необходимо для нахождения работы, иногда это создавало даже возможность получения более выгодных условий.
Благодаря содействию Главного командования в различные страны Европы, главным образом во Францию, были перевезены на работы большие партии, по возможности целыми частями. Отдельные лица, переезжающие благодаря личным хлопотам и собственной инициативе, попадая на новые места, с особой радостью соединялись со своими однополчанами и входили в ту организацию, которая охватила теперь все места, где работают офицеры и солдаты Русской Армии.
Из Польши были вывезены, наконец, остатки той 3-й армии25, которая начала свое формирование в последние месяцы обороны Крыма, была затем интернирована и невыносимо страдала после заключения Рижского мирного договора и падения Крыма. Положение ее было нестерпимо. Многие были заключены в концентрационные лагеря вместе с пленными красноармейцами и после подписания мира и обмена военнопленными рисковали быть отправленными в Советскую Россию. На положении «опекуна», пользующегося большими связями благодаря близости к главе государства маршалу Пилсудскому, стоял Борис Савинков с особым полусоциалистическим комитетом. Дисциплина падала, а жизненные условия ухудшались. Постановка на работы этих частей была воспринята ими как выход из плена.
Кроме Франции, групповые работы организовались в Бельгии – и везде устанавливалась та дисциплина, которая так выгодно отличала русских рабочих даже среди предпринимателей. Всюду налаживалась связь, ибо и в новом рабочем виде армия должна была оставаться неизменной.
В то время как в Болгарии и Сербии роль объединяющего рабочие группы облегчалась известной инерцией и старой привычкой к установившимся отношениям, в других странах приходилось прилагать особые усилия, чтобы не дать затеряться отдельным прибывшим лицам или даже целым небольшим партиям. Обычно по прибытии в ближайшие пограничные города партии разбивались на несколько групп и направлялись по различным предприятиям. Если предприятия эти не имели еще на своей территории наших военных организаций, то такие маленькие партии легко могли затеряться. Типичная рабочая среда, рабочая жизнь врывались каким-то новым враждебным потоком – и ощущение оторванности, тяжелый и беспросветный труд создавали пониженное и угнетенное настроение.
Приходилось «разыскивать» таких случайно затерявшихся. Делалось это опросом различных лиц, прибывающих в крупные пункты по своим личным делам, путем частной переписки, путем специальной командировки начальников армейских рабочих групп в промышленные районы и т. д. Нахождение таких «утерянных» и приобщение их к общей организации сразу поднимало и бодрость, и самочувствие. Назначался начальник такой затерявшейся группы. Ему давались инструкции – и новая ячейка была создана.
Кроме общего идейного значения таких организаций, сразу учитывалось и их практическое значение. Начальники рабочих групп единогласно отмечают то исключительно сильное и благоприятное впечатление, которое производит на администрацию промышленных предприятий организованность и дисциплинированность русских рабочих групп. Является совершенно обычным, что просьбы отдельных чинов группы, заявленные через начальника группы, почти не встречают отказа, в то время как просьбы от своего имени часто не удовлетворяются.
Администрация предприятий, видя организованность русских рабочих групп, очень часто выражает готовность идти на значительные материальные траты, если только они имеют целью улучшить обстановку всей группы. Были случаи, когда по просьбе начальника группы ассигновались крупные суммы на пополнение библиотек русскими книгами, оборудовались домовые церкви и священнику давалось от завода довольствие и квартира.
Кроме этого, отдельные организованные группы получали информацию, помощь при создании своих библиотек, при желании перевестись на другое место на работу, при просьбах об оказании юридического совета и т. д. Все это уже практически содействовало укреплению организации. И такими группами покрыта вся Европа, и, кажется, нет страны в мире, где не было бы таких «опорных пунктов» Русской Армии.
Если в первое время, пока не окрепло ядро, было так важно сохранить части по возможности в одном месте, то теперь уже не было опасности «распыления», которого так жаждал господин Милюков. Главное командование уже само стремилось рассредоточить армию по различным странам в лучших условиях работы. Еще 18 июля 1923 года Главнокомандующий в циркулярном предписании старшим начальникам указывал на необходимость «дальнейшего рассредоточения армии с целью улучшения условий жизни и работы». В подобном же предписании 28 марта 1924 года вновь подтверждается, что «нам отнюдь не следует опасаться дальнейшего неизбежного рассредоточения армии, отъезда отдельных лиц и групп на работы в самые отдаленные государства. Физическое разрежение армии не страшно. Духовная сплоченность ее остается недоступной для каких-либо внешних ударов. Это положение необходимо внедрять в сознание подчиненных вам начальников и младших чинов». Наконец, в предписании 24 марта 1925 года указывается, что, «как показал опыт, переброшенные во Францию и Бельгию кадры частей не только не уменьшились численно, но в некоторых случаях и возросли, включив в себя и часть тех чинов, которые, не выдержав тяжелых условий работы на Балканах, временно оставили ряды родных частей; в новых условиях работы, во много раз более легкой и лучше оплачиваемой, они получили возможность соединиться со своими соратниками», а потому начальникам войсковых групп на Балканах предлагалось «принять меры, способствующие переброске с Балкан войсковых частей».