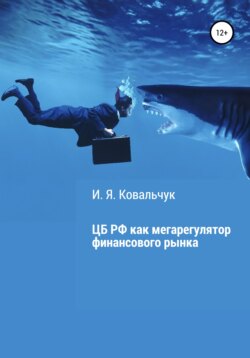Читать книгу Центральный банк РФ как мегарегулятор финансового рынка - И. Я. Ковальчук - Страница 4
Глава 3. Организация государственного вмешательства в финансовый рынок
§ 1. Концепция мегарегулятора
ОглавлениеТермин «мегарегулятор» относится к числу наших изобретений и в принципе имеет довольно широкое значение. Им обозначается такой орган, который наделен крайне широким набором полномочий в одной большой сфере компетенции и который при этом имеет достаточную степень независимости от иных управленцев. Короче говоря, это – орган почти без конкурентов. С этой точки зрения, можно говорить о Конституционном Суде РФ как «мегарегуляторе», поддерживающим во всех сферах жизни общества режим «конституционализма», или о «мегарегуляторе» в сфере интеллектуальной собственности, который потенциально может взять на себя функции регистрации всех авторских, патентных прав, прав на товарные знаки, не «делясь» ими с госкорпорациями и органами обороны и безопасности94. Центральный банк России является мегарегулятором финансового рынка. В зарубежной литературе в данном случае используется скорее не институциональное, а функциональное определение – рассуждают об integrated model of financial sector supervision, то есть интегрированной модели надзора за финансовым сектором, общеупотребительного термина для обозначения того, кто им занимается, нет95.
Концепция мегарегулятора сравнительно молода. Традиционно его история отсчитывается от 1986 года, когда Норвегия передала единому Управлению кредитного (с 2009 года – финансового) надзора (независимому от Банка Норвегии) банковский надзор и регулирование деятельности бирж и страховщиков, что стало катализатором аналогичных реформ в Дании (1988) и Швеции (1991). На самом деле, за 2 года до этого, Сингапур создал из Денежно-кредитного управления, выполняющего функции центрального банка, орган «банко-страхо-фондового» надзора, а еще за 20 лет до норвежцев, в 1966 году, Саудовская Аравия объединила банковский и страховой надзор в стенах своего ЦБ – Агентства денежного обращения96. Но и это не «предел». Известно, что к началу Гражданской войны в США в большинстве штатов были суперинтенданты банков, ответственные за регулирование собственно банков, иных кредитных организаций, трастов и строительных компаний, с которыми те были связаны97. А в Российской империи в первой половине XIX века банки и биржи регулировались Министерством финансов исходя из простого принципа целесообразности – как ближайшее к этой сфере ведомство98. По сути на примере американских интендантов и российского минфина мы видим квазимегарегуляторы – и это не натянутое сравнение, а вполне себе аналогичная модель, построенная на единстве решаемых при вмешательстве в экономику задач. Но дело в том, что концепция интегрированного надзора отталкивается именно от современных особенностей финсектора, сформировавшихся к концу XX века, и потому в некотором смысле является преходящей, созданной для конкретного времени и конкретных условий – изменится рынок, изменится и она. Для XIX века был актуальным вопрос о формировании независимого центрального банка, наделенного монополией в сфере кредитно-денежной политики. И в этом смысле квазимегарегуляторы рассматривались властями как зло (в США – из-за того, что они формировались на уровне штатов и использовались в борьбе южан за автономию от федерального правительства, в России – из-за вдохновленности идеей независимого от всякого влияния со стороны чиновничества органа). В конце XIX – начале XX вв. банкинг и страхование развивались порознь, поэтому неудивительно, что полномочия как минимум в этом отношении разделялись между разными ведомствами – агентствами в США, Минфином и МВД – в России99. Злободневным тогда был вопрос о допустимости каким-либо вообще прямым образом регулировать финансовую сферу, и квазимегарегуляторы, уже потесненные ЦБ, казалось, уходили в прошлое. Но тут настал 1929 год, и государственное вмешательство в частные финансы с легкой руки «нового курса» во всем мире вошло в новую стадию своего развития – каждый сегмент рынка получил своего регулятора, в первую очередь это отразилось, конечно, на организованных торгах ценными бумагами100. Там, где раньше лежало пространство саморегулирования, теперь восседал государственный орган. Процесс шел медленно: Великобритания, например, долгое время проводила довольно либеральную, по сравнению с США, политику в отношении финансистов101. Кроме того, на протяжении всего XX века происходили скачки то вперед, то назад по направлению к постоянному госвмешательству: когда Скандинавия уже переходила к интегрированному надзору, США при Р. Рейгане и Великобритания при М. Тэтчер крутили пальцем у виска и отменяли прежнюю регуляторную нагрузку, в частности, ограничения для банков102.
Однако XX век подходил к концу, открывая дорогу эре современных финансов, а вместе с ним и новой стадии развития их регулирования. Наступление этапа интегрированного надзора не было связано с национальной спецификой, иначе бы он так и остался уделом Саудовской Аравии, Сингапура и небольших офшоров. Это ярко показала Скандинавия, которая строила свою огосударствленную экономику далеко не так же, как «нефтяные шейхи» или «азиатские тигры». Но все-таки чувствовалось, что есть в этих странах что-то общее, и это были не абстрактные «всеобщие законы развития финсектора». Исследователи конца 1990-ых года нашли ответ в небольших размерах рынка и доминировании банков или же государства на нем. Они предположили, что такая модель вряд ли станет подспорьем для большинства развитых стран, а вот развивающиеся, в первую очередь страны бывшего социалистического лагеря, в принципе отвечают хотя бы одному из двух критериев, поэтому должны с вниманием отнестись к скандинавскому опыту103. Одновременно они указывали на то, что, например, Финляндия не соблазнилась опытом соседей и сохранила отдельные ведомства по банкам и страховщикам, так как те и другие не были сильно экономически сплетены между собой. Надо признать, что и для России 90-ых была актуальна скорее не идея мегарегулятора сама по себе в связи с проблемами развития финансового рынка, а принцип усиленного контроля какого бы ни было отраслевого регулятора за вверенным ему сегментом в связи с отсутствием рыночных традиций.
Тем не менее, в начале XXI века начали происходить процессы, которые можно было объяснить только с позиции «абстрактных законов развития рынка». В 2002 году консолидируют свои финансовые ведомства Германия и Австрия, в 2004-ом – Бельгия, к ним присоединяется и ряд пресловутых развивающихся стран – Прибалтика, Чехия, Словакия, Венгрия и Польша. Интеграция финрегулирования вдруг становится всеобщим трендом, который так или иначе затрагивает большинство рядовых стран104. Неслучайно в это же время (2004 год) в России создается Федеральная служба по финансовым ранкам (ФСФР). Скорее всего, более конкретную причину столь быстрого распространения мегарегулятора, в том числе в развитых странах, следует искать в предшествующем ослаблении государственного вмешательства, которое привело к расцвету новых форм предпринимательства. Действительно, обоснование повсеместного внедрения модели единого надзора с тех пор сводилось и сводится поныне по сути к 2 аргументам: субъективному – «страшилка» в виде финансовых конгломератов, которые так и норовят воспользоваться регулятивным арбитражем в рамках финрынка, но совсем не собираются использовать его, расширяя свой бизнес за его пределы, и продуктовому – новые финансовые инструменты оказывают влияние на сразу множество сегментов рынка. Мегарегулятор в таких условиях способен, во-первых, проще и дешевле над всеми надзирать, а во-вторых, более эффективен при кризисах. Нельзя не заметить некоторую неоднозначность подобного рода аргументов. Мы уже сказали, что если финансовый регулятор должен быть сильным, то в таком случае он одновременно должен быть близок регулируемым субъектам («регуляторная субсидиарность»105), чтобы понимать, какая информация нужна им и какую он может получить от них, какие организационно-правовые формы наиболее гибки для них и какие финтехи они используют. Само по себе то, что мы ранее выявили общие черты финсектора, – достаточно логичное основание, чтобы всерьез задуматься над идеей интегрированного надзора. Однако этого недостаточно для того, чтобы признать концепцию мегарегулирования единственно правильной, а этап интегративного надзора – неизбежным для всякой страны. Важно подчеркнуть, что практика как минимум США показывает, что вместо создания единого ведомства достаточно наладить эффективную взаимосвязь существующих регуляторов106. Тогда у нас воплощаются в жизнь и регуляторная субсидиарность, и плюсы единого подхода к поднадзорной сфере деятельности. В теории благодаря сохранению множественности органов мы, например, можем реагировать на бурно развивающейся финтех открытием специализированного органа, в котором игроки будут изначально видеть профессионала как в финансовой, так и в сфере IT107, а не подразделение регулятора, который никогда в этом не разбирался, а теперь пытается перестроиться под новые условия.
Но вся соль в том, что не было еще прецедента, когда страна создала мегарегулятор и впоследствии отказалась от него. Пожалуй, это ultima ratio для решения вопроса о применимости такой концепции на данный момент в любой «сомневающейся» экономике, в том числе в России.
Мегарегуляторы бывают разные. Помимо «недомегарегуляторов» (каким был у нас ФСФР), которые вынуждены все время считаться с наличием сильного ЦБ и слабых сторонних ведомств, существуют либо 1) независимые органы, не подчиняющиеся Центральному банку (наиболее распространено108), либо 2) мегарегуляторы-ЦБ, либо 3) «двойные» мегарегуляторы (модель twin peaks, «двух вершин»)109. Это «трио» сформировалось благодаря испытанию «огнем» мирового финансового кризиса, когда, будем честны, прожектерские планы по внедрению интегрированного надзора, «потому что это модно», разбились о суровую реальность110. Хрестоматийным примером здесь является Великобритания. Решив завершить период дерегулирования сразу отрезвляющим рынок ударом, Соединенное Королевство к 2004 году организовало единое Управление финансовых услуг, объединив в нем банковский (которым «поделился» Банк Англии), страховой и инвестиционный надзор. Но сильная позиция Банка Англии и Казначейства и неготовность Управления идти на решительные меры привела к очевидной его неспособности спасать банкротившиеся в 2007-2009 гг. английские банки. В результате, Правительство Королевства не увидело никакого другого выхода, кроме как передать основы мегарегулирования в спецорган при ЦБ, а новое Управление наделить компетенцией как бы с «обратной стороны» – со стороны защиты прав потребителей финансовых услуг, а также всего, что ЦБ «любезно» согласится оставить на его долю111. Эта, сформированная к 2013 году, модель как раз и является наиболее известным примером «двух вершин». Она не получила большого распространения, но благодаря определенному уровню сбалансированности снискала немало поклонников112.
Самой распространенной в мире системой организации интегрированного надзора, как уже было сказано, является создание независимого ведомства, и лучшим примером здесь является Германия. В ней все функции регулятора переданы независимому Федеральному управлению финансового надзора (BaFin), Бундесбанк же сосредотачивается на своих полномочиях по обеспечению задаваемой Европейским Центробанком единой денежно-кредитной политики и «помощи» Управлению в банковском надзоре, в первую очередь в отношении проверки годовых отчетов кредитных организаций. В этой схеме Управление обладает в принципе такой же организационной независимостью, как и обычный ЦБ, а финансовая самостоятельность обеспечивается «кормлением» – поднадзорные субъекты, в первую очередь банки, уплачивают в него обязательные платежи. Речь идет о промежуточной форме между обязательной саморегулируемой организацией и госорганом113. Симптоматично, что сегодня мы имеем шанс увидеть, как такое независимое финансовое агентство, как BaFin, годами зарабатывавшее себе репутацию, в череде скандалов, главным из которых стало мошенничество в платежной системе Wirecard, ее растеряло и теперь вынуждено ждать серьезной реформы – без главы и поддержки Минфина. Казалось бы, самое время подумать о нежизнеспособности выбранной концепции мегарегулятора, как в свое время подумала Британия. Но никто из немецких политиков и не думает расформировывать BaFin, передавать его функции Бундесбанку или создавать второй орган по модели twin peaks. Напротив, грядущая реформа предполагает, что Управление должно взять на себя больше функций по защите прав потребителей финансовых услуг, привлекать на работу не только аудиторов, но и правозащитников, создать отдельные IT-подразделение и криминалистический центр114. Конечно, политическая риторика накануне парламентских выборов довольно жесткая. Конечно, с другой стороны, усиление надзора встречается финансовыми организациями с явным неудовольствием, ведь им придется не только больше отчитываться, но и больше платить увеличивающемуся штату Управления115. Но общий вывод из ситуации – прямо противоположный тому, что был сделан англичанами.
Именно модель независимого агентства теоретически является самой оптимальной конструкцией. При twin peaks и, конечно, мегарегуляторе-ЦБ возникает неизбежный конфликт интересов, ведь центральный банк, который в этих моделях получает существенные полномочия, вынужден совмещать денежно-кредитную политику с макронадзором116. Чему в данном случае он должен отдавать приоритет: поддержке национальной валюты и стабильного уровня цен или интересам поднадзорных субъектов? К примеру, если на валютном рынке случается паника и начинается отток денег из банков, должен ли ЦБ поднимать учетную ставку, зная, что это спровоцирует кризис во всем финсекторе117? Это, что называется, «пример из жизни»: Банк России встал перед таким выбором в один «черный вторник» декабря 2014 года. И разрешил ее в пользу ценовой, а не финансовой стабильности, принеся в жертву «слабые» банки и закредитованных брокеров118. Он предпочел одни интересы другим, хотя при наличии независимого финансового агентства теоретически между ними мог быть найден определенный баланс. Коронавирусный кризис проявил ту же склонность нашего Центробанка отдавать приоритет монетарной политике перед мегарегулированием: в 2020-ом он пошел по пути, который избрало большинство ЦБ мира – если и «трогать» учетные ставки, то совсем немного и только в сторону уменьшения. Важно подчеркнуть, что такая идея никак не была привязана к заботе о финсекторе. 2021-ый же демонстрирует его уверенность в том, что ради сдерживания «встрепенувшейся» инфляции можно вновь пожертвовать деловой активностью. Тем не менее, мы ведем речь о кризисах как довольно небольших периодах времени, когда наш регулятор «надевает шляпу» независимого денежно-кредитного управленца и призывает поднадзорных субъектов рассматривать себя именно в таком качестве. Когда кризисы проходят (или в случае России – немного отступают), риск того, что ЦБ в конечном счете будет слишком часто «задвигать» вопрос с инфляцией в угоду поддержания ликвидности финкорпораций, особенно в условиях развивающегося рынка, становится определенно высоким119. Это предположение по сути есть «гипотеза захвата», сформулированная Джозефом Стиглицем в 1971 году. Согласно ей, всякий регулятор в конце концов будет ориентироваться на интересы регулируемых организаций. Формально есть попытки разрешить подобный конфликт интересов, в том числе и в России: некоторые исследователи в связи с этим ссылаются на ст. 4.1 Закона о ЦБ РФ, по факту требующую от Банка России не допускать при реализации полномочий вхождение разных целей его деятельности в противоречие друг с другом, для чего должна быть принята соответствующая политика (норма появилась именно в связи с реформой 2013 года, когда Банк стал мегарегулятором)120. По этому поводу следует констатировать, что ст. 4.1 сейчас трактуется максимально узко – как направленная на недопущение конфликта интересов только у служащих Центробанка, как носящая исключительно антикоррупционный характер121. С таким же успехом поэтому можно говорить о том, что ч. 2 ст. 75 Конституции РФ122, называющая основной функцией ЦБ защиту и обеспечение устойчивости рубля, является той юридической гарантией, которая снимает противоречие между целями денежно-кредитной политики и мегарегулирования. Другой вариант разрешение конфликта – движение в сторону модели независимого ведомства путем выделения мегарегулятора из Центробанка, но оставления их аффилированности друг с другом. Пожалуй, здесь можно сказать только одно: первое впечатление от английской и казахской систем, построенных по такому принципу, остается таким, что здесь всем заправляет ЦБ, а отдельный орган создан просто для удобства и, конечно, не обладает существенной независимостью. И первом впечатление тут самое верное. Если вспомнить борьбу Банка Англии и Управления финансовых услуг, то станет очевидно, что английская конструкция изначально предполагает создание именно «ширмы» для Центробанка, а не отдельного ведомства123. Подчиненность Нацбанка Казахстана Президенту Республики указывает на доминирование принципа целесообразности в организации исполнительной власти, поэтому вопрос о независимости Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций отпадает сам собой. Итак, если органом интегрированного надзора становится «классический» ЦБ или, как в английской twin peaks, из него выделяется часть, сохраняя при этом связь с Банком, то возникает неразрешимый конфликт интересов внутри мегарегулятора – он должен следить одновременно за ценовой (курс национальной валюты) и финансовой (ликвидность финорганизаций) стабильностью. Иногда эти 2 цели взаимодополняют друг друга124, но так бывает далеко не всегда.
Но у ЦБ РФ есть конфликты интересов и «похлеще». Ведь, как мы помним, финсектор России огосударствлен. Вплоть до весны прошлого года Банк России в силу сложившейся традиции напрямую контролировал крупнейшую российскую кредитную организацию – Сбербанк, но продажа контрольного пакета акций Правительству125 не снимает той проблемы, которая наблюдается, например, в отношении ВТБ, также принадлежащей Правительству РФ. Это – проблема контроля государства самим за собой. И хотя существуют вполне адекватные аналогичные примеры финансового контроля, такие как институциональный, осуществляемый Счетной палатой России, в данном случае речь идет о многолетних отношениях несменяемых чиновников и CEO, которые по определению не могут не вызывать конфликта интересов. Последние годы Центробанк активно занимается санацией, и его прежняя доля в Сбербанке выглядит, откровенно говоря, смешно на фоне приобретенных в результате «спасения» крупных кредитных организаций типа «Открытия» акций таких компаний (99,9%)126. Наконец, в силу того, что Банк построен по «классической» модели, ему необходимо проводить валютные интервенции и иные операции на открытом рынке, фактически становясь «оптовым» продавцом или покупателем для «розничных» финансовых организаций, которых затем он должен еще и с невозмутимым лицом проконтролировать. Налицо проблема контроля контрагента над контрагентом, притом, что они должны быть принципиально равны.
С другой стороны, Банк России имеет авторитет и признание127 как серьезный госорган, которому еще до реформы 2013 года на протяжении десятков лет были предоставлены серьезные полномочия и автономия, обеспечиваемая парламентским мандатом. На этом фоне ФСФР всегда выглядела блекло, за 9 лет существования и нескончаемых реформ она по определению не могла упрочить свое положение так, как это сделал «банк банков», существовавший к тому моменту 23 года. Особенно это проявилось во время мирового финансового кризиса, что, впрочем, было общемировой тенденцией – ЦБ «спасали» банки, зарабатывая политические очки, в то время как недомегарегуляторы играли роль «рабочих лошадок», но никаких дивидендов с этого не получали128.
ЦБ эффективен как мегарегулятор129. За последние 8 лет, начиная с «Мастер-банка» и заканчивая «банком, у которого отозвали лицензию в этом месяце» (а такой почти всегда есть), суровый российский интегрированный надзор не делал таких осечек, как позволил себе BaFin с Wirecard. Была окончательно закреплена действительно сильная система банковского надзора, сопоставимого с «цифровизацией» в ФНС, а надзор за иными сегментами финсектора доведен до такого состояния, что вы, приходя в любую легальную финансовую компанию, можете быть уверены в том, что она относительно стабильна. Регулирование банков, микрофинансовых организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, платежных операторов разнообразно, но нет такого, чтобы где-то надзор был чрезмерно слабым, а где-то – чрезмерно сильным. Несмотря на разгромную критику 17%-ой ключевой ставки 2014 года, Банк России не изменил своей позиции, на следующий же день после «черного вторника» разработал пакет мер поддержки финсектора130, смог увязать политику его санации с уходом с рынка потерпевших крах из-за валютного кризиса игроков. В 2020 году ЦБ пошел по похожему пути: он дал финрынкам ровно столько, сколько посчитал нужным131, зато вовремя – еще 20 марта, в условиях неопределенности вокруг пандемии. Впоследствии, когда окончательно стал ясен масштаб эпидемии в России, Банк пошел на весьма радикальный шаг в виде введения запрета на применение к финорганизациям мер воздействия за широкий спектр правонарушений132, а дальше действовал точечно, добавляя небольшие «бонусы» и постепенно отменяя старые. Уже в августе многие льготы были отменены, и вторая волна ковида внесла лишь небольшие коррективы. Определенная часть послаблений была продлена до апреля 2021-ого, после чего действовать до лета остались лишь те из них, что касались кредитов, выданных гражданам и субъектам малого и среднего предпринимательства.
Таким образом, есть что сказать и в поддержку, и в пику ЦБ РФ как мегарегулятору финансового рынка. Эта ситуация не нова, вообще в нашей доктрине можно выделить 2 мнения касательно мегарегулирования: одни авторы с сомнением смотрят на перегруженный конфликтами интересов Банк России и предлагают пойти по пути формирования независимого агентства-регулятора, отозвав у Центробанка полномочия вплоть до банковского надзора и оставив ему только денежно-кредитную политику и «помощь» новому агентству при необходимости133 (по сути речь идет о преобразовании нашего Банка по модели Бундесбанка), другие не видят ему серьезной альтернативы и предлагают не экспериментировать134. Как уже отмечалось, теоретически, применительно к «средней стране», правы первые. Но не для того мы выявляли национальную специфику РФ, чтобы сейчас о ней забыть. Доминирование банков во всем финсекторе и высокая степень концентрации бизнеса (преобладание крупного) делают отдельное от ЦБ ведомство не сказать, что бессмысленным, но изначально слабым. Ему нужно будет добиться авторитета и сделать это, как ни крути, придется за счет Банка России. Ему нужно будет иметь дело со все теми же банками с госучастием, так что этот конфликт интересов никуда не денется. Ему нужно будет завоевывать независимость от Правительства, но без конституционных гарантий и исторически устоявшейся концепции автономии центробанков. Наконец, ему нужны будут специалисты по банкингу и мы рискуем вовсе лишиться вменяемого ЦБ. В итоге, мы, может, решим проблему с разделением надзорной и монетарной функций, но это будет Пиррова победа. Банк России как мегарегулятор максимально хорошо вписывается в нашу сегодняшную специфику. В этом его сила, так как он понимает рынок и может устранять очевидные ему перекосы самостоятельно (типа продажи акций «Открытия», чем ЦБ уже который год пытается заняться), но в этом и его слабость. Проведите масштабную приватизацию по типу 90-ых, потребуйте от банков «не лезть» на фондовую биржу или в страхование без обретения специального организационно-правового статуса или доведите до ума кредитные инициативы местных сообществ, кредитную, страховую и биржевую кооперацию – и Банк России перестанет быть хорошим мегарегулятором. Фактически достаточно сделать серьезный шаг в сторону либеральной рыночной свободы и сломается вся наша концепция мегарегулирования.
Внедрение интегративного надзора – не только экономическое и правовое, но еще и политическое решение. Укрупненные ведомства в финансовой сфере на данный момент соответствуют нашей политической конъюнктуре. Бессменный глава мегарегулятора – тоже. Так что, нет никаких оснований считать, что в России 2010-2020-ых гг. может быть какая-либо иная модель регулирования финрынков, кроме специфического преломления концепции властного в большинстве сфер мегарегулятора.
94
См.: Кокотов А. Н. Конституционный Суд России и макроправовое регулирование // Конституционное и муниципальное право. 2020. № 3. С. 3-7. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Право интеллектуальной собственности: Учебник / под общ. ред. Л. А. Новоселовой. М., 2019. Т. 4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
95
Существует термин unified financial sector supervisory agency (орган унифицированного надзора за финсектором) и более короткий integrated supervisory agency (орган интегрированного контроля), но каждый автор по сути употребляет ту словесную форму, которая ему больше нравится, ср.: Siregar R. Y. and James W. E. Designing an Integrated Financial Supervision Agency: Selected Lessons and Challenges for Indonesia // ASEAN Economic Bulletin. 2006. Vol. 23. No. 1. P. 98-113; и Martinez J. and Rose T. International Survey of Integrated Financial Sector Supervision // Policy Research Working Papers. 2003. URL: https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/1813-9450-3096. Думается, отсутствие единого термина в зарубежной литературе и наличие его у нас являются равнодопустимыми ситуациями, которые не требуют исправления и каких-либо дополнительных теоретических дискуссий.
96
Исмаилов И. Ш. Указ. соч.
97
Komai A. and Richardson G. A Brief History of Regulations Regarding Financial Markets in the United States: 1789 to 2009 // National Bureau of Economic Research. Paper No. 17443. P. 4.
98
Буклемишев О. В., Данилов Ю. А., Кокорев Р. А. Указ. соч. С. 54; Соловьев Я. В. Министерство финансов Российской империи в 1858-1903 гг.: организация и функционирование. Дисс. на соиск. уч. ст. к-та ист. наук. М., 2003. С. 3-25.
99
См.: Komai A. and Richardson G. Op. cit.; Ермаков Д. Н. Социальное страхование в Российской империи // Правовая политика и правовая жизнь. 2011. № 2. С. 76-84.
100
Буклемишев О. В., Данилов Ю. А., Кокорев Р. А. Указ. соч. С. 54-57.
101
Евлахова Ю. С. Трансформация институциональной структуры регулирования финансового рынка (на примере Великобритании) // Вестник РГЭУ РИНХ. 2006. № 21. С. 102, 103.
102
Буркова А. Ю. Дерегулирование // Юрист. 2020. № 1. С. 71-73. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
103
Taylor M. and Fleming A. Op. cit.
104
Masciandaro D. and Quintyn M. Op. cit.
105
Принцип субсидиарности означает максимальную приближенность лица, обладающего властью, к тем, в отношении кого он ее осуществляет. Субсидиарность имеет много поклонников среди конституционалистов, но основывается не совсем на специфике конституционно-правовых отношений, а на идее приоритета разума, здравого смысла при организации публичной власти, см.: Троицкая А. А. Селективная рациональность? Аргументация Конституционного Суда РФ о сроках полномочий Президента в зеркале когнитивистики // Сравнительное конституционное обозрение. 2021. № 1 (140). С. 87. Представляется, что столь же разумно проводить этот принцип в государственном надзоре.
106
Plato-Shinar R. Can the Twin Peaks Model of Financial Regulation Serve as a Model for Israel? // The Cambridge Handbook of Twin Peaks Financial Regulation. 2020. P. 1-34.
107
Jones E. and Knaack P. Op. cit. P. 203-204.
108
Буклемишев О. В., Данилов Ю. А., Кокорев Р. А. Указ. соч. С. 67.
109
Гузнов А. Г. Указ. соч. С. 190-191.
110
К сожалению, сюда приходится отнести все планы по собственному реформированию, предложенные ФСФР, см.: Хабитежев C. Х. Указ. соч. С. 136.
111
Экмалян А. М. Указ. соч. С. 118-120.
112
Буклемишев О. В., Данилов Ю. А., Кокорев Р. А. Указ. соч. С. 69-72.
113
Хабитежев C. Х. Указ. соч. С. 136, 138-139.
114
Huertas M. More bite for BaFin 2.0? // Dentons. 2021. URL: https://www.dentons.com/en/insights/articles/2021/april/16/more-bite-for-bafin
115
В марте разгорелся спор о 160 новых должностях в Управлении, которые планируется создать в дополнении к уже имеющимся 2700 штатным единицам: Kröner A. and Murphy M. Politik und Banken streiten über die Aufrüstung der Bafin // Handelsblatt. 2021. URL: https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/finanzaufsicht-politik-und-banken-streiten-ueber-die-aufruestung-der-bafin /27025858.html. Для сравнения: штат ЦБ РФ составляет около 45 тысяч сотрудников.
116
См.: Бабенкова С. Ю. Указ. соч. С. 163; Буклемишев О. В., Данилов Ю. А., Кокорев Р. А. Указ. соч. С. 68; Masciandaro D. and Romelli D. Central bankers as supervisors: Do crises matter? // European Journal of Political Economy. 2018. Vol. 52. P. 120-140. Поэтому в 2000-ых говорили, что мегарегулятором ЦБ по-хорошему может быть только в странах еврозоны, где монетарная политика передана «наверх», см.: Masciandaro D. and Quintyn M. Op. cit.
117
Савруков А. Ловушка мегарегулятора // Ведомости. 2016. URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/09/21/657879-lovushka
118
См.: Деревщикова Е. О. Финансовый кризис 2014-2015 гг.: последствия и перспективы для России // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2016. № 1. С. 26; Иванов С. Как в конце 2014 года чуть не рухнул фондовый рынок России // Секрет фирмы. 2015. URL: https://secretmag.ru/news/istoriya-dnya-15-12-2015.htm
119
Ивлев В. А. Модели регулирования и надзора в сфере финансового рынка: опыт России и зарубежных стран // Предпринимательское право. Приложение «Право и Бизнес». 2018. № 4. С. 50-55. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
120
Гузнов А. Г. Указ. соч. С. 177; Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Справочно-правовая система «Гарант»; Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков» // Справочно-правовая система «Гарант».
121
См.: Шаповалов М. А., Никифорова С. Т., Слесарев С. А. Комментарий к Федеральному закону от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (постатейный) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 2016; Положение Банка России от 7 августа 2015 г. № 484-П «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению служащих Банка России и урегулированию конфликта интересов» // Справочно-правовая система «Гарант».
122
Конституция Российской Федерации // Справочно-правовая система «Гарант».
123
«Ширма» стала почти прозрачной после преобразования в 2016 году Управления пруденциального регулирования, занимавшегося макронадзором, в Комитет со статусом структурного подразделения Банка Англии, организованного как наш Комитет финансового надзора (КФН) – то есть по типу «президиума» всех ответственных лиц, см.: Положение Банка России от 2 августа 2019 г. № КФН-2019 «О Комитете финансового надзора» // Справочно-правовая система «Кодекс». Вряд ли справедливо будет сказать, что, если наделить наш КФН определенной организационной самостоятельностью, доведя его статус до английского аналога, получится создать независимый орган.
124
В первую очередь при «надувании» на финрынках «пузырей», см.: Головнин М. Ю. Создание финансового мегарегулятора и современные подходы к проведению денежно-кредитной политики // Журнал НЭА. 2013. № 3 (19). С. 149-153.
125
Федеральный закон от 18 марта 2020 г. № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // Справочно-правовая система «Гарант».
126
Ср. со ст. 8 Закона о ЦБ: «Банк России не вправе участвовать в капиталах кредитных организаций, если иное не установлено федеральными законами».
127
Это очень важный момент на этапе создания мегарегулятора, см.: Masciandaro D. and Quintyn M. Op. cit.
128
Ср.: Кавицкая И. Л. Финансовый кризис и политика Центрального Банка // JIS. 2011. № 4. С. 27-33; и Игнатов Я. Н. Правовое регулирование фондового рынка в условиях финансового кризиса // Актуальные проблемы российского права. 2012. № 2. С. 64-83.
129
Самиев П. Успехи и провалы мегарегулирования // Ведомости. 2020. URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2020/11/19/847662-uspehi-megaregulirovaniya. Следует признать, что опасения по поводу явной неэффективности мегарегулирования в России не оправдались, см.: Шляпочник Я. Слон в руку // Российская Бизнес-газета. 2012. № 47 (876). Полоса 6.
130
Информация Банка России от 17 декабря 2014 г. «О мерах Банка России по поддержанию устойчивости российского финансового сектора» // Справочно-правовая система «Гарант». Конечно, такие меры не могли, да и не должны были сгладить все последствия перехода к плавающему курсу. Интересно, что при попытке оспорить в судах их достаточность, судьи ссылались на дискрецию Центробанка и разумность предоставленной им поддержки, см., напр.: Решение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 7 августа 2015 г. по делу № 2-7896/2015 // Справочно-правовая система «СудАкт».
131
Послабления касались оценки ценных бумаг, предоставления безотзывных кредитных линий, учета валюты в обязательных резервах, снятия структурных ограничений для инвестиционных портфелей НПФ и УК (пожалуй, 2 самых серьезных послабления), права не признавать займы у граждан, заболевших коронавирусом, реструктурированными и не увеличивать по ним резервы, снижения надбавок к коэффициентам риска по ипотеке и, конечно, отмены выездных проверок. На банки, с другой стороны, были возложены обязанности предоставлять льготы заемщикам, в том числе малому и среднему предпринимательству, и лицам, осуществляющим платежи, см.: Информационное сообщение Банка России от 20 марта 2020 г. «Банк России утвердил меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Важно отметить, что хотя информационные сообщения (письма) так же, как и «Информация Банка России» 2014 года, не признаются им НПА, они имеют прямое действие и фактически предоставляют права и накладывают обязанности на неопределенный круг лиц.
132
См.: Информационное письмо Банка России от 25 марта 2020 г. № ИН-05-15/29 «О неприменении мер к кредитным организациям» // Официальный сайт ЦБ РФ; Информационное письмо Банка России от 27 марта 2020 г. № ИН-03-35/31 «О неприменении мер в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19)» // Официальный сайт ЦБ РФ; Информационное письмо Банка России от 27 марта 2020 г. № ИН-06-14/34 «О снижении регуляторной и надзорной нагрузки в связи с действиями системных факторов, обусловленных распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)» // Официальный сайт ЦБ РФ.
133
Устьянцев А. И. Указ. соч. С. 9-11.
134
Хабитежев C. Х. Указ. соч. С. 138-139.