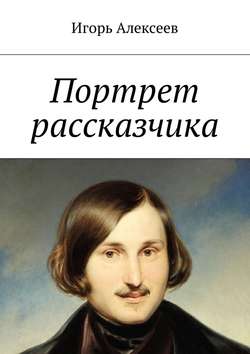Читать книгу Портрет рассказчика - Игорь Алексеев - Страница 8
Я и Пушкин
Онегин и Пушкин
ОглавлениеУникальная особенность романа «Евгений Онегин» заключается в том, что главные сюжетные линии Онегина-Татьяны и Онегина-Ленского не передают основного содержания произведения. Более того, они уводят читателя от его понимания – чем больше тот думает о Татьяне и Ленском, тем труднее ему прийти к мысли, что это здесь не самое важное. Суть романа начинает открываться только для тех, кто слышит, что повествование ведет не один рассказчик, а двое, причем они делают это одновременно, часто споря между собой и перебивая друг друга. В качестве первого рассказчика присутствует условный Пушкин, а в качестве второго повествователя выступает сам Онегин. Онегин фигурирует в романе как главный герой и одновременно как соавтор рассказчика-Пушкина, в текст которого он вносит собственные дополнения и оценки, произвольно комментируя события. Ключевыми подсказками являются: эпиграф романа, который дает прямое указание читателю, с характеристикой Онегина и его мотивов участия в повествовании; посвящение к роману; письмо Татьяны, хранимое рассказчиком-Онегиным; некоторые другие указания в тексте, содержащие прямые подсказки, или где читателю от первого лица сообщают сведения, обладать которыми мог только Онегин. Косвенным указанием можно считать рисунок, выполненный Пушкиным для первого издания первой главы «Евгения Онегина», где поэт изображен рядом с Онегиным на набережной Невы.
Эпиграф к роману: «Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках, – как следствие чувства превосходства: быть может мнимого. Из частного письма (франц.)». Как совершенно справедливо отмечает А. Барков: «Это – пушкинская характеристика Онегина, но не персонажа сказа самого Онегина, а Онегина – автора своих мемуаров».
И далее он же: «Первой главе предшествует посвящение: „Не мысля гордый свет забавить, Вниманье дружбы возлюбя, Хотел бы я тебе представить Залог достойнее тебя […] “. Сразу бросается в глаза двусмысленность выражения „Залог достойнее тебя“ (это – единственный случай в творческой биографии Пушкина, когда он использовал сравнительную степень этого прилагательного); возникает вопрос: кому адресовано это посвящение? Адресат явно знает писавшего и находится с ним в „пристрастных“ отношениях».
Почему посвящение – авторская мистификация? Потому что любой текст, помещенный после эпиграфа, сразу становится частью художественного произведения. Такое «посвящение» может быть адресовано только кому-то из персонажей повествования, а не реально существующим лицам вне текста. Только литературный персонаж не возмутится от сравнительной формы «достойнее», только о нем автор знает нечто, не известное пока другим, и поэтому имеет право высказаться именно таким, не совсем лестным образом.
Можно полагать, что рассказчик-Пушкин, «вниманье дружбы возлюбя», то есть, состоящий в дружеских отношениях с адресатом (о дружбе Пушкина и Онегина есть сведения в первой главе романа, и об этом же сообщает рисунок Пушкина), написал повествование со слов приятеля и шлет ему свое сочинение для правки и комментариев. При этом рассказчик-Пушкин извиняется перед Онегиным за то, что уровень созданного не соответствует его собственным требованиям к произведению и не достиг всех ожиданий, возлагавшихся на него. «Хотел бы я тебе представить // Залог достойнее тебя» означает, что написанный текст был изначально задуман как художественный портрет Онегина, превосходящий того реального Онегина, которого Пушкин знает, что его целью было выделить лучшие качества главного героя. «Рукой пристрастной» – прямое указание на Онегина как на того, кто имеет отношение к повествованию как соавтор и одновременно является адресатом посвящения.
Поскольку в романе два рассказчика, от читателя требуется умение на слух отличать стихи Пушкина от стилизации, созданной им для языка Онегина. Каким образом читатель может различить голоса повествователей? Как рассказчик, Онегин обладает собственными речевыми метками, позволяющими стилистически и интонационно выделять написанное им. Немаловажно и то, что его суждения часто по смыслу противоречат мыслям рассказчика-Пушкина. Язык и суждения рассказчика-Онегина полностью соответствуют его эмоционально нестабильному, несдержанному, раздражительному характеру. В качестве примера особенностей речи Онегина можно привести его высказывание о Татьяне:
(3-XXVI)
Она по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала,
И выражалася с трудом
На языке своем родном,
В тексте есть высказывание Пушкина о Татьяне, с выражением его собственной эмпатии к ней, которое говорит совсем другое:
(5-IV)
Татьяна (русская душою,
Сама не зная почему)
С ее холодною красою
Любила русскую зиму,
Онегин использует бедную глагольную рифму «знала – читала», что довольно типично для его стихотворчества, а комический эффект создается некоторыми трудностями владения русским языком самим рассказчиком – им использована нелитературная форма «выражалася» и допущена инверсия в следующей строке. Кроме того, приведенная фраза – единственный случай, когда заимствование из французского можно использовать как речевую метку в романе. Фраза «она по-русски плохо знала», неестественная в русском языке, представляет собой кальку, прямой перенос слов из французского elle savait mal le russe. Во французском языке, в отличие от русского, такая конструкция является абсолютно корректной и указывает, что для рассказчика-Онегина использование французского языка было более естественным, чем русского. К слову, для обоих рассказчиков использование галлицизмов является нередким, поэтому галлицизмы нельзя использовать для разделения их речи.
Важной особенностью речи Онегина является практически полное отсутствие у него способностей к стихосложению. Рассказчик-Пушкин говорит об этом уже в самом начале повествования:
(1-VII)
Высокой страсти не имея
Для звуков жизни не щадить,
Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить.
«Мы» – это Пушкин и сам Онегин, который ничего не достиг как поэт, несмотря на все совместные, свои и Пушкина, огромные усилия. Литературного таланта Онегину не было дано от природы. Впрочем, у Онегина также не было иллюзий в отношении своих поэтических дарований:
(3-V)
Когда б я был, как ты, поэт.
Вскоре рассказчик-Пушкин снова возвращается к теме неприспособленности Онегина к литературе:
(1-XLIII)
Онегин дома заперся,
Зевая, за перо взялся,
Хотел писать – но труд упорный
Ему был тошен; ничего
Не вышло из пера его…
У Онегина не было трудолюбия и способности выдерживать неизбежное напряжение в работе. Дважды повторенное уже в первой главе заявление о бездарности Онегина как литератора могло бы показаться навязчивым, но ведь есть и третье, почти в финале:
(8-XXXVIII)
А точно: силой магнетизма
Стихов российских механизма
Едва в то время не постиг
Мой бестолковый ученик.
В финале Пушкин дает ироническую и презрительную характеристику соавтору. Онегин так и не стал поэтом, он оказался полностью неспособным к этому труду.
Полное и развернутое представление о самостоятельном поэтическом творчестве Онегина создают «Отрывки из путешествия Онегина» – удивительно смешной и полностью пародийный образец собственного стиля Онегина, творчество графомана и искорки смеха Пушкина, которые предлагаются читателю в помощь.
Предварительно помянув девятый вал, который топит, а не выносит, а для подсказки непонятливым навалив каменьев:
Я девять песен написал;
На берег радостный выносит
Мою ладью девятый вал —
Хвала вам, девяти каменам, и проч.
– и закончив пять строчек канцелярским «и проч.», Пушкин издевается над Катениным, с которым у него, видимо, были сложные отношения: «П.А.Катенин (коему прекрасный поэтический талант не мешает быть и тонким критиком) заметил нам, что сие исключение, может быть и выгодное для читателей, вредит, однако ж, плану целого сочинения; ибо чрез то переход от Татьяны, уездной барышни, к Татьяне, знатной даме, становится слишком неожиданным и необъясненным. – Замечание, обличающее опытного художника».
Далее Пушкин открыто пародирует себя в композиционной неразберихе с невообразимой онегинской рифмой «утеса – черкеса»:
Пред ним парит орел державный,
Стоит олень, склонив рога;
Верблюд лежит в тени утеса,
В лугах несется конь черкеса,
И вкруг кочующих шатров
Пасутся овцы калмыков…
Затем он устами Онегина предлагает нелицеприятное описание Нижегородской ярмарки:
Сюда жемчуг привез индеец,
Поддельны вины европеец;
Табун бракованных коней
Пригнал заводчик из степей,
Игрок привез свои колоды
И горсть услужливых костей;
Помещик – спелых дочерей,
А дочки – прошлогодни моды.
– и двусмысленную похвалу Крыму:
Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля,
– а продолжает в том же духе, упоминая сердитого на Россию поляка Мицкевича:
Там закололся Митридат,
Там пел Мицкевич вдохновенный
И посреди прибрежных скал
Свою Литву воспоминал.
Тут уместно вспомнить о творчестве А. Мицкевича в Крыму:
В развалинах лежит стен крепостных громада,
Прославивших тебя, неблагодарный Крым!
Они – как черепа по склонам гор крутым,
В них поселился гад и люд ничтожней гада.
Адам Мицкевич. Крымские сонеты.
(перевод В. Коробова)
– рисует утрированную и пародийную картину русской деревни:
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
– и идет далее, не стесняясь бедных рифм:
Одессу звучными стихами
Наш друг Туманский описал,
Но он пристрастными глазами
В то время на нее взирал.
Завершая фейерверк и не слишком заботясь о связности мыслей, переходит к географическим подробностям, объявляя Одессу грязным городом:
А где, бишь, мой рассказ несвязный?
В Одессе пыльной, я сказал.
Я б мог сказать: в Одессе грязной —
И тут бы, право, не солгал.
– и заканчивает, потеряв нить повествования, увлеченный банальным описанием ночной природы:
Но поздно. Тихо спит Одесса;
И бездыханна и тепла
Немая ночь. Луна взошла,
Прозрачно-легкая завеса
Объемлет небо. Все молчит;
Лишь море Черное шумит…
Итак, я жил тогда в Одессе…
Четвертая глава – первая, не отредактированная рассказчиком-Пушкиным. Она дает возможность читателю начать разбор романа «по голосам», поскольку в ней впервые происходит эмоционально насыщенная перекличка и видно радикальное несовпадение речевых стилей и оценок (например, в отношении Баратынского) между соавторами-рассказчиками, что позволяет легко отделить речь каждого. В диалоге видны тот самый «залог, достойнее тебя» и реакция на него Онегина:
(4-XII и далее)
Минуты две они молчали,
Но к ней Онегин подошел.
Рассказчик-Пушкин пересказывает проповедь Онегина Татьяне, стремясь одновременно получить одобрение его отказа у читателя. В самом деле, что ещё мог сделать Онегин с излияниями чувств 13-летней девочки, переживающей свой первый гормональный удар?
(4-XIX—XXII)
А что? Да так.
Я усыпляю
Пустые, черные мечты;
Строфы с XIX по XXII – это длинная вставка Онегина, который не разделяет намерений соавтора. Его строфа XIX целиком обращена на себя, и он беспощаден. Здесь присутствуют самобичевание, едкий сарказм, фрустрация, заниженная самооценка, депрессивное настроение (черная меланхолия), безысходность, черный юмор. Далее звучат брюзжание, глухое раздражение.
(4-XXIII)
Что было следствием свиданья?
Увы, не трудно угадать!
Здесь снова Пушкин.
(4-XXX)
Но вы, разрозненные томы
Из библиотеки чертей,
Великолепные альбомы,
Мученье модных рифмачей,
Вы, украшенные проворно
Толстого кистью чудотворной
Иль Баратынского пером.
Пускай сожжет вас Божий гром!
И вот еще один ключевой фрагмент четвертой главы – третье поминание Баратынского, на этот раз от Онегина – в отличие от двух предыдущих случаев от Пушкина, здесь нет никакого пиетета и присутствует дважды перенесенное ударение – «библиОтека» и «украшЕнные». Такие стихи, разумеется, не могли бы принадлежать Пушкину. Онегин демонстрирует фрустрацию, желчь, раздражение, злобу, агрессию и сниженный эмоциональный фон.
Вот примерный разбор «по голосам» первой главы романа:
(1-I)
Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
Вся первая строфа – прямая речь и неискаженные мысли Онегина.
(1-II) – (1-XVIII)
С II по XVIII строфы Пушкин дает описание быта и привычек Онегина в Петербурге. Стиль повествования Пушкина – легкий, летящий; настроение бодрое, приподнятое, даже праздничное; отношение рассказчика-Пушкина к тем, о ком он рассказывает, – всегда ровное, позитивное и благожелательное. Последние две строчки XVIII строфы
Там, там под сению кулис
Младые дни мои неслись.
принадлежат Онегину.
(1-XIX)
Мои богини! что вы? где вы?
Внемлите мой печальный глас:
Всё те же ль вы? другие ль девы,
Сменив, не заменили вас?
Внезапная и резкая перемена настроения и ритма повествования. Вся XIX строфа принадлежит тоскующему Онегину. Слова:
И, устремив на чуждый свет
Разочарованный лорнет,
Веселья зритель равнодушный,
Безмолвно буду я зевать
И о былом воспоминать?
представляют собой подсказку читателю о личности рассказчика. Здесь находится отсылка к XXI строфе, где речь идет о том же – лорнете и зевании Онегина в театре, но уже не от первого лица, а от стороннего наблюдателя Пушкина.
(1-XX) – (1-XXVIII)
Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла, всё кипит;
Здесь снова ведет повествование рассказчик-Пушкин.
(1-XXIX) – (1-XXX)
Две строфы подряд от Онегина, пребывающего в печальных воспоминаниях. Здесь есть еще одна подсказка читателю рассказчиком от первого лица:
О вы, почтенные супруги!
Вам предложу свои услуги;
Прошу мою заметить речь:
Я вас хочу предостеречь.
Вы также, маменьки, построже
За дочерьми смотрите вслед:
Держите прямо свой лорнет!
Это отсылка к строфам XI и XII, где Пушкин рассказывает об Онегине в третьем лице и рассматривает ту же тему соблазнения. Удаленный текст строф XIII и XIV, восстановленный по рукописи, касается темы соблазнения Онегиным его жертв еще более откровенно.
(1-XXXI) – (1-XXXIV)
Когда ж и где, в какой пустыне,
Безумец, их забудешь ты?
Первые две строчки XXXI строфы – это реплика Пушкина, обращенная к Онегину. Остальной текст вплоть до XXXIV строфы включительно принадлежит Онегину. Реплика Пушкина касается последних строк предыдущей строфы, написанной Онегиным:
«Ах! долго я забыть не мог
Две ножки… Грустный, охладелый,
Я всё их помню, и во сне
Они тревожат сердце мне.»
Смысл замечания Пушкина очевиден – Онегин находится под домашним арестом в деревне «в пустыне», поэт призывает Онегина забыть о дамских ножках – их уже слишком много в первой главе.
Ах, ножки, ножки! где вы ныне?
Где мнете вешние цветы?
Это снова Онегин, который продолжает излюбленную тему. Лишенный нормального общения, женского общества, находясь в деревне в заточении, Онегин вместе с Пушкиным пишет роман о себе и мечтает о женщинах.
(1-XXXV) – (1-XLV)
Здесь повествование продолжает Пушкин.
(1-XLVI)
Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей;
Кто чувствовал, того тревожит
Призрак невозвратимых дней:
Тому уж нет очарований,
Того змия воспоминаний,
Того раскаянье грызет.
Всё это часто придает
Большую прелесть разговору.
Первые девять строчек XLVI строфы принадлежат Онегину, который с желчью и сарказмом говорит о презрении к людям и различных видах фрустрации. Также авторство Онегина выдает ударение в слове «призрак». Эти девять строк использованы как характеристика речевого стиля Онегина, следом за ними следуют пять строк Пушкина с оценкой языка соавтора-рассказчика:
Сперва Онегина язык
Меня смущал; но я привык
К его язвительному спору,
И к шутке, с желчью пополам,
И злости мрачных эпиграмм.
Вся XLVI строфа – важнейшая подсказка автора в отношении личностей и речевых стилей рассказчиков.
(1-XLVI) – (1-XLIX)
Ночей Италии златой
Я негой наслажусь на воле
С венецианкою младой,
То говорливой, то немой,
Плывя в таинственной гондоле;
С ней обретут уста мои
Язык Петрарки и любви.
Это снова Пушкин.
(1-L)
Придет ли час моей свободы?
Пора, пора! – взываю к ней;
Брожу над морем, жду погоды,
Маню ветрила кораблей.
В пятидесятой строфе приведены мысли Онегина в литературной обработке Пушкина. Оба рассказчика мечтают о путешествиях и дальних странах. Предыдущая строфа – мечты Пушкина об Италии, предвкушение вдохновения, неги любви от знакомства с молодой венецианкой. Строфа L – тоже мечты о странствиях, но уже Онегина, с депрессивными настроениями, с мотивом бегства, хоть в Африку, но на волю от скучного и опостылевшего берега и неприязненной стихии, от сумрачной России,
Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил.
(1-LI)
Онегин был готов со мною
Увидеть чуждые страны;
Но скоро были мы судьбою
На долгий срок разведены.
Это снова Пушкин. Здесь повествование возвращается к весне 1820 года и отъезду Пушкина в южную ссылку 6 мая 1820 года, а Онегина в деревню за наследством, но происходит смещение временных планов. Мечтать о свободе в предыдущей строфе Онегин мог только после дуэли в январе 1821 года, уже находясь в заточении.