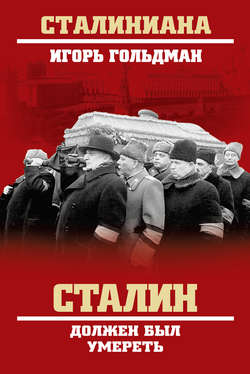Читать книгу Сталин должен был умереть - Игорь Гольдман - Страница 5
Последний год жизни Сталина
Последняя война Сталина
ОглавлениеВ начале 1953 года, последнего года жизни Сталина, из внешнеполитических проблем его продолжала заботить война в Корее.
День он начинал с просмотра военной сводки. Она обжигала сильнее утреннего чая. Из очередного донесения следовало, что в период с 9 по 15 января 1953 года американская авиация силами в 200–250 истребителей-бомбардировщиков Ф-80 и Ф-84 нанесла пять массированных ударов по железнодорожным мостам через реки Чёнчёнган и Тэндоган.
Рядом находился запечатанный желтый конверт, на котором стоял гриф «Совершенно секретно», «Вскрыть лично». Сталин разорвал его сам. Из ГРУ сообщали, что «Объединенное командование» считает, «что противник весной 1953 г. может перейти в наступление и высадить крупные десанты с моря…». Ему стало понятным, почему американцы принялись заблаговременно разрушать транспортные коммуникации в тылу северокорейской территории. Сталин поставил стакан с чаем прямо на эти документы и надолго задумался. На документах отчетливо пропечатался круг, оставленный разогретым дном подстаканника.
Сталин решил, что надо незамедлительно усилить оборону западного и восточного побережья. А еще лучше самим провести упреждающие наступательные действия.
Генералиссимус всегда фатально ошибался с началом войн, которые он вел. Советско-финская кампания 1939–1940 годов планировалась как блицкриг, однако наступление Красной армии было остановлено на линии Маннергейма. Ее пришлось прорывать зимой, что стоило беспрецедентно больших потерь не только убитыми, но и просто замерзшими солдатами и офицерами. Сталин запоздал принять необходимые предупредительные меры в 1941 году, что привело к таким потерям живой силы и техники в начале войны, масштаб которых не укладывается в сознании. Победа в Великой Отечественной войне далась нам ценой многих жертв, которые, как утверждают многие видные военные специалисты, не диктовались объективной необходимостью. Теперь он поторопился в 1950 году. Благодаря его попустительству Советский Союз оказался втянутым в военное противостояние со своим недавним союзником– Соединенными Штатами Америки.
Неутешительные сводки с театра военных действий в Корее были для Сталина серьезным поводом для переживаний.
Сначала ничто не предвещало беды. На Корейском полуострове сосуществовали два государства, разделенные 38-й параллелью. Севернее этой параллели, в зоне, где капитуляцию оккупировавшей Корею Японии принимал СССР, образовалась Корейская Народно-Демократическая Республика, провозглашенная 9 сентября 1948 года со столицей в Пхеньяне, южнее, в зоне действий США, – Республика Корея, провозглашенная 15 августа 1948 года со столицей в Сеуле.
В одном из очередных писем из Пхеньяна лидер северокорейских коммунистов Ким Ир Сен попросил у Сталина аудиенции. Сталин такое согласие дал. Из записи в журнале посетителей кремлевского кабинета Сталина следует, что эта встреча состоялась 5 марта 1949 года. С нашей стороны на ней присутствовали министр иностранных дел А.Я. Вышинский и военачальник и дипломат Т.Ф. Штыков, который в 1946–1947 годах возглавлял советскую делегацию в советско-американской совместной комиссии по Корее. Ким Ир Сен приехал вместе с министром иностранных дел КНДР Пак Хен Еном. В ожидании приема у Сталина высоких гостей из Северной Кореи заставили помаяться в приемной вождя около получаса. Зато результат полуторачасовой встречи со Сталиным их полностью удовлетворил. КНДР получила советский кредит в размере 40 миллионов долларов США, обещания поставки машин, оборудования и запасных частей для промышленности, связи и транспорта, для восстановления и развития народного хозяйства.
Не обошлось без обсуждения военных вопросов. Сталин поинтересовался численностью американских войск в Южной Корее. Ким Ир Сен в один голос со Штыковым (впоследствии он стал послом в КНДР и фактически первым советником Ким Ир Сена) оценили ее в 15–20 тысяч человек. Численность южнокорейской армии тогда составляла около 60 тысяч человек.
Сталин тут же посоветовал Ким Ир Сену усилить тайное проникновение северокорейцев в южнокорейскую армию.
Тогда же был решен вопрос о поставках в КНДР из СССР военной техники.
«Помню, как за обедом на сталинской даче, – вспоминал Хрущев, – много шутили. Ким Ир Сен рассказывал нам о быте корейцев, о климате Кореи, об условиях выращивания риса и о рыбной ловле. Много говорил он хорошего о Южной Корее и доказывал, что после воссоединения своих половин Корея станет более полноценной, будет иметь возможность обеспечить сырьем всю свою промышленность, а также потребности народа в пище за счет рыбной ловли, выращивания риса и других сельскохозяйственных культур».
Разговоры о военном объединении Кореи тогда еще не велись. Сталин выжидал. Он присматривался к Ким Ир Сену.
Однако уже тогда было ясно, что объединение Кореи переговорным путем реальных перспектив не имело. КНДР скопировала советскую политическую систему, Республика Корея – западную.
В чьих-то горячих головах возникла идея объединить Корею посредством гражданской войны. Примером был Китай, где в результате народной революции 1 октября 1949 года была образована Китайская Народная Республика, с которой 5 месяцев спустя Советский Союз заключил Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи.
Имея за спиной две великие державы, северокорейцы постоянно ввязывались в приграничные стычки с южнокорейцами.
Самоуправства северокорейцев Сталин не одобрял. В шифровке из Москвы от 27 октября 1949 года он строго указал Штыкову:
«Вам было запрещено без разрешения центра рекомендовать правительству Северной Кореи проводить активные действия против южных корейцев… Вы не донесли о подготовке крупных наступательных действий 2-й полицейской бригады и фактически допустили участие в этих действиях наших военных советников… Обязываем дать объяснение…» (ГАРФ. Ф. 45. Оп. 1. Д. 24. Л. 1).
Заглаживая свой промах, напуганный Штыков стал подробно информировать Сталина о настроениях в северокорейском руководстве. 19 января 1950 года он отправил в Москву такую срочную телеграмму:
«Вечером 17 января министр иностранных дел Пак Хен Ен устроил прием в честь отъезда корейского посла в Пекин. Во время него Ким Ир Сен сказал мне следующее: “Теперь, когда освобождение Китая завершается, на очереди стоит вопрос освобождения Кореи на юге страны… Партизаны не решат дела… Я не сплю ночами, думая, как решить вопрос объединения всей страны”.
Ким Ир Сен заявил, что, когда он был в Москве, товарищ Сталин ему сказал о том, что наступать на юг не надо; в случае же наступления армии Ли Сын Мана на север страны можно переходить в контрнаступление на юг Кореи. Но, так как Ли Сын Ман до сих пор не начинает наступления, освобождение южной части страны и ее объединение затягиваются. …Ему, Ким Ир Сену, нужно побывать у Сталина и спросить разрешения на наступление для освобождения Южной Кореи. Ким Ир Сен говорил о том, что сам он начать наступление не может, потому что он коммунист, человек дисциплинированный и указания товарища Сталина для него являются законом. Мао обещал помочь, и он, Ким Ир Сен, с ним тоже встретится.
Ким Ир Сен настаивал на личном докладе Сталину о разрешении наступать на Юг с Севера.
Ким Ир Сен был в состоянии некоторого опьянения и разговор вел в возбужденном состоянии» (там же. Л. 7).
Действительно, в записи беседы советского руководства с правительственной делегацией КНДР, состоявшейся в марте 1949 года в Москве, есть такое высказывание Сталина: «Если у противника существуют агрессивные намерения, то рано или поздно он начнет агрессию. В ответ на нападение у вас будет хорошая возможность перейти в контрнаступление. Тогда ваш шаг будет понят и поддержан всеми».
Ким Ир Сен торопился. Сталину тоже хотелось иметь на нашей восточной границе дружественное единое корейское государство, сродни европейским странам народной демократии. Он смотрел далеко вперед, полагая, что рано или поздно Япония начнет вооружаться и опять станет угрожать советскому Дальнему Востоку.
Китайский лидер в это время находился в СССР на лечении и отдыхе. Сталин решил с ним посоветоваться. Но он хотел переговорить с Мао Цзэдуном с глазу на глаз, без присутствия Лю Шаоци, который его постоянно опекал. Для этого организовали столкновение принадлежащей охранной службе мусоровоза с лимузином, в котором ехал Лю Шаоци, пожелавший присутствовать при встрече Мао со Сталиным. Это «деликатное» задание было выполнено так ловко, что дремавший на заднем сиденье Лю Шаоци даже не проснулся. Пока составляли милицейский протокол происшествия и расчищали дорогу, прошло два часа. Сталину удалось поговорить с Мао Цзэдуном наедине.
Сталин ответил Ким Ир Сену через десять дней:
«30.01.50.
Штыкову, особая.
Сообщение 19 января 1950 года получил. Такое большое дело нуждается в подготовке. Дело надо организовать так, чтобы не было большого риска. Готов принять…
И. Сталин».
Дмитрий Волкогонов («Семь вождей», кн. 1, «Новости». М., 1995) пишет: «После еще одной консультации с Пекином Сталин 9 февраля разрешает начать подготовку широкомасштабной операции на Корейском полуострове, одобрив, таким образом, намерение Пхеньяна военным путем “объединить” родину. Эта дата фактически является официальным началом подготовки КНДР к наступательной войне с целью насильственного воссоединения двух государств. Активизируются поставки из СССР в Северную Корею танков, артиллерии, стрелкового вооружения, боеприпасов, медикаментов, нефти».
На изменение позиции Сталина могли повлиять преувеличенные оценки Штыковым угрозы внезапного нападения южан, которые весной и летом 1949 года он получал от него из Пхеньяна.
Свое решение Сталин аргументировал тем, что «международная обстановка изменилась и более активные действия по воссоединению Кореи стали возможными. Согласно информации, поступающей из США, – добавил Сталин, – это действительно так. Преобладает настроение не вмешиваться в корейские дела».
Возможно, что он имел в виду документ СНБ-48 об американской политике безопасности, принятый в декабре 1949 года, который мог попасть в СССР через советского шпиона-британца Дональда Маклейна. Потом ему стало известно выступление государственного секретаря США Дина Ачесона, который в январе 1950 года заявил, что Корея находится за пределами «оборонительного периметра» Америки.
В обстановке строгой секретности Сталин провел переговоры с Ким Ир Сеном и Пак Хен Еном, которые с 25 по 30 апреля 1950 года снова побывали в Москве.
«Еще в то время, когда эта операция планировалась, – писал Хрущев, – Сталин выражал некоторые сомнения; его беспокоило, ввяжутся ли США или пропустят мимо ушей? Оба склонились к тому, что если все будет сделано быстро, а Ким Ир Сен был уверен, что все произойдет быстро, то вмешательство США окажется исключенным, и они не вступятся своими вооруженными силами».
Сталин понадеялся на то, что Вашингтон не решится ввязаться в межкорейский конфликт, как он оставил на произвол судьбы Чан Кайши в межкитайской войне.
Вместе с тем Сталин дал ясно понять корейцам, что им «не стоит рассчитывать на прямое участие СССР в войне, поскольку у СССР есть другие серьезные задачи, особенно на Западе».
Сталин опять почувствовал себя главнокомандующим. И, как в Великую Отечественную войну, во всех корейских депешах для секретности стал подписываться вымышленной фамилией Филиппов. Главной его задачей было скрыть участие СССР в предстоящих военных событиях в Корее. В отношении этого были подготовлены строжайшие инструкции для советских военных специалистов и советников. Одних отозвали, других отвели во второй эшелон.
Возможно, что поначалу Штыков все это плохо понимал, раз он направил Сталину такую телеграмму:
«Вне очереди. Особая.
Тов. Сталину.
Ким Ир Сен просил передать: для наступления и десанта нужны корабли. Два корабля прибыли, но экипажи не успели подготовить. Просит десять советских советников использовать на кораблях. Считаю, просьбу удовлетворить надо.
20 июня 1950 г.
Штыков»
(там же. Л. 109).
Захваченные пленными или погибшими, советские советники Сталину были не нужны. Он среагировал немедленно: «Ваше предложение отклоняется. Это дает повод для вмешательства» – и подписался фамилией Громыко, который в то время занимал пост заместителя министра иностранных дел.
Свою идею, официально не участвовать в корейской войне, Сталин должен был изложить своему близкому окружению. Однако в своих воспоминаниях Хрущев написал буквально следующее:
«Мне осталось совершенно непонятно, почему, когда Ким Ир Сен готовился к походу, Сталин отозвал наших советников, которые были раньше в дивизиях армии КНДР, а может быть, и в полках. Он отозвал вообще всех военных советников, которые консультировали Ким Ир Сена и помогали ему создавать армию. Я тогда же высказал Сталину свое мнение, а он весьма враждебно реагировал на мою реплику: “Не надо! Они могут быть захвачены в плен. Мы не хотим, чтобы появились данные для обвинения нас в том, что мы участвуем в этом деле. Это дело Ким Ир Сена”. Таким образом, наши советники исчезли. Все это поставило армию КНДР в тяжелые условия».
Хрущев забыл упомянуть, что накануне этой войны Москва, несмотря на недовольство Ким Ир Сена, ликвидировала свою военно-морскую базу в Чонджине и миссии связи ВВС в Пхеньяне и Канге.
В том, какое из корейских государств первым начало широкомасштабные военные действия или они развились в результате случайного локального пограничного конфликта, каждое из них теперь винит противоположную сторону.
Как бы там ни было, но ранним утром 25 июня 1950 года на Корейском полуострове разразилась кровопролитная война.
В Южной Корее хорошо знали о военных приготовлениях северян, поэтому их вооруженные силы загодя начали концентрироваться в районе 38-й параллели. За пять месяцев до открытия военных действий советник США генерал В. Робертс не исключал, что их должен начать Юг.
Джон Ф. Даллес писал Ли Сын Ману: «Я придаю большое значение той решающей роли, которую ваша страна может сыграть в великой драме, которая сейчас разыгрывается».
Радужные прогнозы американских экспертов о том, что южнокорейские войска смогут быстро разгромить Корейскую народную армию и оккупировать КНДР, не оправдались.
Сухопутные войска КНДР лучше подготовились к этой войне. Уже через три дня после начала военных действий северокорейцы стремительно вошли в Сеул и, успешно продвигаясь в глубь южнокорейской территории, к концу сентября вели боевые действия в окрестностях портового города Пусан, находящегося на южной оконечности Корейского полуострова.
Обрадованный Сталин поспешил поздравить Ким Ир Сена с «блестящим успехом» военной операции и тем, что «в скором времени интервенты будут изгнаны из Кореи с позором» (АПФ. Ф. 45. Оп. 1. Д. 347. Л. 5–6, 10–11).
Все шло к благополучному завершению задуманного. Но тут дело приняло неожиданный оборот. Командующий американскими войсками на Дальнем Востоке генерал Д. Макартур направил президенту США Г. Трумэну спешную телеграмму, в которой говорилось, что «потери Южной Кореи, как это показали боевые действия, не свидетельствуют о соответствующих способностях к сопротивлению либо воле сражаться, и, по нашей оценке, нависла угроза полного краха».
Через Совет Безопасности 27 июня 1950 года американцы провели резолюцию, объявляющую КНДР агрессором, с рекомендацией «оказать Республике Корея такую помощь, которая может быть необходима для того, чтобы отразить вооруженное нападение и восстановить международный мир и безопасность в этом районе». Противостоять принятию такого решения мы не могли, поскольку по настоянию Сталина несколькими месяцами ранее Советский Союз отказался участвовать в работе Совета Безопасности и других структурах ООН до тех пор, пока там находится представитель правительства чанкайшистов. Пришлось спешно исправлять эту ошибку и возвращаться в Совет Безопасности. Это произошло 1 августа 1950 года. Но было уже поздно. Военная машина США была запущена на полный ход, и 15 сентября в окрестностях Сеула, в тылу северокорейской армии, при поддержке авиации был высажен американский десант в количестве 50 тысяч пехотинцев с танками и артиллерией. «Ни северокорейская разведка, ни ГРУ не сумели вовремя получить информацию о подготовке американцами крупной десантной операции в районе Инчхона, полностью изменившей ход войны». К берегам Корейского полуострова устремилась военно-морская армада США. Война приняла совершенно иной характер. Южнокорейцы начали теснить северокорейцев и даже переместились на их территорию.
Заместитель министра иностранных дел А.А. Громыко и министр обороны Н.А. Булганин предсказывали, что «наступление Народной армии на юг может дать американцам повод поставить этот вопрос на сессии ООН, обвинить в агрессивности правительство КНДР и добиться от Генеральной Ассамблеи согласия на ввод в Южную Корею американских войск». Вызывает удивление, почему это мнение осталось лишь в проекте постановления, за рамками решения Политбюро. Возможно, потому, что оно расходилось с выводами самого Сталина.
Впоследствии стало документально известно, что проект резолюции ООН, осуждающий агрессию со стороны Северной Кореи, был подготовлен чиновниками Госдепа задолго до начала боевых действий.
Расчет на то, что США исключают Южную Корею из числа стран, которые они намереваются защищать в Азии, оказался ошибочным. Нам осталась неведомой новая американская директива в области безопасности СНБ-68, которая ставила задачу подготовки США к отражению агрессии против Южной Кореи, которой была оказана экономическая помощь в размере 100 миллионов долларов.
Сталин хорошо понимал, что после того, как в дело вмешались американцы, исход этой войны был предрешен.
Хрущев опять обратился со своими советами к Сталину: «Товарищ Сталин, почему бы нам не оказать более квалифицированную помощь Ким Ир Сену? Он сам человек не военный, хотя и партизан». Предложение Хрущева сводилось к тому, чтобы «…посадить где-нибудь (маршала) Малиновского с тем, чтобы он инкогнито разрабатывал военные операции, давал бы нужные указания и тем самым оказывал бы помощь Ким Ир Сену… Может делать то же и генерал Крылов, который командует войсками Дальневосточного военного округа. Сталин вновь очень остро реагировал на мои предложения».
Со слов Хрущева, Сталин уже было совсем смирился с тем, что американцы могут выйти на нашу сухопутную границу: «Ну что ж, пусть теперь на Дальнем Востоке будут нашими соседями Соединенные Штаты Америки. Они туда придут, но мы воевать сейчас с ними не будем. Мы еще не готовы воевать».
Сталин категорически не хотел ввязываться в корейскую войну. К его большому удивлению и раздражению, вступать в открытое столкновение с США не захотел и Мао, который в ответ на письмо Сталина от 3 октября 1950 года ответил ему, что он опасается развязывания третьей мировой войны. Сталин тоже считал, что официальное вступление Китая в войну нежелательно, поскольку это может повлечь за собой необходимость выполнения союзнических обязательств со стороны СССР.
Известно, что 13 октября 1950 года Сталин уведомил Ким Ир Сена о том, что «дальнейшее сопротивление бесполезно. Китайские товарищи отказываются от военного вмешательства. В этих условиях вам следует готовиться к полной эвакуации в Китай или СССР».
Личный военный переводчик Чжоу Эньлая Ли Юэжань, с которым я некоторое время работал в Москве и Пекине, рассказывал мне, как, не желая ссориться со Сталиным, китайское руководство в течение суток все же приняло непростое для себя решение об оказании срочной военной помощи северокорейцам. Теперь известно, что найденное компромиссное решение состояло в посылке в Корею китайских «добровольцев» и активной помощи им со стороны Советского Союза военной техникой и другими, необходимыми для ведения войны материалами.
Неся большие людские потери, китайские дивизии под командованием генерала Пэн Дэхайя быстро восстановили равновесие сил, и спустя некоторое время конфликтующие стороны были возвращены на исходные позиции.
Сталин попытался остановить корейскую войну дипломатическим путем. 14 февраля 1951 года была опубликована его беседа с корреспондентом газеты «Правда». Сталин предложил принять предложение народного правительства Китая о прекращении военных действий на существующей линии фронта. Призыв Сталина: «Мир будет сохранен и упрочен, если народы мира возьмут дело сохранения мира в свои руки и будут отстаивать его до конца» – услышан не был.
На консультации в Пекин и Москву был приглашен Ким Ир Сен. В Москву он приехал вместе с партийным секретарем Северо-Восточного Китая Гао Ганом. Принятое тогда совместное со Сталиным решение было таково, что «перемирие теперь – выгодное дело».
Надеясь на перелом в войне, американцы не собирались ее сворачивать. Более того, 21 июня 1951 года они потребовали от Генерального секретаря ООН рассмотреть вопрос о посылке дополнительного контингента войск государств – членов ООН, которые поддержали военное участие этой организации на стороне Южной Кореи, но свои войска пока не присылали.
Не медля, Сталин дал команду постоянному представителю СССР в ООН Я.А. Малику выступить по радиосети ООН и призвать воюющие в Корее стороны сесть за стол переговоров.
Малик всегда аккуратно выполнял поручения Сталина. Известно, что именно он в августе 1945 года вручил ультиматум японскому правительству, а затем ноту об объявлении войны. Американцы это хорошо знали и относились к этому дипломату с большим уважением.
Выступление Малика по американскому радио, которое состоялось 23 июня 1951 года, поколебало непримиримую позицию американского руководства. Громыко предложил американскому послу в Москве ограничить переговоры военными вопросами, не затрагивая политических и территориальных проблем.
Эти переговоры начались 10 июля 1951 года. Они были затяжными и заняли два с половиной года. И все это время на линии 38-й параллели, то затихая, то обостряясь, шла непрерывная позиционная война. Активные военные действия с земли переместились в корейское небо.
При планировании скоротечной войны не предусматривалось необходимости широкого участия северокорейской авиации. В военно-воздушных силах армии КНДР на ее начало имелось всего лишь 32 летчика, способных сесть за штурвал боевого самолета. Из них только 10 человек с большой натяжкой можно было считать летчиками истребительной авиации. У северокорейцев не было реактивных истребителей. Зенитная артиллерия была слабой.
Имея в своем распоряжении более 650 боевых самолетов, американцы за считаные дни войны сровняли с землей базовые аэродромы на северокорейской территории.
Советскому Союзу пришлось срочно направить нашу истребительную авиацию для прикрытия тыловых северокорейских стратегических объектов от налетов американской авиации. Необходимо было также защищать приграничные с Северной Кореей северо-восточные районы Китая.
Сталин крепко-накрепко обязал наших авиаторов ничем не обнаруживать своего физического присутствия на театре военных действий и ни в коем случае не пересекать линию фронта.
Вот как это описывает участник тех событий, Герой Советского Союза, генерал-майор Сергей Крамаренко («Коммерсантъ-Власть», № 24, 2000 г.):
«Летали в китайской униформе, с корейскими опознавательными знаками. Так и говорили: “Форма китайская, знаки корейские, душа русская”. Одно время нас заставляли даже переговоры в воздухе вести по-корейски. Писали на планшете основные фразы и команды. Надо скомандовать, что поворачиваем налево, – читаешь соответствующую запись. Тебе отвечают по-корейски, ищешь в своей бумажке, что это значит». Нетрудно себе представить, в какие сложные ситуации попадали из-за этого наши летчики при ведении скоротечных воздушных боев. Надо было еще выполнять приказ Сталина «не залетать за береговую линию». Учитывая небольшие размеры этого полуострова, не в полной мере можно было использовать превосходство наших самолетов в скорости. Советские МиГи имели скорость до 1000 километров в час, поэтому они больше летали по вертикали, чем по горизонтали, благо имели потолок более 15 тысяч метров.
Несколько лет назад мне пришлось работать в Южной Корее. Научно-исследовательский институт, в котором я трудился, располагался в Сувоне (город-спутник Сеула на оконечности одной из загородных линий сеульского метро), вблизи военного аэродрома. Каждое утро молодые южнокорейские летчики поодиночке и парами, с небольшим интервалом, с шумом отрывались от взлетной полосы и, совершив в небе небольшой круг, шли на посадку. Линия снижения самолетов как раз проходила перед окнами моего кабинета. С приглушенными двигателями они планировали мимо на аэродром. Пилоты с трудом сдерживали своих железных американских коней, способных летать за «два звука».
Наших летчиков, имевших большой опыт Великой Отечественной войны, американцы и их союзники по военной коалиции (подразделения ВВС Англии, Австралии, Южно-Африканского союза и Южной Кореи) побаивались. Эскадрилью австралийских истребителей «Метеор» советские летчики растерзали за один бой.
Поначалу для отпугивания противника достаточно было обнаружить свое присутствие: «Поэтому наши самолеты даже не имели маскировочной окраски – блестели на солнце, как алюминиевые кастрюли, видно их было издалека. Это был сигнал американцам: мы приближаемся».
Дошло до воздушных боев. Но никаких военных сводок в советской прессе не было, хотя в этих сражениях с обеих сторон участвовали сотни самолетов.
В наше время советские летчики, принимавшие участие в корейской войне, желанные гости на официальных приемах в посольстве КНДР. Часто их собирает Общество дружбы Россия – КНДР. С каждым годом убеленных сединой авиаторов, многие из которых стали на этой необъявленной войне Героями Советского Союза, на этих встречах становится все меньше и меньше. Один из них рассказал мне такой анекдот, бытовавший в их летной части. Наш истребитель погнался за американским истребителем, но упустил его. Возвращается летчик на аэродром и докладывает о своей неудаче. Командир эскадрильи строго отчитывает его: «Почему не сбил?» Тот отвечает: «А у меня не четыре руки: штурвал держать надо, гашетку пушки нажимать и обеими руками держать глаза раскосыми».
Несмотря на предпринятые нашей стороной меры секретности, правительство США хорошо знало, кто воюет против их летчиков, однако тоже не торопилось делиться этой «тайной» со своей общественностью, боясь разрастания военного конфликта. Американским летчикам было рекомендовано в воздушное пространство Китая не вторгаться, хотя именно там находились советские авиабазы.
Вскоре воздушное противостояние в зоне 38-й параллели и в глубине северокорейских позиций еще более усилилось и ожесточилось. Американцы начали использовать новую тактику. В налетах стали принимать участие не единичные самолеты, а целые эскадрильи. Как добавляет Сергей Крамаренко, «они буквально висели над нашим аэродромом в Китае и сбивали наших на взлете и посадке».
Американцы быстро научились летать в горных условиях и по ущельям незаметно подбирались к северокорейским позициям. В районах действия нашей авиации появились новые американские истребители-бомбардировщики Ф-86, которые после бомбометания на равных могли вести воздушные бои с нашими лучшими истребителями МиГ-15 бис. Отбомбив, американские самолеты круто взмывали вверх и, разгоняясь, как с горки, наваливались на наши самолеты вблизи морского побережья. Потом, безнаказанно, они стремительно отваливали в сторону запретного для наших пилотов Желтого моря.
У американцев появились самолеты, которые могли летать в любое время суток. Для ведения боевых действий в ночном небе Кореи Сталин дал команду срочно подготовить специальный авиаполк.
На северокорейской территории американцы разбросали более миллиона листовок на корейском, китайском и русском языках, призывавших летчиков, летающих на МиГ-15, перелетать на своих самолетах в Южную Корею, на аэродром Кимпо. Каждому перелетевшему пилоту обещалось политическое убежище и вознаграждение в 50 тысяч долларов. Первому перелетевшему летчику посулили 100 тысяч долларов. Особенно американцы интересовались нашими реактивными самолетами. К счастью, никаких непредвиденных ситуаций не возникло. А нам удалось захватить почти неповрежденный американский самолет Ф-87.
Сталину доносили, что наших летчиков размещали в неприспособленных для жилья помещениях, без водопровода и канализации, что в ожидании очередного вылета они были вынуждены часами просиживать в тесных кабинах истребителей при невыносимой жаре, усугубляемой повышенной влажностью.
Сталина стали сильно угнетать бесперспективность корейской войны и наши растущие воздушные потери. Подготовка военного летчика приближается к стоимости самого самолета. Ценность летчиков, имеющих опыт ведения воздушных боев, многократно повышалась.
Такие пилоты были нужны Сталину на наших западных границах. Единственное, что он мог сделать в этой ситуации, так это попытаться сохранить свою летную элиту. Но делал он это своеобразно. Сергей Крамаренко недоумевал: «А у нас новых летчиков вводили в строй неграмотно: меняли весь состав полностью и новичков без прикрытия “стариков” бросали в бой. К тому же почему-то стали присылать летчиков из ПВО, они вообще не умели сражаться с истребителями…» Видя бесполезность их участия в боевых действиях, на месте их переориентировали на обучение молодых китайских пилотов полетам на МиГ-15.
Однако, когда американцы уже стояли на пороге заключения перемирия, Сталин вдруг уперся. В отсутствие прямых угроз существованию северокорейского государства ему показалось, что дальнейшая затяжка переговоров может принести ему некоторые дивиденды и скрасит горечь провала военной авантюры.
Сталин считал, что война в Корее связывает американцам руки, истощает их и отвлекает от активного участия в европейских делах.
В Корею были посланы поисковые группы наших специалистов, подбиравших для изучения брошенную американцами новейшую военную технику.
Северокорейцы и китайцы «смертельно» устали от продолжительной и кровопролитной войны. Сталин же начал ратовать за ее продолжение. Одно время ему даже удалось убедить в этом китайцев. В одном из своих писем от 18 июля 1952 года Мао писал Киму, что «в настоящее время, когда противник подвергает нас бешеным бомбардировкам, принятие предложения противника провокационного и обманного характера, которое не означает на самом деле никаких уступок, для нас весьма невыгодно». Основную идею Сталина Мао понял и согласился: «Самопожертвование китайцев и корейцев позволяет оттянуть новую мировую войну, давая возможность Советскому Союзу “усилить свое строительство” и “оказывать свое влияние на развитие революционного движения”».
«Но уже через месяц К. Уэзерсби («Война в Корее 1950–1953 гг. Холодная война разгорается». Сборник статей «Холодная война 1945–1963 гг. Историческая ретроспектива». М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003) написал: «К тому моменту, когда Чжоу Эньлай, прибывший в Москву для переговоров о советской экономической и военной помощи КНР, обсуждал со Сталиным стратегию Пекина, у китайцев поубавилось желания продолжать войну. Сталин продолжал настаивать на продолжении войны, но ни тот ни другой лидер не пытались добиться своих целей напрямую. Напротив – и в этом отразилась вся сложность взаимоотношений между двумя коммунистическими государствами, – в ходе своих захватывающе интересных и весьма показательных бесед Сталин и Чжоу осторожно “ходили вокруг да около” вопроса о мирном урегулировании в Корее, стараясь избежать откровенных разногласий, но при этом не забывая о собственных интересах».
Сталин счел необходимым организовать и вторую встречу с Чжоу Эньлаем для того, чтобы еще раз дать ему понять, что «замирение» в Корее отрицательно скажется на отношении Москвы к Пекину.
Подробная протокольная запись этой беседы между Сталиным и Чжоу Эньлаем в 1952 году сохранилась (АПФ. Ф. 45. Оп. 1. Д. 329. Л. 54–72). Она отражает лишь фактическую сторону вопроса. Уже упомянутый выше военный переводчик Ли Юэжань, участвовавший в этих переговорах, рассказывал мне, что позиция Сталина в данном вопросе была настолько жесткой, что обсуждать с ним что-либо по этому поводу было абсолютно бесполезным делом.
Китайцы уехали из Москвы расстроенными, видя, что Сталин ведет дело к затягиванию корейской войны еще на несколько лет.
Необдуманно ввязавшись в корейскую войну, Сталин, по своему обыкновению, стал искать в своем окружении «козла отпущения», который должен был сполна ответить за все случившееся. Вместо ожидаемого быстрого объединения Кореи на социалистической платформе Советский Союз оказался вовлеченным в кровопролитный локальный военный конфликт, который в свое время некоторые историки склонны были называть «репетицией третьей мировой войны». Друг против друга встали две ядерные державы. Дошло до того, что новая администрация Дуайта Д. Эйзенхауэра в начале 1953 года пригрозила применить в Корее ядерное оружие, если коммунисты не согласятся на перемирие.
Чаще всего многозначительный взгляд Сталина останавливался на Хрущеве.
Такое в прошлом с ним уже бывало, но по другому поводу. Со слов Хрущева: «…Сталин поднял вопрос… …Почему, говорит, Власов предателем стал? Я говорю: да теперь уже бесспорно, что предателем. А вот вы его хвалили, говорит. Вы хвалили его, вы его и выдвигали, значит. Я говорю: верно.
Но потом, значит, я говорю: сколько раз вы его хвалили? Вы его награждали, я говорю, товарищ Сталин…» Эта запись устного хрущевского «фольклора» принадлежит М. Гефтеру («Судьба Хрущева», «Октябрь», № 1, 1989 г.). Она относится к тому времени, когда находящийся в отставке Хрущев часто вступал в беседы с отдыхающими расположенного поблизости от его дачи пансионата.
Незаслуженные упреки Сталина, стало быть, с того времени запали в его душу, раз спустя многие годы он об этом вспомнил. Сомнительно только, чтобы он тогда мог решиться препираться с вождем.
Никакой достоверной информации о том, кто именно из ближайшего политического или военного окружения Сталина персонально подталкивал его к корейской авантюре, у нас нет. Однако больше всех на этот счет оправдывается в своих воспоминаниях Хрущев:
«Должен четко заявить, что эта акция была предложена не Сталиным, а Ким Ир Сеном. Тот был инициатором, но Сталин его не удерживал. Да, я считаю, что и никакой коммунист не стал бы его удерживать в таком порыве освобождения Южной Кореи от Ли Сын Мана и американской реакции. Это противоречило бы коммунистическому мировоззрению. Я тут не осуждаю Сталина. Наоборот, я полностью на его стороне. Я и сам бы, наверное, тоже принял такое же решение, если бы именно мне нужно было решать. Мао Цзэдун тоже ответил положительно».
Несомненно, что решение о начале корейской войны коллективно принималось политическим руководством страны. За него должны были проголосовать все. Не исключено, что в подготовке данного вопроса активное участие принимал и Хрущев. Поэтому, как об этом пишет он сам, он постоянно пытался советовать Сталину активизировать наше участие в этой войне. Скорее всего, делал он это потому, что больше других опасался того, что данная затея, которую он рекомендовал, провалится.
Для того чтобы окончательно снять с себя всякую ответственность перед потомками за принятое в свое время скоропалительное решение по корейскому вопросу, Хрущев добавляет: «…Сталин целиком вел это дело лично, этот вопрос как бы считался персонально за Сталиным».
В это можно было бы поверить, если бы ко многим документам, касающимся военных событий в Корее, в том числе и к письмам к Ким Ир Сену, Мао Цзэдуну, и к письмам, адресованным ответственным сотрудникам советских ведомств в этих странах, не имелись специальные приписки, уведомляющие о том, что эти документы одобрены соответствующими решениями Политбюро.
Подборка таких документов из Архива президента Российской Федерации (АПРФ), включая телеграммы Сталина, была передана президенту Южной Кореи Ким Ен Сану президентом России Б.Н. Ельциным в июле 1994 года.
Стратегический гений и дипломатия Сталина дали очередную осечку. Корейская война – это яркий пример необдуманных действий Сталина в области внешней политики в послевоенный период. Трудную корейскую проблему он согласился разрешить кавалерийским налетом. Его просчет обернулся неисчислимыми потерями и для нашего народа.
Итогом корейской войны стало резкое усиление противостояния между СССР и США. Это детонировало переход американской экономики на военные рельсы: за 1950–1953 годы на военные цели там было потрачено 130 миллиардов долларов США, то есть почти на 50 миллиардов больше, чем в предшествующем столетии. Численность вооруженных сил США за три года этой войны увеличилась на 2 млн человек. К ее концу в американской армии находилось уже 3,6 млн человек. Для сохранения военного паритета СССР был вынужден резко увеличивать расходы на оборону, в то время как мы только-только начали выбираться из руин недавно закончившейся мировой войны.
Российские военные и дипломаты справедливо считают, что «конфликт на Корейском полуострове оказал самое непосредственное воздействие на всю глобальную систему международных отношений, способствовал активизации деятельности НАТО, что привело к усилению напряженности в Европе. Холодная война между Западом и Востоком, а точнее, между США и СССР достигла своего апогея» («Война в Корее, 1950–1953». СПб.: Полигон, 2000).
Поэтому Сталина с полным основанием можно причислить к остальным соавторам холодной войны. Это мнение многих советских историков нашло свое отражение в издании созвучных по названиям сборников новых архивных документов: «Сталин и холодная война», «Сталин и десятилетие холодной войны».
Большинство исследователей полагают, что корейская авантюра, в которой участвовали солдаты США, СССР, Китая и 14 стран «специального контингента ООН», унесла около 4 миллионов человеческих жизней. По официальным данным, из контингента в 700 000 американских солдат в корейской войне США потеряли 54 246 человек убитыми и 103 284 человека ранеными. Потери среди 200 000 военнослужащих войск ООН неизвестны. Потери китайских частей, насчитывающих три миллиона добровольцев, включая раненых, составили около 1 миллиона человек.
Но самые страшные потери понес корейский народ, большей частью – мирные жители. Во время этой войны Сеул, Пхеньян и другие территории по нескольку раз переходили из рук в руки противоборствующих сторон, что сопровождалось постоянным перемещением гражданского населения и в конце концов породило незаживающую проблему разделенных семей.
Общее число наших авиаторов, прошедших корейский фронт, оценивается в 1100 человек. Однако, в отличие от американцев, в Корее не было ни наших бомбардировщиков, ни штурмовиков. Одни истребители. Так что гражданское население Кореи от действий нашей авиации не пострадало.
«Мы сбили 1300 американских самолетов» (С. Крамаренко). По американским данным, на свои базы не вернулось 1986 самолетов, причем 945 из них из-за авиакатастроф. По данным Генштаба, мы потеряли 335 самолетов. Участвовавшие в боевых действиях на Корейском полуострове советские летчики недосчитались 120 товарищей.
Прибывающие на территорию КНДР советские военнослужащие моментально становились безымянными. Особисты отбирали у них документы, орденские знаки, предметы личного обихода, письма и заставляли переодеться во все китайское. Брали подписку о «неразглашении» своего участия в этой войне. Военных советников, наоборот, переодевали в штатское и вручали корреспондентские удостоверения газеты «Правда».
Выдумка эта принадлежала лично Сталину. На этот счет есть такая его шифрограмма:
«Пхеньян, Совпосол. Как видно, вы ведете себя неправильно, так как пообещали корейцам дать советников, а нас не спросили. Вам нужно помнить, что вы являетесь представителем СССР, а не Кореи. Пусть наши советники пойдут в штаб фронта и в армейские группы в гражданской форме в качестве корреспондентов “Правды” в требуемом количестве. Вы будете лично отвечать за то, чтобы они не попали в плен. Фын Си».
Зачем Сталин подписался таким странным псевдонимом, неясно. Содержание шифрограммы было настолько очевидным, что скрывать ее источник было наивным. Китаисты расшифровывают этот псевдоним Сталина как «западный ветер».
До сих пор неизвестны потери среди советских военных советников, дипломатов, техников и медиков. Погибших советских воинов хоронили в Порт-Артуре. По некоторым данным, там находится 316 могил советских специалистов. Точно об этом знают только их семьи, получившие «похоронки». Формулировка «погиб при исполнении служебных обязанностей» не приносила близким родственникам ни почестей, ни привилегий. Только в 1989 году воевавших в Корее летчиков приравняли к «афганцам».
Прибывший в Москву на похороны Сталина Чжоу Эньлай смог наконец в полный голос озвучить китайскую позицию о необходимости прекращения затянувшейся войны в Корее. Новое советское руководство с ним полностью согласилось, издав специальное постановление Совета Министров СССР от 19 марта 1953 года. В адрес китайского и корейского лидеров пошло письмо с такой витиеватой записью:
«Советское правительство пришло к выводу, что было бы неправильно продолжать ту линию в этом вопросе, которая проводилась до последнего времени, не внося в эту линию тех изменений, которые соответствуют настоящему политическому моменту и которые вытекают из глубочайших интересов наших народов, народов СССР, Китая и Кореи…» (АПРФ. Ф. 3. Оп. 65. Д. 830. Л. 60–71 и АПРФ. Ф. 059а. Оп. 5а. Д. 4. Л. 54–65).
Развязанная при попустительстве Сталина война в Корее завершилась подписанием (27 июля 1953 года в 10 часов по корейскому времени) в Паньмыньчжоне (Пханмуджоме) соглашения о перемирии. В 22 часа боевые действия по всему фронту были прекращены. Разрушив оборонительные сооружения, противоборствующие войска 31 июля отошли от них в глубь своей территории на 2 км, что создало 4-километровую демилитаризованную зону протяженностью в 249 километров.
Соглашение о перемирии не переросло в договор о мире между обоими корейскими государствами и по сей день. Тем не менее оно позволило сохранить десятки, а может быть, и сотни тысяч людей, вовлеченных в военный конфликт на Корейском полуострове.
Эта необъявленная война и тогда была у нас многим неизвестна, а сейчас почти совсем забыта.
В Корейской Народно-Демократической Республике и Республике Корея, где я не раз бывал, видел навечно стоящие памятники воинам, погибшим в этой войне. Есть там и музеи корейской войны. Корейцы, живущие по обе стороны от разделяющей их 38-й параллели, не забудут этого никогда. Даже тогда, когда Корея наконец станет единой.
Линия противостояния двух корейских государств по 38-й параллели стала туристическим объектом, хотя смотреть там, собственно, нечего. Это огороженная колючей проволокой узкая полоска земли, нашпигованная свинцом, сквозь который с трудом пробивается чахлая трава. Говорят, что самое интересное может находиться под землей. За 50 лет, прошедших со времени заключения перемирия, со стороны Северной Кореи на юг были прорыты тоннели, через которые перебрасывали диверсантов. Некоторые из этих тоннелей якобы были обнаружены.
Экскурсию в эту зону может совершить любой желающий. Поездка от расположенного в центре Сеула элитного отеля «Лоте» занимает 7 часов. В отличие от других туристских достопримечательностей, посещение Пханмуджома разрешается лишь в строгой одежде (никаких шорт и джинсов) и обставлено рядом дополнительных условий. Необходимо иметь с собой удостоверяющий личность паспорт. На «объекте» запрещается задавать вопросы, развертывать лозунги и флаги коммунистической направленности.
Для Хрущева воспоминание о корейской войне всегда отзывалось головной болью.
В своих воспоминаниях Ким Ир Сен пишет: «Когда-то я в Пекине встретился с Хрущевым. Тогда я пригласил его в КНДР. А он говорит: “Не могу”. Я спрашиваю его: “Почему?” Отвечает: “Поеду в Корею – мне придется ругать США, а я этого сделать не могу; недавно я был в Америке, там мы с Эйзенхауэром целовались – и, значит, мне негоже в Корее бранить Соединенные Штаты”» (Ким Ир Сен. «Сочинения». Т. 42. Корея, Пхеньян: Издательство литературы на иностранных языках, 1997).