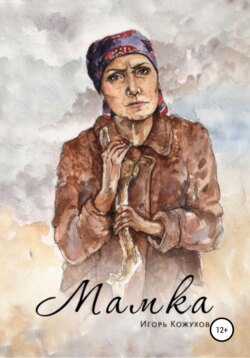Читать книгу Мамка - Игорь Кожухов - Страница 1
ОглавлениеНеприкаянный
Дед Василий, выйдя из дома и поправив на плече тряпочный самодельный ремень, «чтобы сумка шею не давила», коротким шагом пошёл в сторону кладбища. Маленькая, как щенок, но уже взрослая его собака, вертлявая и звонкая, по имени Лёлька, радовалась вокруг, точно зная, куда они идут. Торчащие врозь титьки, говорили о её недавнем материнстве, но хитрая Лёлька накормила своего сына, и он спокойно спал, уткнувшись в старый половик. Хозяина своего она любила до самозабвения, чутко чувствовала его настроение и без придирок отзывалась на любое обращение, слушая его и понимая…
Сегодня было двадцать девятое апреля: прошло девять дней после Пасхи и значит, Радоница. Но для них важнее то, что сегодня день поминовения усопших – поминки!
У самого Василия, уже старого, но ещё очень юркого и живого старика, старуха тоже третий год лежала на погосте под сосновым крестом, но шёл он туда не только к ней…
* * *
Он был уже старик, хотя, появившись в этой деревне лет пятнадцать–двадцать назад, был точно таким же. Откуда его привела Антонина – неизвестно, но однажды люди заметили около её низенькой хаты, переделанной для жизни из небольшого банного склада, мужчину и удивились этому. Сама она была большой, крикливой и уже тогда очень пожилой. Когда в совхозе работала общая баня, она состояла при ней техничкой, заготавливала веники и потом приторговывала ими помаленьку. Антонина тоже была пришедшей откуда-то, и старый сердобольный председатель разрешил ей пожить в банном складе, велев рабочим сложить там печь и сладить стол и лежак.
Она прижилась и стала как бы завхозом бани, заняв именно то место, которое пустовало. Кто она и откуда, знал только председатель, но паспорт у неё был – значит, всё законно.
Деревенских мужиков, любящих как крепко работать, так и крепко «отдохнуть», она не стеснялась и не страшилась, а, несколько раз, схватившись в перепалках и не уступив, завоевала ещё и уважение, внушив обидчикам постулат – «лучше не трогать». Всё встало на место и пошло дальше, как «так и было».
В доперестроечное время люди, жившие в одном месте, были, за малым исключением, словно родня. Поэтому у одинокой Антонины всего вроде хватало. И даже дрова каждый год ей подвозили к складу за счёт совхоза. Но потом всё перевернулось. Началась перестройка. Старый, всё понимающий председатель, переживая за совхоз, как за своё, скоро заболел и неожиданно для многих скончался. Его похороны были последним поводом людям собраться. После этого всё, что строили, к чему шли, что чтили и любили эти люди, ради чего растили детей – в общем, всё, что радовало и объединяло, пропало! Через год развалился совхоз, ещё через год всё разворовали и раскурочили, каждый стал сам за себя – и деревня умерла…
Вот тогда-то, побродив около закрытой насовсем бани, в зиму чуть не замёрзнув без дров, Антонина и привезла откуда-то мужика.
* * *
Выйдя на прямую, до кладбища, дорогу, в которую из всех переулков деревни впадали ручейки-тропинки, Василий сбавил шаг и ещё раз ощупал свою сумку. Убедившись, что всё на месте, объяснил Лёльке:
– Время – пятый час, основной народ должен уже пройти. А кто ещё остался, так Бог с ним – ничего страшного. Начнём с ближнего угла кладбища и пока дойдём до нашей бабки, уже нормально наберём в помин душ усопших… Ты только не наглей, а то опять всё лучшее поглотаешь: и колбасу, где и мясцо какое…
В общем, шёл старый Василий на кладбище помянуть Антонину и попутно насобирать еды, какую кладёт на могилы родня покойных. А для вина, налитого в рюмки на каждой второй могиле, у него полуторалитровая пластиковая бутылка из-под воды…
Идёт он, совершенно уверенный в правильности поступка и в совершенной его законности.
– А кому это оставляют? Испокон веку – людям свободным, бездомным на помин. Или просто, кто голодный… И, если здраво рассудить, хозяева радуются, наверно, что какие-то люди перекусят и горьким помянут сродственников их почивших, я так уверен! – из года в год повторял он Лёльке, которая была с ним согласна…
Мало того, за двадцать лет жизни он многое узнал о хозяевах могил: про тех, кто уже при нём нашли здесь свой приют, и про всех он рассказывал собаке, складывая в сумку еду и сливая вино и водку в бутылку. Зная людей и правильно их оценивая, старался никогда не говорить плохо о покойных, даже о тех, кто это заслуживал. Обычно он, чтобы не молчать в таких ситуациях, объяснял Лёльке, терпеливо ожидающей, что достанется ей, болтавшей хвостом и немного подскуливавшей в нетерпении: – Рязанец, вот выпить любил – но не грех – зато никогда не отказывал! Хоть ночь проси – поможет, но бутылку для него запаси – закон. Здоровый был и не болел никогда, почто помер – не знаю. Смотрю, идёт народ. Что, спрашиваю? Рязанца хороним… Вот те раз… А этот, смотри, молодой совсем, – он долго, шевеля губами, считал года на табличке, потом охал и крестился – двадцать один! И ещё ведь год назад это было – двадцать… Господи, прости… Он с невестой поругался: она – к маме, он – к друзьям. Вина выпили, разгорелись, кровь молодая, он возьми, да на ремень, дур… Ой, Господи прости! А теперь, вишь чё наложили ему? Оказывается, любят его, грешника, все, но назад не воротишь – вот беда! А как же мать его с отцом теперь, а? – и он, присев на лавочку, всплакнул…
Через минуту успокоился и, разбив красное яйцо и выпив из маленькой рюмочки пятьдесят грамм, заев, продолжал:
– Раньше таких грешников за забором кладбища хоронили. Ведь грех это, единственный, который Христос не прощает. Значит, нельзя ему здесь быть с теми, кто по закону Божьему лежат… Однако сейчас на это не смотрят: куда получается, туда и опускают… – Он вставал с лавочки и, перекрестившись, шёл дальше.
На некоторых могилах, где лежало совсем немного, ничего не брал, а на тех, которые были забыты родственниками, сам положит конфетку или печенюшку. «Не печальтесь, просто ваши не смогли нонче приехать. Далеко живут, наверно. Но они вас помнят, не сумлевайтесь», – и обязательно крестясь, шёл дальше.
* * *
В этот год день поминок радовал. Немного стылый с утра, ближе к вечеру теплел. На душе у Василия тоже было тепло и уютно. Пройдя кладбище полукругом, он набрал уже полную сумку. Правда, всё больше были сладости и яйца, часто блины и довольно много фруктов. Но вот нарезанной кольцами
колбасы и жареной рыбы было немного. И не потому, что не клали – клали! Просто вездесущие вороны и сороки, совершенно не стесняясь, собирали с могил почти всё мясное, чем возмущали деда и ещё больше Лёльку. Она, нахватавшись печений и очищенных ей дедом яиц, хотела колбасы и, бегая, облаивала мелькающих среди оградок воровок. Бутылка тоже уже была полна – оставляли часто хорошо, иногда даже по полстакана. Сам он, три или четыре раза приложившись, захмелел и боялся, ослабнув, задремать где на могиле. Заходящей за ним в каждую оградку Лёльке, объяснял:
– Спать на земле пока нельзя. Враз здоровье оставишь – земля ещё холодная. Вам-то, конечно, не понять – дело привычное на земле кемарить, а нам, людям, – нельзя.
Она понимающе тявкала и выжидательно следила за руками. Взяв с этой могилы несколько шоколадных конфет, он решил идти к Антонине.
* * *
Антонина умерла в феврале. Умерла, не болея или просто не жалуясь. Василий растерялся: он совершенно не знал, что делать. Продавщицы посоветовали ехать в сельский совет, в соседнюю – главную деревню их бывшего совхоза. Глава, выслушав, обещал помочь, и Василий, уже по сумеркам, пошёл обратно. До его деревни было десять километров насыпной дороги. Продуваемый противным резким ветром, он не стал стоять на перекрёстке, а пошёл, надеясь на попутку.
Три раза его догоняли и объезжали легковушки, моментально растворяясь в позёмке. Выйдя в пять часов вечера из сельского совета, домой он пришёл в одиннадцать ночи, до ломоты промёрзший и очень уставший. Антонина, как он оставил, так и лежала на деревянном настиле, на котором он сам спал. Старик сел на стул, решив немного отдохнуть, и, глядя на покойницу, раздумывал: «Её же надо обмыть. Что же сделать, к кому сходить за помощью?»
Он задремал и во сне расстроенно вздыхал, пытаясь укрыться полой пиджака, полагая, что это одеяло.
Проснувшись ночью и с трудом поняв, где находится, пошёл растапливать печь – в домике было очень холодно.
Утром, ещё по темноте, зашла соседка, совсем пожилая уже бабка, Галина. Василий очень обрадовался, не ведая, как самому всё это сделать.
Под руководством постоянно ругающей его женщины кое-как обмыли
Антонину, натянули на неё простое чистое платье, после чего он вышел на улицу и долго стоял, ожидая известий. К обеду привезли большой гроб и сообщили, что ему надо идти к кладбищу – там копальщики ждут…
Старик, взяв лопату, заспешил по перемётам в конец деревни и уже издали увидел гусеничный трактор, сгребающий снег на свободном от берёз участке. Пока полз до места, подошёл экскаватор и начал скрести землю ковшом. Земля поддавалась плохо, и экскаваторщик в крик материл землю, морозы, лёгкий экскаватор и потом, уже до кучи, покойницу и молча сжимающего лопату Василия.
В конце концов, какую-никакую яму выкопали, Василий, как мог, её немного подровнял и, придя домой, обрадовался, увидев не одну, а уже нескольких старушек. Они сидели смирно и после того, как он растопил печь, разрешили ему поспать. Разрешения он уже не слышал, уснув, скрутившись в кольцо на старой шубе около открытой духовки.
На следующий день в обед приехал вчерашний тракторист на своём экскаваторе, только теперь с телегой и ещё с одним мужиком, пьяным почти в стельку. Втроём они загрузили гроб в телегу и, доехав до свежей ямы, похоронили Антонину. Тракторист, отстегнув телегу и виртуозно маневрируя на тракторе, за пять минут закопал яму и даже собрал из мёрзлой земли холмик. Второй мужик налил Василию полстакана водки, и они быстро уехали. Василий выпил водку, поставил пустой стакан на холмик и пошёл домой…
… Летом он подровнял землю, соорудил, как мог, крест, нашёл, кем-то выброшенную старую оградку и, частями перетаскав её, собрал вокруг холма. Могила Антонины оказалась метрах в пятидесяти от основного кладбища. Ну, что же, и на том спасибо…
* * *
Он уже почти вышел с кладбища, когда его окликнули. Обернувшись, увидел высокого мужика с гривой лохматых волос в распахнутой грязной куртке.
– Ты куда прёшь, дед? – оскалился он, не обращая внимания на собаку, – подходи к нам…
Василий, машинально повернув, подошёл. Их было трое – здоровый верзила и двое, чуть старше его, весёлых мужиков. Они сидели на лавках за большим поминальным столом, на котором было много еды, также собранной с
могил, и разные бутылки.
Верзила шагнул навстречу и, цепко схватив сумку, вырвал её у него из рук.
– Да ты мародёр, дед! Смотрите, сколько насобирал, елейный! – и он вывалил всё из сумки под ноги. Яйца и яблоки раскатились по земле, бутылку с вином он сразу ухватил.
– Я не мародёр, я помаленьку брал, по-Божески…
Верзила засмеялся и, открыв бутылку, стал лить вино в чёрный рот, смеясь и сплёвывая.
– Вот это да! Ёрш хороший, молодец!
Василий шагнул и потянулся за бутылкой.
– Отдай, пожалуйста… вы же сами… – договорить он не успел. Верзила правой рукой, кулаком, резко ткнул его в грудь. Старик, как подрубленный, упал спиной на соседнюю оградку и сполз на землю, закрыв глаза. Поднять руку к захрустевшей груди он не смог. Лёлька, отчаянно лая, кинулась на верзилу. Тот поставил бутылку, схватил стоявшую у стола лыжную палку и, изловчившись, сильным ударом проткнул собаку. Развязно ухмыльнувшись, он поднял её, визжащую, над землёй и метнул, как из пращи, в сторону. Лёлька, звизгнув в воздухе, упала за оградки и через секунды замолкла. Верзила, рыкнув по-звериному, сел на лавку. Его собутыльники, напуганные, молчали.
– Будет ещё мне указывать, как жить, всякая голь! Так же? Давайте, собираемся и пошли: нам ещё сегодня–завтра надо в соседнюю деревню – там кладбище в два раза больше.
Они выпили, быстро собрали всё разбросанное в сумки и направились в сторону дороги. Верзила, вдруг ойкнул и, приказав им идти дальше, вернулся.
Присев и долго вглядываясь в лицо старика, он заметил, как дрогнуло веко и сразу, с оттягом, со всего маха ударил в него, вогнав разбитую голову между прутьями решётки. Кровь алой дорожкой потекла из носа, по шее под рубаху и из закрытого рта – по подбородку. Ноги, обутые в старые, со свалки ботинки, вытянулись, руки безвольно упали вдоль тела…
Верзила ещё раз наклонился и, затаив смрадное дыхание, секунду постоял.
– Так-то лучше, неприкаянный…
И, развернувшись, громко топая, побежал догонять своих.
* * *
Через четыре дня на отшибе, за кладбищем, вырос ещё один кривой холмик, одной стороной насыпанный на старую оградку. Креста на нём нет. Некогда людям…
29-30 апреля 2014 г.
Радоница
Инвалид
В принципе, Пашка был здоровый парень. Родился и рос в деревне, любил парное молоко и свободу, в которой его не ограничивали родители, и к восемнадцати годам вырос крепким и довольно хватким. Когда пришла повестка, как некоторые, не испугался армии, а с удовольствием решил идти служить.
Медкомиссию и все положенные по этому поводу дела прошёл быстро. Когда приехал домой с повесткой, мать немного всплакнула, отец крепко обнял и решил в субботу делать проводы.
Пашка пошёл по деревне звать друзей и подруг, без которых, как сказал отец: «Никуда». Обойдя своих, он решил, что надо ещё позвать корефанов из соседней деревни. Спросив у своего одноклассника Вовки мотоцикл, он вечером поехал туда, надеясь к темноте вернуться. Но, пока туда-сюда: там постоял со знакомым, там постоял, получилось, что обратно ехать по темноте. Мотоцикл у Вована был старенький и, если мотор работал хорошо, то фара почти не светила. Осенние ночи холодные, и Пашка торопился. Ещё глаза без ветровика слезились и, когда он увидел в двадцати шагах чей-то мотоцикл с люлькой, брошенный на дороге, ни затормозить, ни свернуть уже не успел. От сильного удара его выкинуло из седла на дорогу, засыпанную гравием, и последнее, что он услышал – это хруст лопающейся челюсти, а последнее, что увидел – яркая вспышка, которая постепенно тускнела в глазах с усилением боли. Потом всё лопнуло оглушительно, как гром, и погасло быстро, как молния…
Тяжёлая черепно-мозговая травма. Субдоральная гематома справа. Закрытый перелом плечевой кости. Закрытый перелом костей левой стопы. Перелом челюсти с выпадением пяти зубов…
Хирург посмотрел на Пашку, покачав головой.
– Да, неплохо покатался. А может, сразу инвалидность начнём оформлять?
– Да что вы, какой же я инвалид? Голову залепили, кости срослись, вот только зубы вставлю – и всё. – Пашка бессознательно потрогал рукой осколки зубов во рту.
Только по лысой голове и беззубому рту можно было
сказать, что он недавно побывал в передряге.
– Вот зубы вставлю, волосы отрастут, и никто не узнает ничего.
– Ну, смотри, я предупредил. – Врач поставил свою подпись под историей болезни, и Пашка поехал домой.
Все его погодки уже ушли в армию. Пашка съездил в военкомат, получил военный билет и устроился на работу. От работы не увиливал, поступать старался всегда честно, не выжимая себе привилегий. Через год познакомился с красивой девушкой, приехавшей на практику из мединститута, и безоглядно в неё влюбился. Не откладывая в долгий ящик, этой же осенью сыграли свадьбу. И когда жена через год родила ему пацанов-двойняшек, счастью не было предела. Теперь он вообще перестал отдыхать и работал постоянно, поражая всех своей работоспособностью. Только вот голова начала болеть. Он перестал париться, потому что после парной боялся даже пошевелить головой от боли. Совсем бросил курить и выпивал очень-очень редко и то по 100-150 грамм водки. Но работу он бросить не мог, понимая, что от этого зависит благосостояние детей. И вот жена, видя его мучения, просто заставила его попробовать получить инвалидность.
– Понимаешь, Паша, с инвалидностью у тебя будут льготы, хотя бы на покупку лекарств. И в больницу можешь обращаться без всяких направлений. Сделай это, пожалуйста. Сделай для нас. – И он, обнимая её с пацанами вместе, обещал.
Потом начались поездки по больницам и кабинетам. Много раз он, стоя в очередях или мотаясь через весь город за справкой, а потом в другой конец города – за другой, порывался всё бросить. Но жена терпеливо и спокойно убеждала его закончить начатое, и он снова вступал в бой. Наконец, почти через месяц, он всё собрал и ещё через месяц ему назначили комиссию.
* * *
На комиссию он приехал с вечера, ночевал на вокзале и утром на первом автобусе поехал по адресу. Поехал специально раньше, чтобы попытаться пройти всё одним из первых. Месяц назад он сдавал сюда своё дело, поэтому приехал к заветной двери быстро. Эта широкая чёрная дверь находилась сразу за остановкой и, чтобы не стоять, он сел на лавочку на крытой автобусной остановке. И немножко даже закемарил. Но когда хлопнула входная дверь, проснулся и выглянул из своего убежища. Из «волшебной», как он для себя
окрестил, двери вышли двое. Один – здоровый бугай в дорогом спортивном костюме, с широким лицом и громким голосом. Другой – наоборот, небольшого роста, вертлявый и, как показалось Пашке, заискивающий.
Вначале говорил маленький:
– В общем, Мишенька, всё в норме. К твоей инвалидности никто не придерётся, всё у тебя по закону.
Тот громко отвечал:
– Ну, спасибо тебе, Олегович, помог. Так что говоришь, мышца у меня в ноге сохнет? А? – и он громко захохотал. Маленький суетился, улыбаясь и потирая руки.
– Конечно, деньги не большие, но льготы хорошие, а деньги всегда пригодятся…
– Да, деньги я тебе отдавать буду, мне корочка нужна для дел. – И здоровяк опять засмеялся.
– В общем, Олегович, «будешь у нас на Колыме» – пьём коньяк, жрём шашлык! Хорошо? – маленький хихикал и кивал лысой головой. Здоровяк сел в недалеко стоявший роскошный автомобиль и, прогудев, уехал.
Маленький постоял ещё, оглядываясь по сторонам, потирая руки и внимательно поглядывая на них. Затем зачем-то понюхал правую и, громко хмыкнув, вошёл в дверь, перед этим тщательно вытерев ноги. Посмотрев на часы, Пашка подошёл к заветным дверям.
«Буду здесь стоять, а то набегут сейчас инвалиды! – он засмеялся мыслям. – Всё хорошо.»
Пашка был в очереди самый первый. Но, когда услышал из кабинета «очередной, входите», вдруг засомневался и пропустил вперёд пожилую женщину, которая громко ругала власть, не дающую ей инвалидность, хотя она всю жизнь «корячилась» на стройке, да ещё, как оказалось, зря. Она всё время спрашивала его с издёвкой:
– А ты-то чего? Ведь молодой и морда нормальная, и не хромаешь, а туда же…
Как назло, позади его все оказались пожилыми претендентами на инвалидность, и за него никто не заступился.
Минут через двадцать женщина выскочила, радостная, словно выиграла в лотерею очень много денег. Мужик, который был за нею в очереди, поднялся и пошёл в кабинет. Пашка сказал, что его очередь, но мужик, не слушая его,
спокойно зашел и закрыл дверь.
– Моя очередь будет, ладно? Я же пропустил женщину, а мужик сам прошёл. – Пашка встал и подошёл к двери.
Здесь вообще стал чувствовать себя, как, наверное, лошадь на продаже. На него все стали оценивающе смотреть, только что зубы показать не просили. За время, которое мужик был в кабинете, Пашка взмок. Через полчаса он всё-таки вошёл.
Маленький кабинет с ширмочкой. Слева сидит женщина лет сорока, тёмная, в чёрных роговых очках, с большой родинкой между верхней губой и носом. Прямо – тот самый лысый мужик, которого он видел утром около больницы. Справа – ещё одна женщина, прямая и дородная, возвышающаяся над столом, как гора. Эта смотрит прямо, на пальце теребит толстое кольцо и тихонько мычит.
Пашка назвал фамилию. Чёрненькая быстро нашла пачку его документов и, начав листать, стала невнятно торопливо читать.
– Когда упал, трезвый был. – Мужик, приподняв плечи, был похож на орла, – и что, действительно, одиннадцать дней был без сознания? – Пашке было стыдно, он ведь был выпивший тогда, но ответил утверждающе.
– А как же ты выжил? – чёрная с недоверием шевелила бумажки, – может, и не так всё страшно было?
Пашка совсем потерялся. Помолчав, ответил, стараясь держать себя в руках:
– Может, и не страшно, не помню, точнее не знаю, какой был тогда. Но сейчас очень голова болит, почти постоянно. И тошнит…
– Понятно, – прервал его врач-мужик, – раздевайся до трусов.
И началось. Сначала к себе подозвала врач-Гора. Эта стучала по коленям, проводила острой ручкой по животу, отчего Пашка вздрагивал, заставляла показывать язык и доставать рукой до носа. Все эти манипуляции она громко озвучивала: «Реакция нормальная, язык чистый, немного правит, координация нормальная, в нос попал со второго раза…»
А Пашка, слыша всё это, как мог, старался, как бы желая понравиться врачам. Подошёл Лысый. Этот сначала заставил опуститься на корточки, затем, держа сзади за плечи, приказал подниматься. Подняться было очень трудно, но Пашка, отчаянно напрягшись, заваливаясь на левую ногу, всё-таки встал.
– Хорошо, – Лысый показал на лежак за ширмой, – ложись. – Руками согнул ему колени, потом подал обе руки, с выставленными указательными пальцами, – жми сильнее, сильнее.
Пашка жал, что есть силы – так жал и старался, что вспотел. Лысый тоже что-то комментировал, но быстро и невнятно, поэтому в голове Пашки ничего не оставалось.
Потом настала очередь Чёрной. Эта заглядывала к нему в глаза через тарелочку с дырочкой, просила повторить скороговорку, которую он довольно чётко повторил. Потом, смотря в глаза, спросила, вдруг:
– Какие праздники знаешь? – Пашка сразу не мог вспомнить, но, подумав секунды три, ответил:
– Новый год!
– Хорошо, а ещё?
«Что-то дуру гонят, путают что ли?» – он вспомнил, обрадовавшись: – Пасха!
Чёрная улыбнулась: – Хороший праздник, а ещё?
«Что ты, блин, пристала?» – подумал Пашка, а вслух сказал: – День рожденья!
– Чей же?
– Как чей – мой! Ваш-то, какой мне праздник?
Все по очереди негромко засмеялись. У Пашки отлегло от сердца: «Ну, наверное, всё нормально, не зря мучился». От сознания, что всё вроде получается, ему стало как-то вдруг хорошо, и он вместе со всеми тоже засмеялся.
– Ну, одевайся. – Чёрная что-то дописывала в листки, пока Пашка одевался. Потом он опять сел около её стола.
– Ну что ж, Алексей Олегович, я не вижу у этого молодого человека никаких причин на инвалидность, всё у него более-менее нормально. Как ваше мнение? И ваше, Наталья Аркадьевна?
Лысый сказал, что по травматике всё хорошо, а врач-Гора, оказавшаяся невропатологом, тоже выдала положительную резолюцию.
– Здоров!
– В общем, молодой человек, медицинская комиссия в составе врачей высшей категории (она назвала всех по имени-отчеству, с озвучиванием медицинских регалий, назвав себя Аллой Наумовной), не нашла у вас показаний для назначения вам инвалидности.
У Пашки отнялся язык. Он, конечно, не считал себя совсем уж конченым, но, не притворяясь, далеко не был здоровым.
– Да нет, это… я работу не брошу, мне бы лекарства, чтобы подешевле, всё так дорого – не укупишь, а голова болит… – Он поворачивался через плечо то вправо к Лысому, то влево – к Горе.
– Мне не работать нельзя, у меня же дети, их надо поднимать…
– Вот что, молодой человек, тебе же компетентные люди говорят: не положено, и все органы у тебя нормально работают. С нас же тоже за вас спрашивают и проверяют, не можем же мы всем подряд лепить инвалидность только за то, что детей надо кормить? – Лысый, поднявшись и оперевшись о стол, был опять похож на орла. На его лице было написано такое возмущение, что, по его мнению, Пашка должен был сгореть со стыда.
– Не положено?! А кому положено? Толстому буржую, у которого детская травма мизинца на левой ноге, ему? Или его тёще, у которой изжога от мучного? Или кому-нибудь, кого судят за миллионные взятки, в суд предоставить, мол, инвалид? Так, да?
Лысый, поняв, что этот парень слышал его утренний разговор и, покраснев, как рак, заорал:
– Вооооон! Я милицию вызову за такие слова… воон! Алла Наумовна, отдайте ему его филькины грамоты и пускай убирается к чертям собачьим.
Чёрная сунула Пашке его документы и он, не успев опомниться, оказался в прихожке. Там все слышали крик Лысого и громко заругали Пашку:
– Что, не прошла халява на этот раз? А то всем раздавать инвалидности – так и не хватит настоящим больным.
– Да пошли вы все! – Пашка хлопнул дверью и выскочил на улицу.
* * *
На улице шёл дождь. Отойдя метров пятьсот, он поднял голову, и дождь мягким душем пролился на него, освежая и остужая разгорячённое лицо. «Да что же я, как слабак? Что, не проживу без этой подачки? Может, куда подкалымить подамся, может, кому что на тракторе помогу. А голова… голова пройдёт. Говорил же мне кореш, что постепенно ко всему человек привыкает, вот и к этому привыкну».
Пашка остановился возле урны, посмотрел по сторонам и, удовлетворенный, аккуратно положил папку в неё. Постояв несколько секунд,
поднял ногу и с остервенением забил её ногой на самое дно урны, не просто, а приговаривая: «Кто инвалид, а?.. Кто инвалид?.. Выкусите…»
Устав, он ещё раз посмотрел на смятую грязную папку и, вздохнув, улыбаясь, пошёл на остановку.
P.S.
Он приехал домой и стал работать с ещё большим остервенением, чем раньше. За это ему дали новый трактор «Беларусь». А через два года, вспахивая поля под озимые, он почувствовал себя плохо. Хотел остановиться, но не успел. В голове что-то оглушительно лопнуло, и красный туман застил глаза…
Когда в поле привезли обед, то увидели трактор, упёртый в околке в огромную берёзу. Колеса прокопали глубокие ямы, и трактор уже висел на мосту. В кабине на руле лицом лежал Пашка, сжимая рукой рычаг скоростей.
2007г.
Кормилец
Семён Ветлужанин торопился домой! Он вскидывал, как цапля, ноги, обутые в высокие резиновые сапоги, пытаясь не споткнуться и не упасть лицом в грязь, липко мерцающую даже в кромешной темноте. А шёл он домой с праздника, какой каждый год по окончании уборочной организовывал в их совхозе председатель.
В этом году Семён первый раз, по причине своей молодости, работал разнорабочим на зерноэлеваторе, в народе – сушилке! За месяц работы получил серьёзные, по современным меркам, деньги, несколько (семь!) центнеров пшеницы и, совсем неожиданно, уже на самом празднике – премию! Хитрый председатель, чтобы не ссорить народ, сумму премий не озвучивал, и счастливчики, засунув конверты в карманы, все как один мучились, надеясь на большее…
Семён или, как его называли почти все в деревне, Сёмка, не выдержал первый и, наскоро поев за общим длинным столом, убежал.
– Что толку сидеть? – решил он про себя, – водку всё одно не пью, а хор слушать и подавно не стоит – одно и то же каждый праздник.
Но он лукавил, оправдывая себя перед самим собой и даже немного смущаясь этим. И если бы кто, заметив, окликнул его во время побега, он, конечно, бы не ушёл! Но… не заметили. И Сёмка торопился по тёмной, совсем промокшей за день первого осеннего дождя улице домой, сжимая уже вспотевшей в кармане штанов рукой заветный конверт. Проскочив в калитку, обтопал на начинающейся сразу от ограды бетонной дорожке сапоги от грязи, и разувшись у крыльца под навесом, приостановился на свету под уличной лампочкой. Секунду посомневавшись, вытащил промокший вместе с рукой конверт и торопливо, но аккуратно надорвал его с самого края… С азартным нетерпением расширил указательными пальцами дыру и вытащил три купюры. Сверху была тысячная бумажка…
– Три тысячи, – он неожиданно расстроился, – всего-то…Вот и пожалуйста, размечтался…
Когда он торопился из клуба, то мечтал хотя бы о пяти, поэтому сейчас почувствовал себя словно обворованным! Но нет! Развернув деньги, как игральные карты, веером, на свет, он радостно вскрикнул:
– Хоп!
Средняя купюра была пятитысячная. Значит, всего семь! Так-то… Он, радостно притопнув замёрзшей пяткой о крыльцо, заскочил в дом, предварительно спрятав деньги в уже знакомый им карман!..
* * *
Мать, посмотрев на неожиданно ворвавшегося сына, прихлопнула по бёдрам руками.
– Никак нагулялся? – и, рассмотрев его довольное лицо, добавила: – Али премию председатель сподобил?
Сёмка даже растерялся. Ведь он, пробираясь по грязи домой, уже эту радостную сцену вручения денег отрепетировал…
– На, мам! Вот ещё к тем деньгам доложи, копейка к копейке – глядишь, и перезимуем без хлопот. А летом опять заработаю, чай руки-ноги есть!..
А тут, она словно по глазам прочитала, неинтересно и буднично как-то.
Семён, уже без улыбки, подошёл к столу и положил смятые деньги.
– Вот ещё, правда, премия. За хорошую и ответственную работу, сказали.
Мать крепко и нежно обняла его, а он, уткнувшись ей лицом в грудь, сам того не ожидая, вдруг соврал:
– Ещё сказали, на тот год ждут. Мол, им такие ответственные работники нужны, чтобы работать могли!..
Улыбающаяся мать ещё крепче прижала его голову к груди и поцеловала в макушку:
– Кормилец!
* * *
Отец Семёна ушёл от них четырнадцать лет назад. Был он пришлый из города, попавший в деревню ещё отрабатывающим практику студентом. Познакомившись с Галей, будущей Сёмкиной матерью, он влюбился в неё и, как обещал, вернулся после армии к ней. Ни с кем не советуясь, они скоро поженились, не дождавшись приглашённых на свадьбу родителей жениха. Те сообщили, что не для такого счастья они воспитывали сына, чтобы тот остался в деревне с коровами!
Отец Сёмки остался и первое время кинулся в работу. Но, полуразваленный в девяностые годы прошлого века колхоз поднимался с колен трудно. И очень скоро многие убежали от тяжёлой, почти бесплатной работы в город, за «потерянным кем-то лёгким рублём»! Среди них и отец Сёмки.
Сначала растерянная мать лгала уже совсем всё понимающему и любящему отца сыну всякие небылицы про командировки. Но после почти годового молчания мужа, созналась сыну, что отец где-то потерялся. Сын, вдруг став серьёзным, сжав кулачки, по-взрослому рассудил:
– Я так и знал, мама. Так и знал… но не думай, я вырасту и найду его!
Затем он долго плакал, уткнувшись лицом в маленькие мягкие ладошки, так и уснув в безутешном детском горе. Сама же Галя не спала совсем, но плакала без слёз. Слёз уже не было…
* * *
Утро субботы проснулось серым и грустным. Сёмка давно не спал и неотступно смотрел на жёлтую в детских картинках штору, закрывающую окно уже многие годы. Он точно помнил её из детства, и даже с закрытыми глазами мог указать, где он подрисовал Коту в сапогах очки фломастером, а где надел на Чебурашку и на крокодила Гену коньки. Мать тоже знала эти рисунки и, без зла, выговаривала Сёмке за них:
– Шторы-то хорошие… Плотные и цвет как раз по комнате… они ещё лет пять-десять провисят, если их не трогать!
Сын «раритет» теперь не трогал и даже терялся, когда мать иногда снимала их стирать.
Из кухни через неплотную дверь потянулся вкусный запах завтрака. Парень принюхался.
«Оладушки на простокваше или блинчики на молоке?» – запахи и того и другого были похожи, к тому же он самозабвенно их любил. Особенно со свежей сметанкой! Или с мёдом – золотым и ароматным, или на худой конец со сгущёнкой. Семён радостно потянулся, прохрустев всеми косточками, незамедлительно встал и решил окончательно: «Сегодня ещё в сарае почистить, пока на улице слякоть, а к вечеру баню сладить…»
Он был прост, честен, трудолюбив и бесхитростно наивен, словно древний старик – всё знающий, но и всему верящий!
* * *
Всё-таки это были блины! Сёмка быстро доскочил до сарая, в котором был сделан «почти тёплый туалет», а на обратном пути тщательно, с фырканьем, умылся с головой под длинным, во всю веранду сливом, устроенным из разрезанных на две полосы широких поливочных труб. Вода конца сентября, льющаяся серебряной струёй, была уже стылая, тяжёлая и натурально пахла льдом, который он, пацаном, часто набирал в рот на озере, где играли в хоккей! Наплескавшись и ощущая в теле здоровый озноб, парень заскочил домой и стал обтираться махровым полотенцем, разгоняя по коже бодрящий огонь!
Мать, улыбаясь, поглядывала на него. Семён видел это и радовался!
– Ты, сынок, аккуратней. Не хватало ещё какой насморк перед зимой заполучить…
Сын молчал, понимая, что действия его одобряют, долго, по случаю выходного, завтракал вначале блинами со сметаной, затем опять же блинами, но с мёдом. Мать явно что-то хотела сказать, но терпеливо дожидалась, когда он насытится и, только убедившись в окончании трапезы, начала:
– Ты бы, сынок, съездил назавтра в город на рынок или на барахолку – как её там…
Сёмка поднял удивлённо брови, но мать продолжала:
– У тебя на осень даже курточки нет нормальной. А тут эта премия, она же не учтена нами, понимаешь? Это словно подарок неожиданный или находка. Ну и разойдётся по мелочам незаметно. Так что езжай-ка завтра и купи себе обнову – заслужил!
Сёмка обрадовался предложению, но, понимая отсутствие в семье достатка, засомневался… Но заботливая мать окончательно убедила его в правильности этого решения.
– Самое-то главное – не дай Бог, простынешь по осени в своей старой куртёшке. Как буду одна всё тянуть?
Сёмка сдался, чуть не взлетая от радости, переполнившей душу:
– Хорошо! – затем, не торопясь, встал, опять же, не торопясь, облачился в рабочую одежду и пошёл в сарай чистить и готовить скоту зимние стойла.
Галина подоила предварительно выведенную под навес корову – их любимицу Зорьку – а в сараи даже не пошла: Семён сделает всё сам со
взрослым пониманием, скрупулёзностью и тщательностью… Ведь из своих неполных восемнадцати, он уже почти пятнадцать – хозяин в доме!
В обед он зашёл, похлебал наваристого борща с курятиной, несколько минут посидел и опять вышел. Галина видела через окно, как сын таскал из-под слива воду в баню, снимая перед дверью тяжёлые грязные сапоги, чтобы не натоптать в ней. И к четырём баня с неохотой задымила в промозглое плачущее небо. Галя посмотрела на часы – к семи будет баня, жаркая, сухая, побеждающая любую хандру!
* * *
В воскресенье, в семь утра Семён уже сидел в уютном «ПАЗике» на заднем сиденье. Автобус из-за дальности маршрута выходил из деревни в семь, в одиннадцать – был в городе, а в пять – возвращался в деревню. Времени для выполнения намеченного у Сёмки – с избытком.
«Сначала на барахолку, а потом около автовокзала похожу по магазинам, полюбуюсь…» – Он не любил город, но, совершая редкие вылазки сюда, обычно с матерью, искренне радовался всему увиденному! Сейчас была возможность погулять, не торопясь, одному…
С автовокзала до барахолки можно доехать на трамвае без пересадок, что, на радость Сёмки, упрощало задачу. Трамвай, стуча на стыках суставами, не торопясь катил по городу. Парень с интересом смотрел на незнакомую ему жизнь, с удивлением отмечая, как неудержимо быстро меняется всё окрест. По этому пути они ехали с матерью всего каких-то два с небольшим года назад, а сейчас он почти ничего не узнаёт. Куда ни глянь – длинные заборы, окружающие новостройки с торчащими цаплевидными кранами, а кое-где уже и открытые для глаз высотки со сверкающими стёклами!
Сёмка вдруг ощутил радостный азарт, словно на удачной осенней рыбалке, когда выводишь на спиннинг игривого килограммового окуня и видишь, что за ним мелькают ещё два-три…
«Может, потом заработаю денег и насовсем переберусь сюда, – ему очень понравилась эта мысль. А когда на повороте увидел в отражении трамвайного окна своё улыбающееся лицо, засмеялся негромко и смущённо, пригнув к груди голову. – Ох, как хорошо!»
* * *
Барахолка обескуражила размахом! Он шёл по центральному ряду, понимая, что надо найти отходящий от него малый ряд именно с кожаными изделиями. Сотни людей шныряли вокруг, задевали его и друг друга, привычно не замечая этого, кричали и торговались громко и уверенно. Сначала он хотел погулять по огромной барахолке, посмотреть на «разные разности», «поприценяться», как говорила мать, но неожиданно заволновался и, начиная неоправданно злиться на всё и всех, пошёл, быстро огибая останавливающихся покупателей, задирая голову, высматривая свой ряд. Кожаный «Клондайк» был почти в конце. Сёмка, увидев висящие куртки и плащи, сразу свернул в него, ещё минуту шёл быстро, не глядя по сторонам, наконец, стал замедлять шаг. Перейдя на совсем тихий ход, он вытер рукой пот со лба и поднял глаза на кожаное богатство, висящее гроздьями и лежащее горами! Парень сглотнул сухую слюну и уже повёл глазами дальше, но услышал уверенный и, словно приказывающий, негромкий голос:
– Всё что надо, здесь!
Сёмка опустил глаза и увидел улыбающегося невысокого парня, скорее, мужика, гладко бритого, держащего левой рукой на уровне груди пластиковый стаканчик с кофе, а правой, чуть к лицу, между пальцами дымящую длинную сигарету.
– А что надо? – Сёмка задал вопрос машинально и раздельно, наверное, давая понять, что ему что-то нужно… Парень соступил с деревянной подставки, поставил стаканчик на раскладной стол и, засунув сигарету между подвижных губ, заговорил быстро, но внятно:
– У меня есть именно то, что вы ищете, молодой человек. Несомненно, вам нужна не просто куртка, а очень качественная куртка, по возможно минимальной цене… И такие, – он провёл левой рукой взад и вверх, – именно, у меня есть!
Сёмка даже не удивился точности определения его желания или, скорее, не придал значения, словно заранее с мужиком договорился. Тот подошёл к нему и, взяв за плечи, продолжил сыпать словами:
– Сорок шесть – сорок восемь… немного выше колен, желательно с карманами на груди в дополнение к боковым, воротник – стоечка, замок медный, закрытый… Цвет – тёмно-серый или совсем тёмно-коричневый, с осенним подкладом?
Сёмка, не любя злые осенние ветры, предпочитая закрывать бёдра
подолом одежды и прятать руки в удобные нагрудные карманы, именно так и представлял себе желанную куртку. Он опять сглотнул слюну и выдавил из себя:
– Да, примерно…
Теперь мужик заулыбался уже совсем уверенно и доверительно:
– Значит, вы издалека?!
Сёмка напрягся и даже слегка обиделся:
– Это почему так?
– Да потому, что только люди, приехавшие издалека, ценят и уважают хороший, тёплый продукт. Наши всё больше грудогрейки по пояс ищут, чтобы пуп синий видно было…
Он длинной палкой с рогатиной уже снимал куртку, почти чёрную, и, сняв, стал расстёгивать.
– А причём тут продукт? – думал Сёмка, радостно улыбаясь и любуясь курткой, – я её есть не собираюсь!..
Мужик расстегнул вещь, вытащил подклад и, помогая надеть кожаное чудо на парня, снова аккуратно застегнул. Она, вправду, была в пору! Покупатель, затаив дыхание поворачивался у большого зеркала, одёргивал подол вслед за мужиком и совал руки в мягкие карманы на груди.
– Вот, посмотри! Ты преобразился в этом кожаном чуде! Тебя, несомненно, завершил, доработал этот «реглан»!.. Нет-нет, это не «реглан», к чему пафос – это лапсердак, не меньше! – мужик не умолкал ни на секунду…
Сёмка, покраснев от удовольствия, засунул руки в боковые глубокие карманы.
– А лапсердак – это название стиля или фирмы? – Сёмка, наконец, взглянул из зеркала на продавца.
Тот, на секунду задумавшись, уверенно ответил:
– Лапсердак – это философия! Это целое направление в культуре, многим непонятное, но от этого ещё более манящее. Можно сказать, что лапсердак – это одежда успеха – и никак иначе!
Стоящие по обе стороны продавцы уже смеялись, но грамотно маскировались, чтобы не спугнуть клиента. Рука руку моет!
* * *
Всё нравилось! Но самое главное – цена! Она ещё не была озвучена, и парень мучился. В нагрудном кармане рубашки, под свитером и в свою очередь под ветровкой, застёгнутые булавкой, лежали именные его деньги! Семь тысяч, как одна копейка… На автобус в две стороны и на перекусить – выделила мать из своих. Эти лежали отдельно и для торга не предусматривались. Надеяться, что такая красота, да ещё с подкладом, может стоить меньше, не приходилось… Но, когда серьёзное лицо продавца приблизилось к лицу Сёмки и подвижные губы шепнули: «Семь», – у него отлегло от сердца! Чтобы не заверещать от радости, парень закрыл глаза и глубоко вздохнул, сдерживая эмоции, переполнявшие душу. Мужик понял это по-своему и, не давая одуматься, продолжил:
– Конечно, реальная цена больше… Но я тебе за дальний ход скидочку даю! Вот, не лукавлю…
И он, сразу повысив голос, обратился к толстомордому парню, торговавшему напротив:
– Миша, родной, сколь у тебя красота такая стоит? Озвучь! А то клиент сомневается!
Быкоподобный Миша, сделав два шага ближе, растягивая слова, промычал:
– Восемь рублей! У тебя что? Не так что ли?
– Именно так, так! – поддержал Сёмкин мужик и ещё выдал аргумент в пользу себя: – А я вдобавок тебе, как первому покупателю, варежки кожаные презентую. Именно от широты душевной моей, – он ткнул пальцем в себя, – красоте душевной твоей! – теперь палец уткнулся в карман с деньгами на Сёмкиной груди…
Палец и, главное, не указательный, а большой, был «обут» в серьёзный, как показалось Сёмке, перстень. И именно этот перстень на довольно холёной городской руке сломал последние сомнения парня. Он согласно кивнул головой и полез под свитер. Мужик быстро и ловко скомкал куртку, сунул её в красивый целлофановый пакет и сверху положил, похожие по цвету на куртку, варежки, запакованные уже в хрустящую плёнку…
Сёмка отдал деньги, мужик пересчитал их и, сразу потеряв к нему интерес, шагнул на свой постамент. Приподняв пакет с желанной покупкой, счастливый покупатель пошёл сразу к выходу. А что ходить судьбу пытать после такой удачи?
* * *
В трамвае он немного успокоился и даже сел на освободившееся сидение.
«Вот же город… В деревне бы сразу узнали о моей удачной покупке, и все бы интересовались и радовались со мной», – в последнем он был не совсем уверен, но всё равно заставлял себя думать именно так. Сёмка ещё раз оглядел безразличных до него людей и заглянул в пакет.