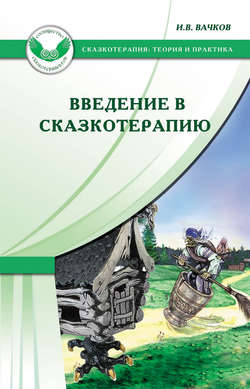Читать книгу Введение в сказкотерапию, или Избушка, избушка, повернись ко мне передом… - Игорь Вачков - Страница 8
Раздел I. Теоретические вопросы сказкотерапии
Глава 1. Сказки в человеческой культуре
Сказки в культурологии и психологии
ОглавлениеЕ. М. Мелетинский считал, что сказка рождается из мифа: «Основные ступени процесса трансформации мифа в сказку – деритуализация и десакрализация, ослабление строгой веры в истинность мифических событий, развитие сознательной выдумки, потеря этнографической конкретности, замена мифических героев обыкновенными людьми, мифического времени – сказочно-неопределенным, ‹…› перенесение внимания с коллективных судеб на индивидуальные, ‹…› с чем связано появление ряда новых сюжетов и некоторых структурных ограничений» (Мелетинский, 1973, с. 264).
Весьма распространенный взгляд на сказку как на «осколок мифа», идущий от школы Дж. Фрезера (Фрезер, 1983), может быть оспорен: целый ряд сказок оказывается более древним, чем миф, и, безусловно, сказка глубже и сложнее мифа.
В этом отношении примечательна точка зрения известного психолога юнгианского направления Марии-Луизы фон Франц, которая полагает, что в отличие от мифа, имеющего явно выраженный национальный характер, волшебные сказки находятся вне культуры, вне расовых различий, поэтому способны очень легко мигрировать. Они являются интернациональным языком для всего человечества, для людей всех возрастов и всех национальностей, независимо от их культурных различий. М.-Л. фон Франц пишет: «Мне кажется, что волшебная сказка похожа на море, а саги и мифы подобны волнам на его поверхности: сказка то «поднимается», чтобы стать мифом, то «опускается», снова превращаясь в волшебную сказку. И опять мы приходим к идее о том, что волшебные сказки как в зеркале отражают более простую, но вместе с тем и более базисную структуру психического, его скелетную основу» (Франц, 1998, с. 32). Говоря о возможности появления сказки прежде мифа, она ссылается на работы филолога Е. Швайцера, убедительно показавшего, что миф о Геркулесе составлен из отдельных эпизодов, каждый из которых представляет собой определенный сказочный мотив. Он доказал, что эта история превратилась в миф, изначально являясь волшебной сказкой, но затем став обогащенной и поднятой до литературного уровня.
Одно из главных отличий сказки от мифа состоит, как указывают А. Е. Наговицын и В. И. Пономарева, в том, что последний открыт по содержанию, фактологичен в своем наполнении и однозначен по смыслу. Сказка же всегда многозначна, многоаспектна; демонстрируя выбор пути героем, она дает возможность воспитания не на одном образце, как в мифе, а на выявлении степени готовности члена социума к переходу в новое качество (возрастное, социальное).
Есть и другой взгляд. Известный российский исследователь фольклора, литературовед В. Я. Пропп, проанализировав особенности волшебных сказок в своей работе «Исторические корни волшебной сказки», указывал на то, что формально миф не может быть отличен от сказки. «Сказки и мифы (в особенности мифы доклассовых народов) иногда настолько полно могут совпадать между собой, что в этнографии и фольклористике такие мифы часто называют сказками. Между тем если исследовать не только тексты, а исследовать социальную функцию этих текстов, то большинство их придется считать не сказками, а мифами» (Пропп, 1998, с. 124).
Создатель психоанализа З. Фрейд сказками специально не занимался, хотя и касался этого вопроса, но его последователь О. Ранк рассматривал сказку как вуалирующую сексуальный комплекс, в противоположность мифу, где комплекс представлен откровенно, открыто. По его утверждению, сказка как раз и появляется в тот период, когда семейно-родовые отношения стали упорядочиваться, накладывая определенные ограничения на поведение людей. Среди крупнейших психоаналитиков – исследователей сказки выделяются Э. Фромм и Б. Беттельхайм. «Забытым языком» называл Э. Фромм язык сновидений, мифов и сказок, рассматривая их через язык символов.
Особое значение имеют сказки в юнгианской психологии. Функциональные структуры коллективного бессознательного – архетипы – Юнг сравнивал со стереометрической структурой кристалла. Это первичные формы, организующие психические содержания, схемы, согласно которым образуются мысли и чувства всего человечества. Результатом актуализации архетипов становятся архетипические идеи, являющиеся основным содержанием мифологических представлений. Сказка в концепции Юнга выступает средством встречи ее читателя с самим собой. Сказочный сюжет рассматривается как отражение внутреннего мира читателя, в сказке описывается индивидуация как процесс своеобразного внутреннего путешествия. Поиск и выявление изначальной, первозданной, архетипической «самости» составляет отличительную черту многочисленных исследований сказки юнгианского толка.
По наблюдениям известного юнгианца Х. Дикманна, сказки, эмоционально затронувшие в детстве, могут повлиять на судьбу человека. Они связаны с внутренним миром человека, его поступками и переживаниями, а также его сильными и слабыми сторонами и даже болезнями. По мнению Х. Дикманна, часто такую роль может сыграть сказка или сказочная история, особенно любимая человеком в детстве или, наоборот, сильно пугавшая его в то время. Другими словами, сказка, которая произвела сильное эмоциональное впечатление на человека. Позднее она была забыта или вытеснена и тем самым погружена в бессознательное, где, однако, продолжала обладать значительной энергией, о чем взрослый человек мог и не подозревать (Дикманн, 2000).
С точки зрения представителей трансактного анализа, особого внимания заслуживает изучение ролевого взаимодействия героев сказок. В соответствии с данной концепцией каждый персонаж сказки символизирует определенную роль, которую человек может играть в жизни или даже класть в основу своего жизненного сценария. В частности, в книге «Люди, которые играют в игры» Эрик Берн описывает жизненные сценарии персонажей сказки «Золушка»: самой Золушки, ее Отца, Мачехи, Сводных сестер, Крестной матери, Принца, Короля, Гонца, Придворного – и показывает, как сценарий Золушки разворачивается в реальной жизни.
В рамках бихевиорального подхода сказки рассматриваются как описания моделей поведения. Соответственно, работая со сказкой, можно помогать клиенту усваивать продуктивные модели, реконструировать непродуктивные и простраивать модели желаемого поведения. Идеи, изложенные в сказках, могут быть напрямую перенесены в жизнь. Так, смысл сказки «Репка» мог бы бихевиористами сформулирован, например, так: «Не сдавайся! Попробуй приложить дополнительное усилие, пусть даже очень маленькое; может быть, именно его не хватает для достижения успеха». Сказки формируют своеобразный банк образцов поведения в тех или иных жизненных обстоятельствах.
Представители гипнотической школы указывают на сходство между наведением транса и прослушиванием сказки. В эриксоновской школе бессознательное рассматривается как хранилище всего опыта человека, его памяти, знаний; бессознательное – главный источник беспредельных возможностей разрешения проблемы, устранения симптома. При наведении транса удается обращаться напрямую к бессознательному, избегая сопротивления со стороны человека. Особенно эффективно при этом рассказывание психотерапевтических историй, которые часто похожи на сказку. Используя сказки и истории, психолог может сообщить ребенку или взрослому какую-то важную информацию, избежав при этом чтения нотаций и каких-либо жестких директивных указаний, которые, как правило, вызывают у человека агрессию и отторжение.
Сказка используется и в других психотерапевтических направлениях.
* * *
Итак, при всем многообразии трактовок происхождения сказки и многочисленности ее источников вполне очевидно, что сказки удовлетворяли какую-то чрезвычайно важную потребность человека. По всей видимости, они продолжают удовлетворять эту потребность и сейчас – ведь народные сказки почему-то продолжают сохраняться в культуре. С нашей точки зрения, архетипические образы и сюжеты сказок направлены на удовлетворение важнейшей потребности человека – потребности быть субъектом – создателем своего мира и его активным преобразователем. Поэтому именно с позиций психологии субъектности можно объяснить механизмы воздействия и возможности применения сказок в работе практического психолога. Об этом пойдет речь в следующих главах.