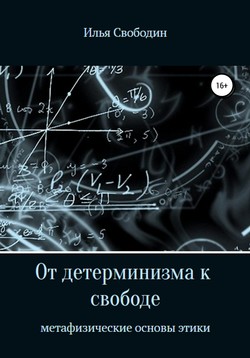Читать книгу От детерминизма к свободе: метафизические основы этики - Илья Свободин - Страница 1
ОглавлениеВведение. Проблема
Понятие "свободы" является самым загадочным в философии, а проблема "метафизической" свободы (иногда называемой проблемой "свободы воли") – без сомнения самой главной философской проблемой. На ней споткнулись абсолютно все философы, что не удивительно: не смотря на ясность постановки проблема неразрешима. В то же время ни один практически важный философский вопрос нельзя решить не привлекая свободы, ибо свобода – фундаментальное свойство человека отличающее его от остального мира. Ниже представлены некоторые неформальные соображения помогающие разобраться в проблеме свободы.
Прежде всего, не следует думать, что в свободе есть что-то мистическое, потусторонее или трансцендентное. Философия требует рационального мышления. Проблема с рациональностью однако в том, что если следовать только ей, мы никогда ничего не сможем обьяснить, поскольку любое логическое построение требует исходных постулатов. Постулат – это проявление веры. Другое дело, что эта вера должна быть как-то обоснована. Наилучшее обоснование то, которое наиболее правдоподобно, которое наиболее точно отражает наши интутивные ощущения окружающего мира. А поскольку философия, в сущности, занята именно постулатами, она требует не столько логических построений сколько умения быть "интуитивно правильным".
Таково, на мой взгляд, следующее утверждение: понять свободу до конца невозможно, поскольку и понимать свободу, и давать ей определения можно как угодно – в этом сущность свободы. Именно так мы "чувствуем" свободу – как пособность думать, говорить и поступать наперекор всему. И если бы дело обстояло иначе, если бы мы знали как "работает" свобода, она бы исчезла! Поэтому свободу нельзя однозначно, "правильно" и "истинно" определить. Можно лишь пытаться её осмыслить отталкиваясь от её противоположности – определённости, ограниченности, предзаданности, обязательности, необходимости, принудительности и т.п. Однако свободу нельзя считать и противоположностью чего-то (назовём это что-то "детерминизмом"), поскольку противоположность уже означает определение от противного. Будем считать свободой "всё кроме детерминизма", "всё что не детерминизм".
Но если мы не знаем и никогда не узнаем что такое "свобода", как можно обращаться с этой сущностью? Мы должны рассматривать свободу вместе с её антиподом детерминизмом как обьективные, т.е. независимые от нас свойства, качества или аспекты мироздания. Такой подход позволяет свободу не только в какой-то степени осмыслить – распознать её проявления, увидеть её следы, но и, самое главное, положить в основание обьективной, а значит и единственно правильной этики.
Можем ли мы быть уверены, что свобода действительно существует, что наши чувства не обманывают нас, что это не иллюзия или "социальная условность"? Нет конечно, но задавая себе очередной каверзный вопрос, мы лишь утверждаем нашу способность понимать мир. Сама возможность сомневаться в свободе говорит о её наличии. Мы можем считать, что она у нас есть, а можем что нет, но это и есть наша свобода, наш свободный выбор, и он, как и результаты наших размышлений, непредсказуем. С сомнения начинается познание, и если нет свободы – нам не нужно познание: оно бессмысленно, потому что ничего не меняет. Но если мы сомневаемся, если мы задаём себе вопрос о свободе – значит мы ищем знание и значит наша свобода не обманывает нас. Свобода мыслить ведёт к свободе действовать и поскольку нами в конечном итоге руководит свобода – именно её мы проводим в мир своими действиями. И именно к ней направляет нас обьективная этика.
Но как могут сосуществовать детерминизм и свобода и почему такая метафизическая свобода служит основанием этики? Давайте отбросим сомнения (или запасёмся ими) и начнём с начала, с первого вопроса.
Философия, наука, человек
– Давайте. Что такое философия? Зачем она?
Философию по традиции переводят как "любовь к мудрости". Философия обьясняет, или лучше сказать, пытается обьяснить мир.
– Ничего себе "обьясняет"! Да в ней не поймёшь ничего!
Это тоже можно обьяснить.
– Тогда может с этого начнём?
Хорошо. У непонятности есть две группы причин – обьективные и субьективные.
– Ну вот, начинается!
Нет пока. Давайте начнём с обьективных. Как вы думаете, каков главный вопрос философии?
– Что первично: работа или зарплата? Шучу.
Главный вопрос можно сформулировать так: "Что мы знаем о свободе?"
– Странный вопрос! Почему бы не спросить как-то посолиднее, понаучнее… Например: Что есть свобода? Звучит?
Звучит. Беда с ним в том, что ответа на него нет. Мы даже не можем твёрдо утверждать что свобода "есть".
– Ого! Прояснили!
Не надо падать духом. "Что мы знаем о свободе" тоже хороший вопрос. Более того, на него можно отвечать бесконечно долго, гарантируя работу всем будущим философам, а это дело очень хорошее!
– Не уверен. Это значит лишь, что полной ясности так никогда и не будет!
Да, но зато будет всё ясней и ясней, а разве этого мало?
– Ну допустим. И что же мы знаем о свободе?
Вот это мы и обсудим далее. А пока заметьте самое важное – мы не знаем что такое свобода и даже существует ли она.
– Тогда зачем мы тратим на неё время? Да ещё всю философию под это запрягли?
Как минимум потому что свобода – то, что делает нас людьми. Без свободы наш мир невозможно понять, а понять свободу бесконечно трудно. Отсюда обьективные непонятки с философскими текстами.
– Ну а субьективные?
Происхождение этой группы причин кроется в самих философах.
– Спасибо. Я думал, вы скажете – в читателях!
В них тоже, но к ним предьявлять претензии нет смысла.
– Согласен! А что не так с философами?
К счастью не со всеми. Есть очень много хороших философов – кратких и ясных. Особенно много их было раньше.
– Почему?
Я думаю их стало слишком много.
– Философов много, а свобода одна?
Всё шутите? К сожалению, философия постепенно перестала быть любовью к мудрости, а стала любовью к чему-то другому, например, к академическому результату. Согласитесь, это вовсе не "краткое и ясное обьяснение сложных вещей".
– А не ошибаетесь ли вы?
По крайней мере этим правдоподобно обьясняется не только обилие философских текстов, но и их пустота, схоластичность. Поневоле приходишь к выводу, что ныне главное умение философа заключается в том, чтобы выразить старую мысль новыми словами, а ещё лучше – запутать очевидную. Чем заумнее мысль, тем она кажется глубже, а философ – оригинальнее.
– Зачем же они это делают? Зачем им какой-то академический результат?
Не знаю точно, но одна причина очевидна – мыслители стали профессионалами.
– А чем это плохо?
Тем, что они не стремятся познать мир, а работают за зарплату. Их мотивация изменилась – им важна карьера, признание, деньги и множество других вещей, не имеющих отношения к познанию мира. Они утратили свободу.
– Материальное стало первичным?
Именно так.
– А разве нельзя познавать мир имея твёрдую оплату и много времени? И куда делась их свобода?
Если мотив человека иной, познания не получается. Нельзя понять как устроен мир, если встроиться в социальную систему с жёсткими правилами и подчиниться её давлению. Истинная философия старается сделать сложные вещи яснее для всех и, по возможности, бесплатно – в этом её смысл. Понимая мир, нам легче жить и действовать в нём. Мы становимся свободней.
– Э-э… что-то вроде "свободные люди обьясняют свободу чтобы стать ещё свободней"?
Да вы похоже философ! Да, если хоть в одном из этих трёх мест кроме свободы что-то другое, истины не получится.
– Что-то я пока не чувствую новой свободы. Хотя нет… чувствую, вы правы! Не буду читать современных философов, буду свободен от них!
Как мило.
– Ну а кто тогда обьяснит мир вместо них? Наука?
Наука никогда не обьяснит мир до конца, потому что она заранее ограничивает себя только его частью – той, которая может быть обьяснена и описана экспериментально и рационально – математически и логически.
– Так это и есть настоящий, реальный мир! Факты и логика! Остальное – суеверия и фантазии!
Рациональное мышление нуждается в исходной точке для своих построений – предположении, аксиоме, постулате. Но сама эта исходная точка лежит вне его.
– Так для того и эксперимент, чтобы найти исходную точку, чтоб оттолкнуться!
Всякий эксперимент надо придумать, поставить и осмыслить. И этого не получится без готовой идеи, без размышления и плана.
– И что же это тогда за точка такая, которая вне науки?
Свобода. Её невозможно доказать, вычислить или ещё как-то обосновать. Свобода не подвластна рациональности, в неё можно только верить.
– Ну и точка! Выглядит словно она напрочь отсутствует!
В том-то и дело – это невозможно твёрдо знать, но все наши ощущения подтверждают – свобода присутствует в нашей жизни.
– Ну не знаю, ощущения, вера и прочие фантазии – это точно не философия!
Поэтому их надо осмыслить и сформулировать в виде конкретных тезисов для последующих размышлений. Это и будет исходная точка, и философия ищет именно её – то, откуда можно строить обьяснения. Поэтому философия опирается не на логику, а на интуицию, правдоподобие и "здравый смысл". Чем больше рассуждение похоже на правду, тем оно ближе к правде. И в этом, безусловно, важнейшую роль играют ясность и доступность философских текстов.
– Какое хлипкое основание! Сильно ли помог здравый смысл когда люди столкнулись с теорией относительности и квантовой механикой?
Логика помогла ещё меньше.
– А нельзя ли в обьяснении мира обойтись без свободы? Мне кажется, мир понятен и без неё!
Это иллюзия. Мир кажется понятным, потому что мы привыкли к тем обьяснениям, которые нам обьяснили. Но их явно недостаточно. Мир полон парадоксов и наука бессильна против них. Только философия способна указать на границы научного знания, а также на критерии его истинности. В частности, сейчас и учёные увлеклись академическими результатами, они даже сформулировали принцип "заткнись и вычисляй". Страдает престиж науки. Учёным тоже нужна свобода для творчества. Без неё, а значит и без философии помогающей с ней разобраться, науки быть не может.
– Вы преувеличиваете. Результаты учёных доказуемы!
Наука давно перешла границу очевидного и легко доказуемого. Да, методы науки рациональны, научные факты публичны, а значит её выводы можно при желании проверить самому. Именно на эту прозрачность исторически опирались убедительность, авторитет и моральная сила науки. Однако и обьёмы данных/знаний, и трудо/капиталоёмкость экспериментов, и теоретическая сложность доказательств давным давно таковы, что всё это стало недоступно одному человеку. Как всякое коллективное творчество наука должна опираться на этику, а значит моральное первенство должно вернуться к философии.
– Результаты науки внедряются в практику, мы все видим насколько лучше стала жизнь благодаря науке!
Да, там где перед учёными стоит конкретная практическая задача, успехи или неудачи сразу видно. Но наука не ограничивается практическими задачами. Самое важное – фундаментальные исследования и как раз там ситуация куда менее удовлетворительна. Вопросы имеются даже к классической физике, не говоря уже о квантовой механике, поставившей под сомнения самые базовые философские понятия. А последние физические теории, типа "струн", вообще похоже мало кто воспринимает всерьёз.
– Вот как? Но кто тогда поверит философии, если даже науке некоторые не верят?
"Кто" и "некоторые" – принципиально разные группы людей и подобные различия, к сожалению, неизбежны. Но если говорить о сути дела, то повторю: ясность, правдоподобие и другие способы обращения к разуму человека – единственный способ добиться доверия. Авторитетом и пропагандой его не добьёшься.
– Науку, обладающую практически бесконечным авторитетом пытается подмять под себя какая-то религия? Самим не смешно?
Философия не религия. Религия, как и "религиозная философия", обращается не к разуму, а к чувствам.
– В смысле?
Опора на бога – психологическая потребность, она не имеет разумного обьяснения. Соответственно, никаких рациональных выводов религия, в отличие от философии, предложить не способна. И если вы считаете истинную философию видом религии, а в науку верите из-за её авторитета – вы, вероятно, принадлежите не к той группе людей с которой есть смысл разговаривать. Подумайте об этом.
– Подумал. Непонятно.
Свободный человек опирается на разум, а не на авторитет, включая авторитет бога.
– А чем вера в свободу отличается от веры в бога?
Во-1-х, тем что мы ощущаем разницу: свобода – внутри нас, мы способны удостовериться в ней. Бог – вовне, мы можем только гадать о нём. Во-2-х, свобода даёт выбор, налагает личную ответственность, она – для сильных духом. Бог – для слабых, он наставляет, защищает и подчиняет. В-3-х, свобода доступна анализу, она может служить базой для моральных суждений. Бог – чистая фантазия, абсолютно неясно, какие суждения следуют из этой идеи, а потому идея бога должна обязательно сопровождаться "священными" текстами обьясняющими его волю. Отсюда вытекает в-4-х: религия всегда опирается на социальные структуры, обеспечивающие ей организационную, финансовую, психологическую и теоретическую (точнее индоктринальную и методологическую) поддержку. Философия обходится, точнее должна обходиться, текстами, желательно ясными и осмысленными.
– И тем не менее, я опираюсь на свой разум и настаиваю: всё лежащее вне науки – суеверие и мракобесие!
Вовсе нет. Мы все прекрасно понимаем, когда имеем дело с суевериями, а когда – с "ненаучной" частью мира.
– Что же это за ненаучная часть, если не суеверие? Опять свобода? Тогда обьясните, почему свобода не суеверие! Можно ли как-то убедительно обьяснить, что такое свобода?
Свобода – это чувство, ощущение своей личности, своего "я". Я – это и есть свобода: свобода мыслить, говорить и действовать. Разве этого мало?
– А может свобода лишь сон? Философия не может доказать существование даже обьективной реальности, не то что какой-то там свободы!
Может, почему нет. Но для начала надо принять аксиому. Она простая: вы существуете. Похоже на правду?
– Допустим.
Ну вот. А что такое "вы"? Это ваша свобода мыслить, говорить и действовать. Без перечисленного нет никакого "я".
– А вот и нет! Допустим думать я ещё могу свободно, но уже говорить – не всегда, а действовать – так вообще если дадут!
Вот видите? В этом всё дело.
– Какое дело?
Смотрите. Если собственная свобода, т.е. собственное "я", вполне очевидна и проявляется в самой способности мыслить и сомневаться, то свобода действовать – органическое продолжение свободы мыслить – наталкивается на препятствия. Откуда они берутся? От очевидного противодействия чего-то такого, что не является "я". Именно это противодействие, как правило более сильное чем воля человека, доказывает существование "не я", т.е. обьективного мира вне человека. Существование, по крайней мере, того же уровня реальности, что и существование самого "я". Вот так вера в собственную свободу автоматически продлевается в веру в обьективную реальность.
– Хм… А может "я" – это моё тело?
Вот оно-то и есть первая детерминированная реальность, ограничивающая свободу вашего "я", которое, заметьте, нематериально. Ведь даже когда вам никто не мешает, ваше тело не позволит вам многое из того, чего бы хотело "я".
– Но всё вокруг может быть сном! И мысли, и слова, и я, и вы…
А что если я сейчас вас ущипну? Разве это не послужит доказательством?
– Это не честно! Доказывать надо словами, логикой!
Кто вам сказал? Доказательство должно быть убедительным – только и всего. Логика способна убедить только некоторых. Другое дело реальность – она гораздо убедительнее.
– Но философия – это же слова!
Да, слова, но они опираются на реальность. Что толку говорить, если слова нельзя проверить? В конце концов, исходные положения философии невозможно доказать, они просто должны быть максимально правдоподобны.
– То есть критерий философской истины – некое "правдоподобие"?
Правдоподобие не берётся из воздуха, оно опирается на опыт и здравый смысл. Он же у вас есть? В конце концов, нет ни одного философа всерьёз придерживающегося позиции солипсизма, хотя с точки зрения логики она не хуже других. О чём-то это говорит?
– Ну хорошо, убедили. И что из всего этого следует?
Суть этого краткого рассуждения в том, что свобода так же реальна как и обьективный внешний мир.
– Но внешний мир – он понятен, а вот свобода… Можно ли как-то в ней удостовериться? Внутрь себя не заглянешь. Вдруг все мои мысли уже заранее заложены где-то в голове?
Тогда вы бы не спрашивали меня ни о чём! Именно свобода виновата в том, что мы сомневаемся, задаём вопросы и ищем на них ответы. Иначе мы жили бы как живут все те, в ком уже заложены все их мысли – животные. Или те, кого устраивают авторитетные обьяснения… но не будем о них.
– Я задаю вопросы, потому что вы попросили!
Неужели?
– Потому что мне любопытно!
Не обманывайте себя.
– Ну хорошо. Зачем я задаю вопросы?
Что бы познать мир и стать свободнее. Нельзя же бесконечно сомневаться! Общение с другими, вопросы и обсуждение – единственный способ добраться до истины. Поэтому у нас и получается такая форма общения – диалог, как в старые добрые времена. Сама философия возникла из дискуссий, она – продукт общего разума, а не следствие наблюдений, анализа и натуралистических экспериментов. "Знание о свободе" начинается с сомнения, а продолжается в вопросах.
– Что толку в моих сомнениях? Кто я такой?! Иное дело наука! Учёные специально во всём разбираются, они умные!
Нельзя перекладывать на других заботу о собственной свободе. Задавая вопросы и размышляя над ними, человек формирует себя, наполняет свой разум смыслом, а затем осмысленно действует. Но если нет свободы, зачем его познавать? Ведь мы не сможем ничего изменить!
– Но от науки есть практическая польза, она улучшает жизнь, и никакая свобода тут ни при чём!
Наука улучшает жизнь только тех, кто может воспользоваться её результатами. Наука не в состоянии сделать свободными всех, да это и не её задача. Для этого нужно общее участие, поскольку это вопрос свободы. Философия – общее дело.
– Ещё как способна! Социальные науки заняты именно этим – организуют общество так, чтобы всем было хорошо!
Социальная наука имеет дело с человеком, а значит должна опираться непосредственно на философию. Иначе она превратится в идеологию, не имеющую ничего общего с истиной. Как, к сожалению, и происходит.
– Не верю. Приведите пример.
Одна наука обьявила человека рациональным эгоистом, озабоченным только выгодой. Другая обьявила его развитым животным, вид "гомо-сапиенс". И та, и другая пытаются с этих позиций обьяснить происходящее в её предметной области. Или, скорее, подтвердить этим господствующие идеологические установки.
– Значит так и есть. Я верю науке, мы – эгоисты и развитые животные!
Не стоит кривить душой. Философия требует полной искренности. Только тогда она будет способна не только убедить доверять науке, но и сделать саму науку более правдоподобной.
– По-моему, наука всё же в целом вполне правдоподобна.
Для начала наука должна признать, что она бессильна против свободы, и что люди – хоть они и произошли от животных – свободны задавать вопросы, думать и действовать, в результате чего они могут отказаться быть животными или эгоистами.
– Но все наши потребности, включая любопытство, эгоизм и социальные инстинкты, заложены природой и имеют научное обьяснение! Потому и результат вопросов ничего не меняет!
Вы пытаетесь отрицать собственную свободу. Будьте честны. Наука не способна обьяснить даже саму себя, не говоря уже о том, чтобы обьяснить свободу. Животные, даже самые развитые, не задают вопросов – они и так знают всё, что им надо знать. Если человек ищет истину – он свободен.
– А разве животные не любопытны? Разве они не способны учиться?
В отличие от человека, всё их любопытство и все их способности к обучению запрограммированны природой. Их действия ограниченны заданными целями – выживанием.
– А человек не выживает?
Не всегда. Человек, как известно, способен жертвовать собой ради высшей цели и в этом одно из проявлений его свободы.
– Откуда же берётся у человека свобода, если все наши действия тоже заданы заранее – биологией, воспитанием, влиянием внешних обстоятельств?
Как материальный и биологический обьект, человек подвержен обьективным законам, но поскольку свобода – такое же обьективное свойство человека, он способен иметь своё уникальное мнение и потом действовать в соответствии с ним, зачастую противясь любым законам.
– Неубедительно как-то. Нигде вокруг свободы нет, а у человека есть?!
Почему нет? Очевидно, что если у человека есть свобода, она – реальное свойство мироздания. Именно от него свобода "проникла" в человека.
– Но тогда, если свобода есть в природе, всё в ней, включая животных, точно так же свободно как человек!
Не так же. Свобода, вложенная в животных, очень ограничена. Но при этом они всё же свободней мертвых тел.
– Свободней? Докажите!
Не могу. Свобода не поддаётся формализации. И тем не менее, согласитесь с очевидным. Живая материя свободнее косной, а человек – свободнее животных. В отличие от остального живого мира, он сознательно стремится к свободе, поскольку понимает и принимает её. Ради этого он думает, переосмысливая заложенные в него истины и переоценивая ценности, а затем обсуждает свои выводы с другими – как мы сейчас.
– И что из того?
Поиск истины меняет человека, делает его лучше, создаёт его уникальную личность. В этом заключается личная свобода – в реализации собственного "я". Это трудно и не всем даётся, поскольку склонность рассудка коллекционировать всевозможные общепринятые и авторитетные знания эволюционно выгодна для выживания. Именно способность постоянно ставить их под сомнение, т.е. задавать вопросы и искать ответы, является признаком разума. Так и получаются наука с философией. Ваши вопросы показывают, что вас не устраивают привычные обьяснения – значит вы хотите быть свободным.
– А если я не верю в свободу?
Поверьте, только свободное существо может задавать осмысленные вопросы.
– Компьютер тоже может задавать вопросы! Точно так же и человек – он запрограммирован природой!
У компьютера нет свободной цели, ему не нужна истина и это сразу видно по его "вопросам". Если человек запрограммирован – с ним нет смысла обьясняться. Он ничего не поймёт и не изменится – как и компьютер он аморален. Если вы считаете, что вы робот, компьютер или развитое животное, а всё что вы делаете – включая ваши вопросы – уже заложено в вас заранее, нам просто не о чем говорить. Решайте.
– Демагогия! Что если мы оба просто следуем нашим программам?
Я знаю, что я не следую, и если вы робот – я просто не буду продолжать. Это будет мой свободный выбор, поверьте.
– Ну ладно, верю, давайте продолжим. Поглядим, что вы ещё выдумаете.
Поздравляю! Вы только что признали правдоподобие предыдущих обьяснений и реальность свободы. Задавайте вопросы дальше.
Пространство, время, развитие
– Ну хорошо. Откуда взялся мир?
Отличный вопрос. Он отражает наше понимание мира как процесса.
– Что значит процесса?
Это значит, что мир всё время меняется. В нём нет ничего неподвижного, стабильного, постоянного. Откуда бы мир не взялся – до него было что-то иное.
– А что было до него?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять как и почему меняется мир.
– Юлите? Ну и почему он меняется?
Потому что у процесса есть некая "движущая сила" – то, что заставляет мир двигаться, некая первопричина.
– И это конечно свобода?
Конечно. Свобода движит не только человеком, но и всем вокруг.
– Чушь! Даже если она и движит некоторыми особо умными, не факт, что она движит чем-то ещё!
А что же по вашему заставляет двигаться мир?
– Не знаю. Вы взялись, вы и обьясняйте.
Я пытаюсь. Задавайте лучше вопросы.
– Ладно. Как мир меняется?
Как и всякий процесс, бытиё мира имеет направление, иначе мы бы не могли говорить об изменении.
– Каково же направление?
От того что было, к тому чего не было. От старого к новому.
– А разве нельзя меняться без направления, по кругу? Возвращаться назад, к тому, что уже было?
Нельзя, потому что тогда вместо процесса был бы цикл.
– А разве это не так? Ничто не ново под Луною! Всё, что появляется, рано или поздно исчезает! Все мы умрём!
Умрём – но вместо нас появится то, чего ещё не было. Например, наши могилы.
– Но мы-то исчезнем!
Кроме могил, появятся дети и внуки, а главное – новые идеи. Подумайте над вопросом: если бы "под Луною" не было ничего нового, Вселенная была бы полна других цивилизаций, а где они?
– Где? Под Луной их нет!
Вот именно. Их нет или, вероятно, мы до них пока не добрались. Единственное разумное обьяснение: мы – одни из первых по крайней мере в обозримой части Вселенной. Что доказывает факт однонаправленного процесса. Вселенная слишком молода, у неё не было времени создать достаточно собратьев по разуму.
– А если Вселенная пульсирует? То развивается, то схлопывается?
Это не решает проблемы повторения.
– А может мы просто особенные?
Это несерьёзно. Короче, несмотря на то, что всё вокруг явно циклично, эти циклы в сущности спираль: на смену старого всегда приходит то, чего не было. В рождении нового выявляется смысл процесса – развитие, усложнение мироздания, его качественное изменение. И оно тоже бесконечно.
– И в чём смысл бесконечного усложнения?
А в чём смысл тупого количественного роста? Создание нового куда привлекательней – в том числе самому мирозданию. Полагаю, не будет развития, не будет и мироздания. Это такой способ его бытия – а точнее того, что его создаёт.
– Свободы?
Именно.
– Ну а сам мир? Он появился или был всегда?
Нечто существовало всегда, если предположить, что само "всегда" – тоже существовало всегда.
– Ну и что же это за "нечто", что существовало "всегда"?
Это, скажем так, Ничто.
– О, так я и думал…
Если есть направление, оно указывает что было раньше и что будет потом. А поскольку направление – "от небытия к бытию", что было раньше – Ничто, а что будет в конце – Всё. Видите как просто?
– И как этот бред можно вообразить?
К сожалению никак. Ни Ничто, ни Всё не существуют сами по себе. Возьмем Ничто. Ничто – это уже отрицание самого себя, ведь само "ничто" существует. Аналогично, Всё – это тоже отрицание самого себя, ведь "всё" должно включать в себя и "ничто". Так, Ничто и Всё парадоксальны и непостижимы разумом, а значит правдоподобно считать, что мир есть однонаправленный процесс без начала и конца. Ничто и Всё существуют лишь как составляющие его направления, а свобода – как его первопричина.
– В общем, одна болтовня.
Если спрашиваете "откуда взялся мир" – будьте готовы к самым странным построениям.
– Ну а как выглядит "процесс"?
Мы не можем мысленно идти вперёд, поэтому давайте пойдём назад. Если идти назад, мы увидим всё более простой и примитивный мир, в котором постепенно исчезает всё вокруг. Ну и поскольку так идти можно бесконечно, эта "примитивность" так же бесконечно сложна.
– Если рано или поздно исчезает всё, значит остается одно пустое пространство?
Пространство скорее всего тоже "свернется". Пустого пространства вероятно быть не может. Кроме того, пространство – это "что-то", а значит оно тоже должно было когда-то появиться.
– Но куда же оно свернется? Что останется вместо него?
Это "что-то" можно представить себе как бесконечно малую точку. По мере того, как в этом пространстве появляется новое, оно становится больше. Но больше не в смысле большего пространства, поскольку неясно с чем его сравнивать, а в смысле его "уплотнения" – больше нового, того что существует.
– Но тогда точкой где?!
Да неважно. Главное, что все эти соображения не имеют практического значения и являются только мысленными конструкциями.
– В чём тогда их смысл?
Только в том, что мы можем их мыслить. Это доказывает нашу способность соображать, пусть и довольно бестолковую.
– Тогда если идти вперёд, то получится расширение Вселенной?
По аналогии с вашим вопросом спрошу – расширении куда? Возможно, "расширение" – лишь иллюзия: чем ближе мы захотим подобраться к краю пространства, тем скорее оно от нас убежит. Появление нового "расширяет" пространство, но опять таки не в смысле пространства как такового, а в смысле существования того, чего ещё не было. Ведь измерять пространство можно только отталкиваясь от того, что оно содержит, не так ли? Пространство становится более ёмким.
– И так до бесконечности?
Очевидно. Бесконечно малое и бесконечно большое – это всё та же непостижимость движения от "ничего" ко "всему".
– Но учёные подсчитали размер и массу Вселенной! Наша Вселенная конечна!
И что там за краем? Другая Вселенная?
– Края нет. Вселенная замкнута сама на себя!
Если Вселенная конечна, у неё есть конец. А значит есть и продолжение за концом.
– Вы не понимаете. Пространство – часть чего-то многомерного: оно "криво" в следующем измерении и благодаря этому замыкается на себя. То есть за концом нет ничего.
Если бы пространство имело четвёртое и более измерения, наш мир выглядел бы совсем иначе. Начнём с того, что параллельно нашему миру, в другом измерении, существовали бы другие миры и материя постоянно "путешествовала" бы между ними. Мы бы видели странные вещи – например, что предметы то появляются, то исчезают без всякой видимой причины, примерно так, как появляются контуры движущейся трехмерной фигуры в её неподвижном двумерном сечении. Однако мы напротив, видим, что массы, импульсы движения обьектов и некоторые другие характеристики строго сохраняется, а если и исчезают – мы знаем куда. Наше пространство вполне "самодостаточно", несмотря на то, что оно всё ещё полно загадок. Учёные пользуются большими размерностями лишь для удобства моделирования.
– Есть мнение, что спутанные частицы – на самом деле проекции чего-то единого, существующего в другом измерении.
Если "спутанность" действительно существует, имеющегося пространства должно быть достаточно. Мы же до сих пор не знаем чем оно наполненно, так?
– Бесконечность плохо укладывается в голове…
Да, в этом главная проблема разума, мешающая нам вообразить мир во всей его полноте. Но есть и хорошая новость – процесс познания бесконечен как и все прочие процессы, а значит есть смысл соображать дальше – процесс даёт результат.
– Каким образом он его даёт?
Процесс всегда предполагает новое, в данном случае новое знание.
– Если мы не можем осмыслить бесконечность, мы никогда не поймём, откуда взялся мир и куда он идёт!
Не поймём до конца, но поймём достаточно. Говоря иначе, окончательная истина может быть и недостижима, но достижима промежуточная и этот факт придаёт смысл поиску.
– Но почему же мы не можем осмыслить бесконечность и узнать окончательную истину?
Потому что свобода непознаваема, а в основе мироздания – а также истины – лежит именно она. Бесконечность – её "фирменный знак".
– Мир непознаваем потому что непознаваем. Действительно, очень понятно!
Не надо иронизировать. Помимо свободы есть детерминизм и он отлично познаваем. Это именно из-за него нам всё время хочется увидеть какие-то границы, какую-то конечность, какие-то начало и конец. Мир постоянно меняется, движется, но не всякое изменение предполагает новое. Если движение происходит по кругу – оно предсказуемо. Значит детерминированный мир имел бы границы и был замкнутым. Но благодаря свободе движение не повторяется, а границы исчезают – бесконечность процесса неотделима от свободы.
– Если всё меняется, как возможен детерминизм?
Если есть изменения, должно быть и нечто постоянное. Новое возможно только по отношению к старому.
– А время тоже меняется?
Хороший вопрос. Чем меньше всего существует в мире, тем медленнее время. Если нет ничего – нет и времени. Но по мере появления нового, в мире происходит всё больше изменений. Значит и время тоже течёт быстрее, ведь время не существует "само по себе" – это лишь отражение изменений, причём что важно – необратимых.
– Если раньше время текло медленнее, значит когда-то оно вообще "стояло"? Например, произошёл Большой Взрыв и началось время?
Нелепо всерьёз считать, что время началось в какой-то момент времени. Можно принять гипотезу Большого Взрыва, но со следующим важным дополнением: чем ближе к "взрыву", тем медленнее текло время и достичь его – даже мысленно – мы не можем, примерно как материальное тело не может достичь скорости света. Соответственно, мы не можем знать как давно был этот "взрыв", поскольку сами единицы времени непостоянны.
– Почему же они непостоянны?
О каком времени можно говорить, если тогда не было даже атомных часов?
– Но физические константы и правила математики не меняются! Пусть они и появились позже, почему нельзя их применять ретроспективно?
И много мы можем понять применяя их таким образом? Они не могут обьяснить собственное появление, а это – именно то, чего нам в конечном итоге хотелось бы. Кроме того, что мешает константам меняться? Точнее меняться асинхронно – чтобы эти изменения было можно заметить?
– Но они же фундаментальные?! На них основано всё!
Нет ничего фундаментального кроме свободы.
– Ну и ну… Значит, если я правильно понял, мы не можем сказать, что сколько-то там миллиардов лет назад было "начало"?
Да, это условность. Если мы вообразим движение назад во времени, то до "начала" (взрыва или чего-то ещё) было бы всё равно бесконечно далеко. Край времени похож в этом смысле на край пространства.
– И по аналогии можно сказать, что тогда не было и единиц длины, а значит и пространства?
Сингулярность Большого Взрыва означает бесконечные плотность и температуру в бесконечно малой точке. Но что было на "самом деле" более элегантно описывается словом "ничто". Для процесса нужен лишь бесконечно далекий первоначальный толчок, чистая энергия для дальнейшего развития – Ничто потенциально содержащее в себе Всё. Вот и всё "начало", другого мы вряд ли получим. В любом случае это не наука, а философия.
– А может ли время течь назад? Вдруг до Большого Взрыва оно на самом деле текло обратно?
Не знаю насчёт зеркального отражения времени, но в нашей Вселенной такого точно не может быть.
– Но если Вселенная перестанет расширяться и начнёт сжиматься, времени придётся течь назад!
"Назад" означает, что новое должно исчезнуть, а весь мир оказаться в точности таким же как он был раньше. Если бы не было направления процесса, так бы оно и было – всё бы повторялось. Но возврата назад быть не может, иначе не было бы самого времени.
– Почему? Почему нельзя представить себе, что люди вымрут, Земля распадётся, а всё вернётся в исходную точку? И опять возникнет Ничто!
Хотя вообразить такое возможно, весь наш коллективный опыт пока говорит только об одном – что, хотя процессы распада безусловно существуют, время движется только вперёд. Происходящие изменения необратимы, не может в точности повториться то, что уже было. Как бы существующее вокруг не распадалось, как бы оно не исчезало – его конфигурация оказывается отлична от того, что было раньше. Хоть что-то будет иначе. А значит время никогда не возвращается назад. Процесс идёт.
– И всё же движение от "Ничто к Всё" не слишком вдохновляет. Болтология какая-то, а не обьяснение.
Тогда предлагаю такую интерпретацию Ничего и Всего: первое – детерминизм, второе – свобода.
– Час от часу не легче!
Чем характерно Большое Начало? Тем, что от него некуда деться, кроме как двигаться вперёд. Это же в конце концов первый толчок? Ничто – это полная, крайняя необходимость. Но чем дальше идёт процесс, тем больше возможностей, вариантов движения и развития, больше всего. А чем больше всего, тем больше свободы, разве нет? Ну и если свобода управляет процессом движения мироздания, логично предположить, что она ведёт его куда ей надо, а значит в конце процесса находится именно она. Так появляется смысл движения – свобода порождает новые сущности, наполняя мир новым содержанием, которое, очевидно, берётся из самой свободы! Свобода творит себя, творя мир.
– Поэтично, но не слишком убедительно!
Почему нет? Процесс есть? Есть. Изменения есть? Есть. Время есть? Есть. Если бы Вселенная была статична или пульсировала, в ней всё повторялось – ведь физические законы везде одни и те же. Можем ли мы себе вообразить бесконечное количество наших копий, нашего этого диалога, бесконечное количество любых вариантов нашего прошлого и будущего? Это слишком неправдоподобно, это явно противоречит нашей свободе мыслить и действовать, свободе творить будущее как нам хочется. Получается, что такая "неполноценная" бесконечность формы Вселенной приходит в противоречие с бесконечностью её содержания, её разнообразия. Наша свобода требует "полноценной" бесконечности, бесконечности во всём, и развитие от "ничего ко всему" – единственное возможное решение. Именно отсюда вытекают наши рассуждения, пусть они и кажутся на первый взгляд нелепыми. И, кстати, что это говорит нам о свободе? Что её "существование" внутри нас ведёт к её "существованию" вне нас: в развитии проявляется та же самая свобода творчества, только на этот раз "творчества" мироздания. Это именно свобода не повторяется, это именно она движит процессом, она – его творческая сила!
– Ну насчёт повторения не знаю… Мы, например, уже явно повторяемся.
Верный знак, что беседу пора завершать.
Детерминизм, материя, движение, сила
– Постойте, но мы так ничего и не выяснили! Например, если всё меняется, то как можно что-то знать? Откуда тогда берётся наука?
Потому что несмотря на изменения, есть и что-то постоянное – новое становится старым и его можно изучать.
– А старое разве не меняется? Всё вокруг постоянно движется!
Да, процесс таков, что ничто не стоит на месте, процесс глобален – он как бы распадается на множество процессов. И новое, и старое – это тоже процессы.
– И мы, и наши могилы – это процессы?!
Конечно. А разве нет?
– Ну и как же тогда изучать мир?
Есть изменения, или процессы, которые можно считать повторяющимися, а есть – одноразовыми.
– И что?
Для того, чтобы понять мир, надо прежде всего понять что такое "понять". Для этого надо посмотреть на сам процесс мышления. В процессе мышления мы тоже различаем мысли (и вызывающие их явления), которые повторяются, и мысли (и явления), которые не повторяются. В частности, сами наши логические выводы получаются в результате повторения, включая рекурсию, нескольких типов мыслительных приёмов. Эта способность запоминать прошлое и различать повторения – а также повторять действия – ключевое свойство нашего рассудка. Кстати, способность моментально различать циклические и нециклические процессы хорошо видна в феномене музыки. Мы не только "слышим" музыку – нам нравится оригинальная музыка и не нравится банальная. Вообще, музыка – это своего рода упражнение в чередовании повторения и изменения, начиная от гармонических колебаний, до фраз мелодии, до структуры композиции, до различения старого и нового!
– Музыка это замечательно, согласен, но не отвлеклись ли мы? Как это относится к науке?
Чем больше мы повторяем что-то, тем лучше понимаем, а если ещё опишем формулой – наше понимание достигнет просто удивительных высот.
– Почему это?
Обобщение – дорога к знаниям. Мы познаём мир обобщая результаты наблюдений, это называется "индукцией". Выделяя повторяющееся мы угадываем будущее, а предполагая будущее мы можем ставить эксперименты и проверять наши знания. Если оказалось, что наша гипотеза о будущем, а тем более выраженная в строгом математическом виде, оказывается всегда верна, мы говорим что "знаем". Мы например знаем, что если бросить камень в окно, оно разобьётся. Всякое такое знание опирается на иное подобное знание и только в самом конце цепочки мы опираемся на чувства и ощущения. Так, мы знаем, что камень тяжёлый, а стекло хрупкое. Почему? Мы много раз поднимали камень и разбивали стекло. Связать одно знание с другим – камень и стекло – это и есть понимание, и иного понимания у нас нет и быть не может.
– Странно, я стёкла не бил, но понимаю… Ну хорошо, значит повторения достаточно, чтобы знать будущее?!
К сожалению, только частично, ведь чтобы увидеть и запомнить повторение, надо долго наблюдать, а наше время – и личное, и коллективное – ограничено. Строго говоря, что бы достоверно знать будущее, надо было наблюдать бесконечно, с самого начала.
– Нет, понимание это не только знание будущего. Важно, например, понимать чужие слова. А я вот сейчас не очень понимаю – как смысл слов связан с повторением?
Это потому, что мы мало повторяем. Понимание – это всегда соотнесение с прошлым, с повторенным, вписывание в имеющуюся картину мира. Так, понимание слов – узнавание в них знакомого смысла: вспоминание привязки к ощущениям или к другим словам. Поэтому давайте повторим. Наше понимание мира вытекает из распознавания повторяющихся процессов. Повторение имеет интересные последствия: если мы можем выделять повторение, мы начинаем замечать и такое свойство окружающего мира, как ограниченность – повторяться может "что-то", и это "что-то" отделяется от "остального". Возникает понятие предела, границы. Отсюда, в свою очередь, вытекают свойства однообразия, подобия – многократное повторение выделенное в пространстве формирует обьекты, их множества, так возникает концепция класса обьектов. Отсюда, в свою очередь, вытекают такие свойства как взаимозависимость, взаимодействие, отношение, относительность – ведь наши обьекты теснятся в уже ограниченном пространстве, они начинают взаимодействовать, сравниваться друг с другом, отличаться друг от друга. Повторение во времени сочетаемое с повторением в пространстве приводит к изменениям, переходам между множествами, откуда, наконец, вытекает причинность и сила (или сила причины).
– Сейчас я понимаю ещё меньше. Вот есть чёрное и белое, есть граница между ними. Я её просто вижу. При чём тут повторение?
Чтобы заметить чёрное и белое, нужен процесс – перевести глаза например. Но перевести глаза мало. Заметить разницу между чёрным и белым можно только если иметь память, а память возникает из потребности – и способности – повторять. Поэтому самая первая способность видеть чёрное и белое появилась когда процесс "движения глаз" начал повторяться. Но к нам с вами это не относится – момент появления нашей памяти сокрыт в глубине веков.
– Получается, из повторения вытекает всё?
Почти. Если назвать комплекс свойств вытекающих из повторения "детерминизмом" (или явлением "детерминизма"), то явление вытекающее из неповторения остаётся назвать… угадайте!
– Да что тут угадывать!
Да. Свобода проявляется в противоположном комплексе свойств, и следовательно, заменяет ограниченность бесконечностью, однообразие и подобие – разнообразием и уникальностью, взаимозависимость и взаимодействие – независимостью, относительность – абсолютом, причинность и силу – их отсутствием.
– Но почему именно она?
Мы ж говорили – время не повторяется. Соответственно, всё связанное с неповторением – уникальность, разнообразие и т.д. – проявления свободы. Антипод свободы, очевидно, полная повторяемость.
– А ясно… поэтому свобода непознаваема?
А как можно познать то, что не повторяется?
– Но материальный мир тоже непознаваем! Невозможно не только полное знание всех деталей мироздания, но даже конкретных характеристик одной единственной микрочастицы – вспомните принцип неопределённости!
И тем не менее, он не мешает нам исследовать микромир и выявлять его закономерности. В мироздании много такого, чего мы не понимаем и во что даже трудно поверить – скажем, спутанность и корпускулярно-волновой дуализм – но и это можно использовать, если оно повторяется и может быть математически описано. В этом смысл детерминизма.
– А разве детерминизм – это не причинность, не полная предопределённость будущего?
Да, обычно детерминизм так и определяют, но это слишком узкое определение. Во-1-х, причинность – сложное понятие, оно может включать и целесообразность, а во-2-х, предопределённость никогда не бывает 100%-ой. Тем не менее, даже смутно предполагемое, вероятностное будущее вполне может быть детерминированным. Наше определение полнее, ведь всякая предопределённость проявляется именно в повторении. Как иначе узнать что будет? Только угадывая в будущем прошлое. Это свобода делает будущее неопределённым.
– Но тогда детерминизм – субьективная концепция! Ведь кто-то угадывает, а кто-то нет!
Угадывает или нет – неважно, даже если никто не угадывает, повторяемость имеется. Как бы то ни было, "предопределённость" предполагает "знание" о будущем. А "знание" означает, что некое видение будущего уже существует – но это и значит, что будущее уже как-то проявилось в прошлом, что будущее повторит нечто из прошлого.
– Значит, по-простому, в повторении проявляется детерминизм, а в неповторении – свобода?
Да. Можно сказать, что новое, как выход за пределы повторяемости – качественная (в противоположность количественной) бесконечность, бесконечность разнообразия. Рождение нового приводит к бесконечному движению, потому что частный случай повторения – неподвижность. Порождение нового, время и свобода связаны напрямую.
– Что реально, на практике даёт нам понимание всех этих абстракций?
Нетрудно видеть, что те изменения, которые повторяются, как раз и выражают сущность чего-либо, сущность того, что стоит за этими повторениями – как например, "мы и наши могилы". Наблюдая повторения, мы можем понять эту сущность, описать её и получить то, что мы называем "закон природы". Одноразовые изменения наблюдать невозможно, потому что само наблюдение требует повторения. Одноразовый процесс порождает новое и этим задаёт течение времени, делая невозможным возврат назад. В свою очередь, новое, раз появившись, вполне может начать повторяться, оказаться замеченным и быть описанным законом. Тогда этот новый закон будет описывать поведение новой (т.е. уже старой) сущности.
– Но закон природы не выражает поведение "сущности"! Он описывает причинно-следственные связи!
Да, но всякая сущность проявляется именно в постоянстве, а значит в повторении. Само существование – не что иное как повторение самого себя, своих проявлений во всевозможных взаимодействиях. Описывая причинно-следственную связь, мы фактически описываем природу, или характер, сущности.
– А разве сущность не может постоянно меняться?
Все сущности меняются, но в отличие от свободы, они меняются "по кругу" – т.е. их проявления повторяются. Единственная сущность, которая никогда не повторяется – свобода, а потому мы её не понимаем. Остальные сущности мы наблюдаем вокруг себя и можем их по мере сил понимать.
– И что же мы понимаем? Какова, например, природа этих сущностей?
Мы не знаем в точности. Всё что мы знаем из нашего наблюдения – закономерности в их поведении. Собственно, вся проблема познания лежит в способе, каким мы познаём мир. Мы распознаём обьекты (сущности) только тогда, когда они стабильны – повторяются демонстрируя одни и те же свойства и характеристики. Но повторения не происходят сами по себе, поскольку сущности проявляются только во взаимодействии с другими сущностями. Скажем, электрон ведёт себя как частица или волна в зависимости от типа взаимодействия – мы не можем сказать, какой он "на самом деле", но всегда знаем что это именно он. Иными словами, любые повторения оказываются вписаны в другие повторения – мы фиксируем повторения как причинно-следственные связи. Эти связи – всё, что мы можем узнать о сущностях. Мы не можем понять те повторения, которые не вписываются в другие. И, очевидно, в случае свободы, эта ситуация обостряется до крайности – свобода не укладывается в способ каким мы познаём мир.
– Уточните, откуда берутся сущности…
Мы не можем знать, откуда берутся сущности, потому что они рождаются как нечто "новое". Весь мир когда-то появился как новое. Всё, что можно сказать – их делает свобода.
– Типа из ничего?
С одной стороны – да, но с другой – нет, потому что Ничто не существует и не существовало. Это абстракция.
– Но что же тогда существует?
Существуют сущности, а точнее то, из чего они все состоят.
– Из чего же?
Это ещё одна абстракция, мы называем её "материей". Материя – основа всего детерминированного, сокрытого от нас в реальном мире. В некотором роде, материя – носитель детерминизма, мы могли бы сказать "экзистенциальный, онтологический антипод свободы", если бы свобода существовала как обьект, имела некую осязаемую основу. Если свобода создаёт нечто, то материя "наполняет" собой "форму" заданную свободой, и характер её проявлений – т.е. всевозможные повторения – всё, что мы о ней знаем и вероятно всё, что мы о ней можем узнать.
– Значит существуют только материя и свобода?
Я бы предложил такую модель. Мироздание "состоит" из фиксированного "запаса" материи, которая постоянно движется, причём "запас" этого движения тоже фиксирован (хотя и, возможно, бесконечен). Движение – это изменение материи. Материя без движения не существует, поскольку тогда она никак не проявляется. Движение без материи, очевидно, тоже. Материя символизирует собой постоянство, детерминизм, а движение – изменчивость, свободу. Это своего рода два начала мироздания, а их сочетание – то, что создаёт процесс развития.
– Не поясните каким образом это происходит?
Вообразим опять самое начало процесса. Предположим у нас есть некий бесформенный "кусок" материи, который "движется". Не спрашивайте как он выглядит, где находится и как движется. Пусть это будет вращающийся шар и кроме него нет ничего. Шар – это постоянство, его вращение – это изменение, но из-за того, что вращение постоянно, изменения фактически нет. Свобода должна придумать нечто новое. Допустим она создает структуру в шаре – ядро и оболочку, или делит его на половинки. Теперь у нас есть две сущности и они должны взаимодействовать. Взаимодействие порождает изменения в характере движения, однако каким бы сложным оно не было, через какое-то время оно будет повторяться. Тогда свобода создаст ещё что-нибудь – и всё опять усложнится. Обратите внимание, что материя, несмотря на свой консерватизм, вынуждена меняться, но каждая материальная сущность меняется одним и тем же образом, в этом смысл детерминизма. Если же она не повторяется, значит её заставляет это делать другая сущность, более сильная.
– То есть свобода делит материю на всё более мелкие кусочки? А есть самая маленькая сущность?
Это лишь модель, Вселенная бесконечна и глубь, и в ширь. Отсюда кстати видно почему нет пустого пространства. Если бы существовали самые "маленькие" сущности, дискреты, между ними обнаружилась бы пустота.
– Но если так, нет ничего – ни сущностей, ни движения!
В смысле? Парадокс непрерывности?
– Да, между сущностями бесконечное количество неотличимых друг от друга точек. Никакое различие и изменение невозможно.
Это лишь доказывает, что все попытки придумать конечную модель бесконечной реальности бесперспективны, так что давайте остановимся на том, что наиболее правдоподобно.