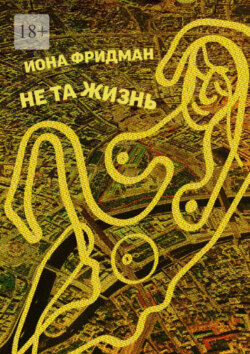Читать книгу Не та жизнь - Иона Фридман - Страница 4
НЕ ТА ЖИЗНЬ
2. Семья
ОглавлениеЯ родился в 37-м, в «год кометы», когда люди дрожали по ночам, ожидая непрошеных гостей. Но моих родителей это не касалось, они были молоды. Мама долго выглядела молодо, у нее и в 70 не было седых волос. Когда я, в 15, выглядел почти взрослым, а она, в 35, немного старше меня, нас принимали за пару. Какая-то гостья, глядя на мое фото с дочерью в Йосемити в 2002-м, тоже спросила: кто эта пара? Я начал седеть со сменой тысячелетий, и быстро маму обогнал. Перед смертью, уже близясь к ста, седые (вернее смешанные, «salt—and—pepper») пряди были свидетельством того, что она никогда не красилась.
Поколения: я с мамой. 1952 и с дочерью, 2002
Отец работал на жутком химическом заводе в жутком городе, тогда он назывался Сталиногорск, куда его «распределили» после института. Этот город, обязанный заводу своим рождением, был как бы специально расположен так, чтобы загадить исток Дона и близлежащую Толстовскую Ясную Поляну. Я туда тоже угодил на месяц с институтской практикой, и заводская библиотекарша меня там «узнала». Это был жуткий месяц. Моя любовь, тоже там, на меня и не смотрела.
Мама уехала рожать в Москву, к папиным родителям, чтобы у меня в паспорте не было такого гнусного места рождения. Дед и бабка жили в Хамовниках в комнате шестнадцати квадратных метров на пятом этаже без лифта, где и вся наша семья с младшей сестрой будет ютиться еще через четверть века; впрочем, лифт к тому времени пристроят. Это было по тем временам еще не так плохо, была только одна соседская семья, и была ванная, не знаю, как до войны, a после войны я её нашел захламленной, но в конце концов в ней стало можно мыться. В те времена было принято ходить в общественную баню раз в неделю. Кирпичный дом был кооперативом, когда его построили в 30-х, и дед говорил, что его обманули, он должен был получить всю квартиру.
Дед, может быть, был в семье единственным, кто мог бояться ночного стука в дверь. Он был членом партии с 20-х годов и каким-то мелким функционером, не знаю каким, до войны, а после войны до пенсии – директором ремесленного училища при фабрике «Парижская Коммуна», выпускавшей обувь, на которую сейчас никто бы не посмотрел, не то, чтобы обул. Я несправедливо представил его в качестве «Профдеда» в вышеупомянутой повести, «колбасе», но, в конце концов, это же фантастика. Я и Москву там изобразил не совсем такой, какой она была в 74-м, но оказался провидцем, так как храм Христа Спасителя действительно поднялся, подобно граду Китежу, из вод плавательного бассейна, как там изображено. Одна деталь насчет деда в «колбасе» совершенно правдива: он действительно в свое время убежал в Харбин от призыва в царскую армию, и я, т. е. мой герой, чуть не послал ему, с риском для жизни (вдруг не рожусь!), как там сказано, «телепатограмму», чтоб валил дальше на восток.
Маминых родителей я так и не увидел. Мне кажется, что у меня осталась в памяти как бы фотография, как я двухлетний иду с бабушкой за ручку. Летом 41-го мы снова собирались к ним, в Клинцы, возле стыка границ России, Украины, и Беларуси. Эта местность будет непропорционально заражена осадками Чернобыльской катастрофы, возможно, из-за того, что власти засевали облака, дабы радиоактивный дождь не дошел до Москвы. Но в тот год была еще худшая напасть. Отец должен был защищать кандидатскую 19-го июня; если помните, война началась 22-го. Он хотел отложить защиту на осень, чтобы мы спокойно поехали отдыхать, как собирались, но мама ему не дала. Это, конечно, спасло ему жизнь: со степенью и, к тому же, занимаясь чем-то, что считалось важным, он получил броню, а так бы, попав на войну в этот жуткий год, он погиб бы при первой же возможности, он был приспособлен к таким делам не лучше меня. Ему еще раз повезло, когда они с товарищем разрабатывали какую-то особую гранату. На испытаниях товарищ ему сказал: ну, давай я её брошу, а то ты не умеешь. Бросил, и ему оторвало руку.
Неясно, как это повлияло бы на судьбу маминых родителей. Клинцы не так уж близки к границе, мама наверняка бы позаботилась вывезти нас всех. Дед не терпел советскую власть. Он помнил, что время немецкой оккупации в конце первой мировой, когда большевики отдали немцам по Брестскому миру огромные территории, было единственным спокойным временем после революции, и считал, что сообщения о зверствах немцев – это советская пропаганда. Бабушка даже приехала в июле в Москву – и уехала обратно. Мама до последних дней не могла себе простить, что дала ей уехать. Опять-таки, она отказалась, когда дед ей предложил купить дачу под Москвой, это тоже могло бы спасти её родителей. Но они с папой были тогда советской молодежью, им собственность была ни к чему. После войны она продала два дома в Клинцах, как раз подгадав перед денежной реформой, когда наличные удешевили в десять раз. Это потом она стала единственной в семье, включая её сестру и выжившего брата, кто мог сделать что-то практическое.
Слева: мамины братья (старший в центре) и сестра. Справа: мама в 14 лет и бабушка
На территории СССР немцы не утруждали себя перевозками в какой-нибудь Освенцим или, тем более, Терезин, просто собирали всех и расстреливали, без проблем, люди шли куда сказано и сами копали рвы для засыпки трупов. От деда даже фотографии не осталось! Был рыжий. У моих двоюродных глубоко синие глаза, рецессивный ген, наверняка и у него были, но маме этот ген не достался. Опять-таки ссылаясь на ту самую «колбасу», я подкатываю там к нему, вижу маму, еще девочку, похожую на мою будущую дочь. Маму действительно узнавали по сходству в леску возле Курчатовского дома, когда она тайком приходила навещать после моего отъезда, и показывали, где искать внучку с няней. Так вот, я подкатываю в двадцатые на машине семидесятых годов, говорю деду поскорее собираться, предлагаю подвезти семью к станции. Он действительно собирался откатить в Америку, и все откладывал, пока это в 29-м не прикрыли. Проблема, конечно. Проводив их, я исчезаю – но, может быть, рождаюсь в Бруклине?
Почти семьдесят лет вместе. Слева: вверху – после свадьбы; внизу – семья, 1948. Справа: вверху – в кооперативной квартире на Кутузовском; внизу – с дочерью, её детьми, моей женой и тотемом – медведем
У них была обычная для тех времен большая еврейская семья (а отец был единственным сыном). Синеглазая красавица старшая дочь вышла замуж за эстонского коммуниста, эмигранта, уж не знаю, где она его встретила, и жила с ним в Ленинграде. Дед очень переживал, что дочь вышла замуж за гоя, и мама ему обещала, что она этого не сделает. Их с отцом сосватали, они даже вроде бы были в дальнем родстве. Я в свое время постепенно понял, что она его не любила, но была «век ему верна», как у Пушкина. Мама потом говорила, что, если бы не я, она ушла бы на фронт. Она бы не погибла, но, скорей всего, родила бы не меня.
В конце концов, мамина жизнь была куда счастливей, чем её сестры. Муж эстонец был в войну комиссаром эстонской дивизии, или какое это было подразделение в Красной Армии, а потом, несколько лет, министром просвещения Эстонской ССР. Мама к ним тогда поехала, помню, привезла ведро сливочного масла и еще всякую всячину, чего в Москве было не достать. Через несколько лет всех бывших эмигрантов убрали, его выкинули профессором марксизма в университет. Я еще успел, в мою первую самостоятельную поездку после школы, посетить его роскошную квартиру в центре Таллинна, единственное, что помню, это мраморный узор в виде свастики на лестничной клетке. Потом они переехали в Тарту, где было то, что осталось от знаменитого Дерптского университета.
Мы приезжали в эти окрестности в 50-е годы. Нам там было хорошо, землянику можно было собирать у ближних озер пока не надоест, и Прибалтика была единственным краем СССР, где можно было всегда и везде найти нормальную еду. Но тетка там спятила с ума. Она так и не выучила языка, и жила в постоянном страхе, возможно, не совсем неоправданном. Предателей и палачей своего народа, таких, как её муж, там ненавидели. И действительно, там много чего происходило после освобождения от немецко-фашистских оккупантов, хотя на вид он был симпатичный мужик. Когда его хватил инфаркт, она была уверена, что его убили. А через несколько месяцев старший сын, названный в честь Отто Шмидта, знаменитого арктическими экспедициями, мой ровесник, врач, у кого только что родились близнецы-эстонцы, был найден головой в открытую газовую духовку. Она была уверена в том, что его убила жена, которая, придя и застав эту сцену, тщательно вымыла пол.
Моя мама перевернула горы. Она добилась, чтобы младшего сына перевели из Тартуского университета в Московский, что было весьма нетривиально. Он попал на ту же кафедру на мехмате, где я преподавал по совместительству, и впоследствии, уже после того, как я отбыл, женился на моей бывшей дипломнице. И одна из их дочек, и одна из внучек названы в честь моей мамы. Труднее всего было обменять квартиру в Тарту на комнату в Москве. Тут надо было не только найти такой маловероятный вариант. Вдове человека с такими заслугами перед Родиной полагалась отдельная квартира, и пришлось кого-то уговаривать и подписывать какие-то обязательства, чтобы обмен разрешили. Но несмотря на вроде бы подписанный отказ от особых прав, ей-таки дали через пару лет отдельную квартиру в Беляеве, где она и умерла в точности на 90-й день рождения, по-прежнему не совсем в своем уме.
Что еще осталось от большой семьи? Старший сын, офицер, погиб в первые месяцы войны, неизвестно где и когда, тогда был полный провал. Детей у него не было. Младшие близнецы, только недавно из школы, принадлежали к потерянному поколению. Но одному из них повезло. Тяжело раненный, он попал в больницу в тот же город, Пермь, тогдашний Молотов, куда мы были эвакуированы, и мама его выходила. Ему, как инвалиду войны, были положены в Израиле особые привилегии, когда он приехал в 90-х. Сейчас они с женой лежат на том же кладбище, где к ним потом присоединились мои отец и, позже всех, мама. Оба сына отправились в Америку, но синеглазый старший, которого я любил, хоть и преуспевающий программист в Нью-Йорке, тоже несколько спятил и разбился в машине на выезде из подземной стоянки, может быть, нарочно. Стерва ли жена тому причиной или это в наших генах? Лучше всех устроена его единственная дочь, которую я помню симпатичной 12-летней девочкой и менее симпатичной 30-плюс-летней Нью-Йоркской холостячкой на хорошей должности в Pfitzer’е. Она-таки вышла замуж и растит двоих симпатичных детей в пригороде Сан-Франциско, иногда её муж шлет всем родственникам емайл с фотографиями. Но это к моему рассказу это уже не относится.