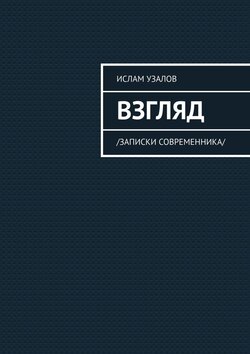Читать книгу Взгляд. Записки современника - Ислам Узалов - Страница 11
КАЛЕЙДОСКОП
Вести с «фронта»
ОглавлениеВВОДНАЯ
«У меня зазвонил телефон. – Кто говорит?» – Нет, не слон, а Фронт (Общероссийский народный-ОНФ).
Оказывается, он проводит в Санкт-Петербурге Первый Всероссийский Медиафорум независимых региональных и местных СМИ для обсуждения проблем этих самых изданий.
Будут присутствовать руководители федеральных ведомств, администрации президента…
Вот и хотят, чтобы я принял участие в его работе.
Приглашение было не только неожиданно, но и удивительно. В принципе я не журналист.
Мало того, и не состою в штатах какого-либо СМИ.
– А вообще, как вы меня нашли?
– Места надо знать.
Видимо, через интернет, где бумажные СМИ вывешивает мои очерки, да и другие интернет порталы заимствуют.
Вот и посчитали их жутко независимыми.
Впрочем, без ложной скромности, так оно и есть.
Когда в своё время прежний главный редактор Раджаб Идрисов уговаривал меня сотрудничать, я поставил условие, что не буду писать ничего заказного.
Никакие панегирики и «битвы за урожай», а только интересное мне самому.
Он ответил – пиши, что хочешь и как считаешь нужным. На том и порешили.
Слово своё он сдержал – что отправлял по электронной почте, то и ставил в номер.
Поэтому с чистой совестью могу сказать – содержание моих очерков зависит только от ограничений, которые ставлю себе сам.
Что же касается приглашения, то, несмотря на своё скептическое отношение к ОНФ, который, на мой взгляд, объединяет довольно разношёрстную публику с претензией на функции почившего много лет назад Комитета Народного Контроля СССР, я его принял.
Во первых, как обидеть человека, говорящего тебе любезности?
А во вторых – интересно.
Если же приглашающая сторона готова ещё и взять на себя все расходы, то для отказа должны быть довольно веские основания. Их у меня не было.
ОНФ ЭТО ВАМ НЕ ФУНТ ИЗЮМУ
ОНФ позиционирует себя как «недостававшее ранее звено по контролю за исполнением указов президента России». Оказывается порядка 50% его поручений, снятых чиновниками с контроля, как исполненные, на самом деле таковыми не являются (!).
Фронт располагает «прямым выходом» на президента, чтобы доводить до него, где что не так, и поэтому он заинтересован в сотрудничестве с независимыми СМИ на местах, как источниками информации.
Организация имеет свои структуры во всех регионах страны, а руководство осуществляется Центральным штабом с тремя сопредседателями через рабочий орган – Исполком.
Вот в трёх словах, то, о чём рассказали во вступительном слове модераторы форума.
Их было двое – Ольга Тимофеева – сопредседатель ОНФ, депутат Госдумы и Дмитрий Миненко – первый заместитель руководителя Исполкома ОНФ.
По программе форума 350 представителям СМИ – печатных, электронных и телевидения – в основном, насколько я понял, это были главные редакторы – предстояло, когда вместе, а когда разделившись по своим профессиональным секциям, что-то слушать и обсуждать.
Да…, ещё обратило на себя внимание то, что радио-СМИ к этому мероприятию почему-то не были привлечены.
Прежде чем, наконец-то, перейти к сути, несколько слов ещё и об организации этого мероприятия.
Так вот, она была безукоризненна.
Всё продумано до мелочей.
Максимум удобства, готовность во всём помочь.
Нужно пройти куда-то?
– Не просто подскажут где, а проведут до самых дверей.
(Вы, наверное, решили, что туалета.
Разочарую – в четырёхзвёздочном отеле «удобства» размещены в самих номерах.)
К услугам участников круглосуточно функционирующий компьютерный центр – ноутбуки, интернет, принтер. Встретишься случайно с кем-либо взглядом – сразу улыбка на лице.
Естественно, в ответ тоже улыбнёшься.
То есть, никаких строгих физиономий с мрачной решимостью во взгляде, ассоциирующихся со словом фронт.
РОСКОМНАДЗОР ДАЁТ ДОБРО
В первый же день форума состоялись две, так называемые дискуссии.
Тема одной – «Журналисты о журналистах», другой – «СМИ в правовом поле».
– Почему «так называемые»?
Потому что в нормальной дискуссии, где каждый участник имеет возможность хотя бы раз выступить и ответить на вопросы тех, кто пожелал их задать, физически могут принять участие не более 10—12 человек.
Когда же перед аудиторией в 350 человек выступают несколько спикеров, каждый из которых отвечает на вопросы 8—10 счастливцев, сумевших обратить на себя внимание модератора, то это даже не полноценная лекция в классическом смысле слова, где лектор сходит с кафедры только после того, как ответил на все вопросы слушателей.
Участникам были предложены просто лекции, где приглашённые авторитеты информировали о каких-то важных с их точки зрения вещах.
Безусловно, ничего плохого в этом не вижу, но, всё-таки, это не дискуссия, в ходе которой могут рождаться какие-то интересные идеи.
К выступавшим по первой тематике у меня особых вопросов не возникало, а вот к Александру Жарову – руководителю Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), затронувшего в своём выступлении тему противодействия публикациям с призывами изменить конституционный строй, он возник.
То ли господин Жаров не уточнил, что речь идёт о призывах по именно насильственному изменению, то ли я почему-то прослушал в его выступлении слово насильственный.
Модератор (Ольга Тимофеева) дала мне слово. Оно прозвучало так: – Допустим, в некой газете печатается статья где автор сообщает, что федеративное устройство России показало свою неэффективность и следует перейти к унитарной модели, что семилетний срок президентского правления ведёт у усилению авторитаризма, что глава правительства это мальчик для битья и поэтому необходимо переходить к американской модели, где президент и есть глава правительства, ответственный за всё.
То есть, в ней имеется целый букет призывов, каждый из которых сам по себе уже означает требование изменить конституционный строй.
Как Роскомнадзор среагирует на такую публикацию?
Жаров ответил, что реакции не будет никакой, поскольку это просто философские рассуждения.
– Даже если автор не просто рассуждает, а требует проведение референдума по этим вопросам?
Ответа что-то не последовало, но отыскал его вечером в интернете на сайте самого Роскомнадзора, где вывешена последняя редакция федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».
Референдум не означает насильственные действия и поэтому, получается, что призывы о его проведении под действие закона не попадают.
Я не стал бы сейчас столь подробно останавливаться на этом эпизоде, если бы тогда же совершенно неожиданно Ольга не спросила меня:
– А возможна ли в дагестанских газетах подобная же публикация, но касающаяся Конституции Дагестана?
Я ответил, что знаю несколько изданий, где она вполне могла бы появиться.
Может и ошибаюсь, но сложилось впечатление, что модератор отнеслась к моему ответу с некоторым недоверием.
Признаюсь, что Дагправду среди этих изданий в силу понятных причин, я не числил.
Однако, позже решил, что, если она до этого не раз публиковала мои, порой далеко не философского характера рассуждения (разве приглашение на форум не является тому свидетельством?), почему откажется от публикации чьей-то статьи, касающейся необходимости конституционной реформы?
Главное, чтобы она была актуальной и интересной для читателя.
Кстати – удивительное совпадение – во времена Госсовета, когда все вокруг только и твердили о том, как его существование необходимо для нормализации межнациональных отношений, что Дагестан никогда не приемлет чей-то единоличный власти, я опубликовал в газете «Новое дело» очерк.
Названия его не помню, но смысл был такой, что Госсовет, в который избирается по одному представителю от каждой национальности ни что иное, как популистская штука.
Республике, как и любому объекту управления, в исполнительном органе требуется единовластие.
То есть, «копал» под Конституцию республики.
Спустя несколько лет после этого, все чудесным образом прозрели и в Конституцию были внесены изменения – Госсовет упразднили и власть в Дагестане стала президентской.
УМНИЦА, ЕГО АНТИПОД И «РУПЕРТ МЭРДОК» ГАБРЕЛЯНОВ
Из выступающих главных редакторов центральных изданий особо запомнились Константин Ремчуков («Независимая газета»), «король жёлтой прессы» Ашот Габрелянов (российский Руперт Мэрдок, как обозвал его Михаил Сеславинский – руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, добавив после паузы – подождите, он ещё обставит этого Мэрдока) и одна, извините, дура.
Ремчукова я обычно стараюсь держать в поле зрения.
Он большой умница и мне всегда интересны его суждения о политике и, особенно, экономике.
Своей заводить не собираюсь, но рассказ Константина о том, как им после приобретения выстраивалась газета, доставил удовольствие.
В принципе, такие подходы, универсальны для любого бизнеса.
Выступление «Мердока» Габрелянова было в типичном для него стиле – грубовато сочным.
Во первых, в стране не должно быть никаких государственных СМИ – всё решает рынок.
Лично я не столь категоричен.
Почему бы государству, если уж очень хочется, не иметь какие-то каналы для информирования общества о своей деятельности?
Главное – оно не должно обладать монополией на информационное пространство, загнав всех остальных в дальний угол.
Особенно это касается телевидения.
Естественно, необходима и какая-то система сдержек и противовесов, способная ограничивать его аппетиты. Во вторых, все СМИ независимо от направленности должны быть патриотичными и, в случае чего, дудеть в одну дуду – государственную (Это опять Габрелянов).
Удивительное суждение. Например, один считает, что Россия в отношении Крыма ведёт правильную политику, и перечисляет блага, которые она несёт.
Другой убеждён в её неправильности и с не меньшей страстностью рассуждает о том зле, которое она причинит стране.
Ну и кто из них патриот, а кто – «враг народа» и почему? Только потому, что один из них думает не так как вы, или потому, что «линия» у одного из них не соответствует линии «партии и правительства»?
А если «партия и правительство» сменится, а с ней и «линия»? Вообще-то, патриотизм означает любовь к родине, а не государству, которое, как известно, есть бюрократический институт, которому общество делегировало некоторые полномочия и который должен постоянно находиться под огнём критики со стороны общества.
Такой характер взаимоотношений следует рассматривать как естественный для них.
Что же касается выступления, ещё раз извините, «дуры», ни имени, ни газеты которой даже называть не хочу, то она сначала своим невнятным бормотанием испытывала терпение зала, а потом выдала такое, что фактически довело до абсурда некоторые габриэляновы расссуждения.
Оказывается в стране существуют российские и антироссиийские, причём разной степени зловредности, СМИ. Вот она и предлагает, чтобы на них помимо названия делались ещё и метки – Антироссийская Степени №1 (2,3…).
Думаю, от такого предложения господин Ремчуков упал бы со стула, да и «Мэрдок» тоже.
Хорошо, что после своих выступлений они ушли.
Я не выдержал, но поскольку после вопроса господину Жарову потерял какой-либо шанс на повтор (если бы все желающие получили право даже на один вопрос, нам не хватило бы и месяца заседаний), то выход нашёл в том, что отправил ей записку – «А судьи кто? Вы, что ли?
А может вы и есть Антироссийская первой степени?».
К сожалению, записка дошла только до Миненко и там застряла.
Я потом спросил Дмитрия – что же это он не передал ей?
Он сослался на ограниченность во времени для ответов… Но согласился, что дремучие суждения дамы, мягко говоря, не вписываются ни в какие ворота.
На второй же мой вопрос: – Зачем вы пригласили на форум столь одиозную даму? Ответил, что на нём, вроде как, должны быть представлены разные точки зрения.
Не уверен, что это правильно.
Но подобных форумах должны быть представлены разные точки зрения, но от столь одиозных фигур нужно держаться подальше.
Иначе следует пригласить ещё парочку пациентов из психиатрической лечебницы.
Когда, к примеру, «Эхо Москвы» предоставляет слово людям, исповедующим разнообразные, вплоть до самых противоположных, взгляды, то нет никаких вопросов.
«Эхо» есть средство информации, а не пропаганды.
Вот и пытается в меру своих возможностей доводить до общества все точки зрения.
Что же касается ОНФ, как общественно-политического движения, то оно должно чётко обозначить поле, в границах которого собирается действовать, а не демонстрировать всеядность.
Безусловно, участники форума могли исповедовать и декларировать какие угодно воззрения.
Спикеры же, выступающие перед ними, должны играть роль пропагандистов взглядов, не выходящих за границы того пространства, где «пасётся» ОНФ.
Иначе получается, что все за всё хорошее, только представление о том, «что такое хорошо» у каждого своё.
Вот вам и доказательство написанного мною в самом начале – разношёрстная публика.
«Прежде, чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться. Иначе наше объединение было бы лишь фикцией, прикрывающей существующий разброд и мешающей его радикальному устранению».
Это дедушка Ленин. Он хоть и злой, но, несомненно, гений. А к гениям принято прислушиваться.
СТАНИСЛАВ ГОВОРУХИН
Из трёх сопредседателей ОНФ, главным сопредседателем, если так можно выразиться, является, безусловно, Станислав Говорухин – депутат Госдумы, народный артист, кинорежиссер, сценарист.
Это чувствовалось по тому, как относились к нему остальные представители ОНФ.
Не считая сценариев и актёрских ролей, он снял немало фильмов, большинство из которых получили достаточно широкую известность.
Общенародная из них, конечно же, у «Место встречи изменить нельзя».
В конце 2011 года Говорухин возглавил предвыборный штаб Путина, чем окончательно восстановил против себя московских либералов, у которых его имя итак вызывало нервный тик.
Мне его фильмы, начиная ещё с «Вертикали» нравятся, взгляды его считаю консервативными и, хотя не во всём разделяю их, не отказываю в праве на мнение в чём-то не совпадающее с моим.
На самом Медиафоруме мне запомнился один эпизод с его участием.
Выступающий стал жаловаться на местного градоначальника, который, якобы, подмял под себя всё – в тендерах побеждают только аффилированные с ним структуры, разоблачения в газете и возбуждаемые уголовные дела для него как с гуся вода… Модератор оживилась и предложила ему рассказать об этом завтра президенту, на что последовала реакция Станислава Сергеевича, который заметил, что делать этого не следует.
Нельзя вот так вот с голоса…
И ославить человека на всю страну.
Надо проверить и только убедившись, что действительно так оно и есть, действовать дальше.
Такой подход человека, поставившего «Ворошиловского стрелка», говорит о многом в его характере и мне лично импонирует.
МОРОЗОВ И ЗЕНКОВИЧ
В первый же день форума перед аудиторией выступили начальники управлений Администрации Президента.
Морозов (управление по вопросам внутренней политики) – матёрый партийный, ещё со времён КПСС, функционер, долгое время ходивший в вице-спикерах Госдумы, показал себя дядечкой приятным во всех отношениях – улыбчивость, демонстрация открытости и дружеского расположения к аудитории…
После выступления ответил на несколько вопросов из зала. Придраться особо не к чему, но всё настолько гладко, что ничем особым не запомнился.
Зенкович (управление по общественным проектам) выглядел значительно моложе и даже назвал Морозова своим учителем. Тоже вполне корректен и доброжелателен.
Запомнился же он мне выражением, что СМИ для власти не инструмент, а партнёры.
Утверждение, возможно для кого-то и звучит лестно, но, на мой взгляд, как минимум, спорно.
СМИ для власти не должно быть ни инструментом, ни партнёром, ни, тем более, ходить под её покровительством. В нормальном государстве миссия СМИ, прежде всего, заключается в оппонировании властям и, кстати, политической оппозиции тоже.
СМИ должны находиться в постоянном поиске их проколов и привлекать к ним общественное внимание.
То есть, фактически они представляют из себя инструмент контроля общества, как за властью, так и за теми, кто стремится перехватить властные рычаги.
Взаимоотношения в этой сфере должны зависеть не от чьих то прихотей, а регулироваться законом, гарантирующим независимость СМИ.
Разумеется, здесь речь идёт не о тех средствах массовой информации, которые служат официальными рупорами государства и которые не должны доминировать в информационном пространстве никогда.
Я написал ему записку об этом в форме вопроса.
После её чтения он стал говорить что-то невразумительное и окончательно разочаровал меня.
ВЛАДИМИР ПУТИН
Ознакомившись с программой форума, я обратил внимание, что на второй день планируется провести пленарное заседание не в конференц-зале гостиницы, где мы уже расположились, а в одном из корпусов выставочного комплекса Ленэкспо, который по определению не мог конкурировать с ним в комфортности.
Тайна раскрылась ближе к концу дня, когда было сказано, что завтра предстоит встреча с президентом.
Как раз Говорухин и сообщил об этом.
По интонациям в голосе чувствовалось, что он испытывает к Путину чувство глубокого уважения.
Оно выглядело вовсе не казённой формальностью, имеющей отношение его к статусу, а чем-то очень личным.
Нужно сказать, что моё отношение к президенту противоречиво.
Практически всегда позитивно оценивая его действия в области внешней политики, я довольно скептически отношусь к тому, что предпринимается им последние годы в вопросах политики внутренней.
Так вот, не ожидая от встречи ничего эпохального, мне было просто интересно сопоставить свои впечатления о главе государства, как о человеке из телевизора, где режиссёр и операторы используют профессиональные приёмы, чтобы представить его в максимально выгодном свете, с тем, как он смотрится в реальной жизни.
Я сидел в метрах десяти от него и должен сказать, что никакой разницы не ощутил.
Войдя в зал и поздоровавшись, он сказал несколько приличествующих обстановке слов и без какого-либо доклада, сев в первом ряду амфитеатра, сразу же предложил задавать вопросы.
Было видно, что президент находится в отличной форме, лёгок и абсолютно естественен в своей простоте при общении. Никаких шпаргалок, на ходу схватывает суть дела и свободно ориентируется в любой проблематике.
Короче, как человек – море обаяния.
Был задан вопрос о Мурманском морском порте и сразу стало понятно, что для него это не просто точка на карте, а объект, характеристики которого довольно точно представляет себе. Другой вопрос – о лечении редких заболеваниях, лекарства, для которых приходится закупать за рубежом.
Он сходу уточняет – орфанные? – И уже нет сомнения, что владеет и этой темой, потому что подавляющему большинству граждан, уверен, термин совершенно не знаком.
Не грипп, всё-таки.
Ну и последний пример – обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств – ОСАГО.
Он углубился в такие детали, касающиеся расчёта тарифов, что привёл меня в изумление.
Безусловно, человек не может знать абсолютно всё на свете. Просто, происходящее свидетельствовало о том, насколько широк спектр проблем, являющихся предметом обсуждения с профессионалами на совещаниях у президента, и поэтому он в курсе на относительно неплохом уровне.
В этой связи я никак не могу понять московских либералов. Не тех психически неуравновешенных придурков, позорящих идеи либерализма, изливаясь словесным поносом в своих комментариях на форумах сайта «Эха Москвы» по принципу «если Евтушенко против колхозов, тогда я – за», а вполне вменяемых, умных, тонких людей, чьи выступления можно прочесть на том же самом сайте.
Почему они воспринимают Путина, как кремлёвского шамана, не имеющего адекватного представления о том, что творится в стране и мире?
Почему они считают, что все решения принимаются им чуть ли не спонтанно, как ему вздумается и невозможно понять, что у него там в голове?
Судя по некоторым его высказываниям, он всегда готов выслушать любое мнение.
А вот после обсуждения, окончательное решение, нравится оно кому или нет, принимает, безусловно, сам.
А как иначе?
Поэтому и не подписывается – «Путин и его команда».
Лично у меня, как уже было сказано, много претензий к президенту Путину кроме одной – оно вовсе не самодур и глупец.
Другой вопрос – нужно ли главе государства знать в деталях, как, к примеру, формируются страховые тарифы?
Не есть ли это показатель того, что страна находится в режиме насквозь централизованного ручного управления, когда все нити находятся в руках одного лица?
Наука уже давно и однозначно сказала, что подобное, тем более, когда речь идёт о таком сложном объекте управления, как государство, далеко не есть хорошо.
Что касается вопросов вообще, самым симпатичным из них мне показался заданный девочкой из Орловской области. Модератор (Ольга Тимофеева) уже начала подводить черту, завершая, встречу.
Однако, президент видимо не мог не обратить внимание на сидящую за ней девчонку, которая на всём протяжении встречи, подпрыгивая на сиденье, тянула руку вверх, и попросил дать ей всё-таки слово.
Та рассказала, как однажды обратила внимание на то, что у них в области «вечный огонь» горит не вечно.
Затем поинтересовалась тем, сколько у них вообще имеется таких «огней».
Оказалось, никто не знает.
И она стала заниматься тем, о чём её вообще-то никто не просил – уточнила количество «огней» и стала добиваться, чтобы они действительно были горящими.
Результат – из подсчитанных ею 35 «огней» горят уже 15, а она своей настырностью приобрела дурную репутацию среди местных чиновников.
Ну, а вопрос её заключался в том, что нельзя ли сделать так, чтобы эти огни везде по стране горели не только по праздникам? Ответ Путина, естественно был ожидаем, во всяком случае для меня.
Вначале он поблагодарил её, за то, что она сделала и делает и, конечно же, поддержал её предложение.
А знает ли кто-либо сколько «вечных» огней «горит» в Дагестане?
А как насчёт профанации идеи – вечный огонь на несколько дней в году к 9 мая?
Это же показуха, абсурдней которой невозможно придумать. Мало того, это лицемерие…
Идея вечного огня, символизирующего, что общество, государство никогда не забывает, как знак памяти о погибших, оказалась дискредитированной, опошленной.
Все, как, извините, попки-дураки, в меру своих способностей возвели чуть ли не на каждом кутане эти самые «вечные огни». Ну, не можете вы содержать такой мемориал, как положено, так не надо его и возводить.
Поставьте просто какую-нибудь стелу – большую или маленькую, из гранита или простого бутового камня – и следите, чтобы она всегда выглядела опрятно.
Что же касается нормального вечного огня, то, если нет средств, его достаточно и одного – в Махачкале.
Но только, чтобы он действительно был вечным.
У Дагестана, наверное, должно хватить денег на его содержание.
В богатой Москве лично мне известны лишь два мемориала с вечным огнём – у кремлёвской стены и на Поклонной горе.
Я несколько отвлёкся…
Возвращаясь к теме встречи с президентом, последний штрих, на который, возможно, мало кто обратил внимание.
Уже попрощавшись, он поднимался по проходу амфитеатра. Поравнявшись с парнем, который всю встречу просил слова, махая над головой листиком с надписью «Якутия», а теперь стоял с унылым видом, он, прихватив его за локоть, увлёк с собой из аудитории.
Всё выглядело абсолютно естественно – ничего показного я в этом не почувствовал.
Там вероятно и пообщались.
Так что, нечего удивляться высокому рейтингу Путина и считать, что за него голосует только быдло и «уралвагонзавод». Оппонента следует уважать, а не приносить объективность в жертву своим взглядам.
В противном случае, можно вечно витать в мире, придуманном собственными фантазиями, не имеющим ничего общего с реальностью.
НЕЗАДАННЫЙ ВОПРОС
Узнав об ожидаемой встрече с Путиным, я, хоть и не питал особых иллюзий, что получу на этом форуме ещё раз право на вопрос, решил всё-таки подготовиться, заглянув на сайт Дагправды, чтобы скачать одну цитату.
А сам вопрос прозвучал бы так:
– Уважаемый Владимир Владимирович.
Недавно была опубликован мой очерк «Украинский цугцванг», цитату из которого хочу зачитать:
«…Разговоры о маниакальном желании Путина стать объединителем распавшегося СССР не имеют под собой никакой основы.
Их ведут либо идиоты (вот уж кто маниакально не способен к сколько -нибудь объективной оценке оппонента), либо провокаторы.
Его цели и способы их достижения могут нравиться или нет, но Путин всегда действует как достаточно трезвый и расчётливый политик…»
Как видите, тех, кто думает иначе (сознательные провокаторы не в счёт), я обозвал идиотами, но никак не врагами отечества или предателями родины.
Может, в их глазах я сам выгляжу не меньшим идиотом? Может, они в не меньшей чем я степени желают блага своему отечеству?
Как вы оцениваете тех, кто в любом, не согласном с позицией Кремля, видят непременно врага, ну, на худой конец, агента влияния, продавшегося «вашингтонскому обкому».
Тех, кто присвоил себе монопольное право считаться патриотами и отказывать в этом другим?
В принципе, ответ президента был предсказуем – оппонент это не вражеский лазутчик, а может быть патриот даже больший чем ты…, охота на ведьм недопустима…, толерантность…, уважение к чужому мнению…
Но я хотел, чтобы он ещё раз публично на всю страну сказал об этом.
К сожалению, микрофон я не получил, однако ничьих происков в этом тоже не усмотрел.
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Организаторы Медиафорума предусмотрели для его участников культурную программу.
В дополнение к ней у меня была ещё своя, которой обычно следую при посещении Петербурга.
Первым его пунктом значится пешая прогулка по Невскому проспекту до Адмиралтейства и Дворцовой площади.
Далее – к площади Сенатской – памятник Петру (Медный всадник), здание самого Сената, где недавно разместился Конституционный суд, Исаакий…
Пункт второй – Эрмитаж.
В дополнение к этому привычному стандарту, мне ещё хотелось взглянуть на новое здание Мариинского театра – Мариинка-2, возведение которого сопровождалось протестами петербуржцев.
Но лучше бы я отказался от своей программы, потому что в этот раз мне бросалось в глаза то, на что я раньше почему-то не обращал внимание, и портило все впечатления.
А может тогда оно ещё не так сильно проявляло себя?
БЛОШИНЫЙ РЫНОК
По своему величию во всём ни один проспект в стране не может сравниться с Невским.
В нём заложена колоссальная концентрация не только архитектурных шедевров, но и глубоких исторических и культурных смыслов, имеющих отношение к России последних трёх веков.
По сути, это визитная карточка не только Санкт-Петербурга, но и всей страны.
Проспект создавал ауру, ради погружения в которую каждый свой приезд я желал прогуляться по нему.
Однако, в этот раз, начав свой путь от Московского вокзала, сразу же ощутил, что погружаюсь в нечто иное.
На всём протяжении проспекта чувствовалась атмосфера провинциальной ярмарки и дурного вкуса.
Столбы, щиты, стены… обклеены бумажными квиточками самых разных размеров с предложениями товаров и услуг.
Над тротуарами на высоте 3—4 метра нависает хаос из нескончаемой череды разноцветных таблиц и табличек, начиная с расписания движения транспорта и кончая всем, чем угодно.
Начнёшь разглядывать какое-нибудь здание на противоположной стороне проспекта, а его фасад обвешан вывесками не меньшей пестроты.
(На своей стороне над головой ты их, по понятным причинам, не замечаешь.)
Мало того, сразу же обращает на себя внимание тусклость давно не мытых окон.
А если мытые, то на них вплоть до последних этажей красуются большие белые наклейки на всё стекло – «салон», «юрист», «массаж», «ателье»…
Одно из редких зданий со сверкающими чистотой окнами, не «украшенное» разнокалиберными вывесками, табличками и наклейками я обнаружил у Аничкова моста – на углу Невского и Фонтанки.
Аж залюбовался им.
В сравнении с многими другими может оно и не слишком большой шедевр архитектуры, но сильно выигрывало своей ухоженностью. Пригляделся.., а на первом этаже объявление – сдаётся в аренду.
Всё понятно – отреставрировали.
А через полгода его, скорее всего, ждёт та же участь, что и его чумазых, неопрятных соседей.
Хоть и не на Невском, но последнюю кляксу в прогулке поставил Конституционный суд.
Отреставрированное здание Сената «украшали» две чёрные заплатки по обе стороны входа, извещающие, что это и есть он – Конституционный суд.
Возможно, где-то вывески и смотрелись бы, но здесь ими размерами и дизайном настолько диссонировали с цветовым решением фасада, что не выдерживали никакой критики.
И что может подумать сторонний человек о владельце такой «визитной карточки»?
Интересно, городская чиновничья братия хоть иногда проезжает по Невскому проспекту?
А как насчёт депутатов городского Заксобрания?
Они что, тоже ослепли?
А коренных питерцев, как известно, трепетно относящихся к своему городу, это никак не задевает?
Или они уже на всё махнули рукой – бесполезно?
Так вот, «если бы директором был я», убеждён, в течение пары-тройки месяцев сумел бы привести проспект в приличный вид.
При этом не потратил бы из городского бюджета ни одной копейки.
– Как?
– «Элементарно, Ватсон».
Прежде всего, с треском уволил бы руководителей служб, ответственных за облик города вообще и проспекта в частности. Одновременно издал бы указ (приказ, постановление…) – если, конечно, такового ещё не существует – которым:
1.Запретил бы установку любой рекламы без согласования с этими самыми службами.
2. Приостановил бы действие всех ранее выданных разрешений до проведения ревизии вывесок на предмет их гармонии с окружающим пространством.
(Если что не так – максимум в месячный срок снять и, согласовав, где положено эскизы, установить новые.)
3. Запретил бы вывешивать на окна что-либо кроме занавесок или штор, цвета которых должны быть согласованы со структурой, ответственной за внешний облик города.
4. Потребовал бы от владельцев зданий в недельный срок вымыть все окна (хоть самим, хоть обязав арендаторов) и в дальнейшем, чтобы они всегда блестели.
5.Объявил бы вне закона разнокалиберные бумажные объявления, которыми обклеено на проспекте всё, что только возможно.
Нарушаешь – крупный штраф. (Адреса и телефоны на объявлениях указаны.)
6.Контроль возложил бы на себя самого и обеспечивал бы его, проезжая по проспекту хотя бы раз в неделю. Даже не выходя из служебного автомобиля. Всего-то 10—15 минут.
А ещё потребовал бы от чиновников передать всем тем, кто не будет соблюдать эти предписания, что очень плохо буду думать о них… Со всеми вытекающими последствиями.
БЕСПРИЗОРНАЯ СОКРОВИЩНИЦА
Эрмитаж – гордость Санкт – Петербурга и России, свидетельство того, что и мы находимся в фарватере мировой художественной культуры. Той, в короне которой сверкают уникальными бриллиантами Лувр, Британский музей, Метрополитен, Прадо…
По качеству коллекции и её размерам наш музей, безусловно, является драгоценностью такого же уровня.
Лично я всегда стремлюсь и одновременно опасаюсь его посещать, потому что хождение по бесконечным анфиладам выматывает физически и эмоционально.
К финишу чувствуешь себя выжатым лимоном.
В этот раз я решил поступить умнее.
– Иду свеженьким без оглядки к Рембрандту, потом сразу на третий этаж к Матиссу. И всё.
Гладко было на бумаге…
Пока добирался до голландца, взгляд цеплял то один экспонат, то другой…
Невольно останавливаешься…
Короче, пришёл не таким уж и свеженьким, но всё-таки посвежее, обычного…
Дальше – Матисс.
А для этого нужно, помимо прочего, пройти ещё и через несколько залов импрессионистов.
И как устоять?
Еле дополз до цели, а смотреть уже нет никакого запаса прочности.
Опустился на скамью в середине зала и тупо смотрю в пол. Но боковым зрением улавливаю яркие тона картин, висящих на стенах.
Это даёт неожиданный эффект.
В мозгах чувствуется просвет да и усталость понемногу отступает.
Видимо, сказывается аура, создаваемая ими.
Не зря художник считается мастером, который в своих творениях добивался поразительных результатов в передаче эмоций через цвет.
Встаю и подхожу к картинам…
После Матисса, уже не такой, как обычно измотанный, иду к выходу.
Теперь о ложках дёгтя.
Двигаешься к входу музея вдоль фасада, обращённого к Дворцовой площади, и невольно обращаешь внимание на цоколь и нижнюю часть белых колонн здания.
Всё какое-то серое от грязи, облупленное, потрескавшееся, выщербленное.
У амбара сколько-нибудь приличного хозяина, думаю, вид и тот будет получше.
Интересно, при батюшке-царе было также или нет?
Подходишь к иной картине и никак не можешь найти ракурс, с которого можно её рассматривать.
Освещение смонтировано настолько бестолково, что с какого угла не посмотришь везде слепящие глаз блики.
А есть и такие, рамы которых, опять же, «благодаря» освещению, бросают полоску тени на саму картину, отсекая этим её часть. Ну, и соответствующий результат.
Удивляет количество картин в потрескавшихся или, хоть и в позолочённых, но грязновато выглядящих рамах.
Я, конечно, не великий специалист, но мне кажется, что усилий, потраченных на реставрацию иной картины, хватило бы на то, чтобы привести в порядок рамы всех картин Эрмитажа.
А квиточки на писчей бумаге с указанием названий и авторов, чем-то напоминающие своим видом те, которыми обклеен Невский проспект?
«Пришпандоренные» рядом с картиной или скульптурой, они, вдобавок ко всему, кое-где уже начинают отклеиваться от поверхности?
Ну, почему нельзя заказать оптом или изготовить в собственных мастерских что-то более приличное для шедевров стоимостью в миллионы или даже сотни миллионов долларов? Неужели они не заслуживают табличек, хотя бы качества визиток, каждая из которых обойдётся максимум в полдоллара?
А трещины на поверхности стены между бесценными картинами Рембрандта «Портрет старушки» и «Портрет старика – еврея»?
Разве какой-нибудь ученик реставратора не в состоянии затереть их в течение 15—20 минут?
Особая песня – пожелтевшие полоски бумаги, которыми обклеены белые оконные рамы музея (я совершенно случайно, выглядывая в окно, обратил на это внимание и был поражён).
Что за убогость?
Неужели человеческая мысль не придумала ничего другого, более подходящего, чтобы закрыть или уплотнить щели между рамой и коробкой?
Если, всё-таки, ничего, то дарю идею – нарезать полосы из белой виниловой плёнки, используемой в наружной рекламе. Она самоклеющаяся, стоит копейки и, главное, не желтеет.
Заключительным аккордом стала боковая лестница, по которой я спускался от Матисса к выходу.
С ободранными перилами и стёртыми до предела ступенями, кричащими о своей беспризорности, они были бы оскорбительны не только для такого храма искусств, как Эрмитаж, но даже для общественного туалета.
Видимо Михаил Борисович Пиотровский чуть ли не за четверть века своего директорства, так и не смог изыскать возможность для того, чтобы придать ей хоть сколько-нибудь приличный вид.
Музей ежегодно посещают порядка трёх миллионов человек. Каждый второй – иностранец.
Настоящих ценителей искусства среди них, как и везде, единицы.
Остальные, ведомые экскурсоводами, группами проходят из зала в зал.
Главное – отметиться, что были, посетили…
Однако, для того, чтобы замечать весь тот «дёготь», которым вымазан Эрмитаж, им не нужно уметь отличать Моне от Мане.
Государственный Эрмитаж…! Гордость России…!
Ну и каким должно восприниматься иностранцами со всего мира государство, которое даже свою гордость не в состоянии содержать в приличном состоянии?
(Про россиян, приученных родным государством и не к такому, я не говорю.)
Чем занимается его лощённый директор, кроме поездок по всему миру на симпозиумы да красования в телевизоре? Видимо, у него организация выставок в заморских луврах затмевает крошащийся цоколь фасада и потрескавшуюся штукатурку в зале собственного музея.
Теперь уже невольно начинаешь видеть в этом лишь самопиар, прикрывающий несостоятельность, как хранителя доверенных ему сокровищ.
ТРИУМФ БЕЗУМИЯ
Мариинский театр – Мариинка, несомненно, один из грандов мировой музыкальной культуры.
И вот наше впечатлительное государство, уступив натиску его руководителя Валерия Гергиева, решило подарить театру ещё одну сцену.
Конкурс выиграл проект канадского архитектора Джека Даймона, овеществление которого при первоначальной смете в 9 миллиардов, обошлось российской казне более чем в 21 миллиард рублей.
Эпопея строительства проходила на фоне не стихающего аккомпанемента протестов общественности, которая считала, что площадка под строительство расчищается ценой уничтожения архитектурного ансамбля, исторически сложившегося в зоне Театральной площади.
Мало того, возводимое здание окончательно уничтожит всё великолепие вокруг, задавив его своими циклопическими размерами.
Тем не менее, Мариинка – 2 была возведена и торжественно открыта.
Под впечатлением сообщений о недовольствах я как-то отыскал в интернете её фотографии, сделанные с высоты птичьего полёта.
Конечно, не так потрясает, как, к примеру, здание оперного театра в Сиднее, но, тем не менее, оно показалось мне довольно интересным.
В то же время даже по фотографиям было видно, что габариты и архитектура здания, мягко говоря, не вяжутся с тем, что его окружает.
Так вот, реальность оказалась значительно хуже.
Жители и гости Санкт-Петербурга не передвигаются на вертолётах.
Поэтому и всё вокруг себя видят немного с иных ракурсов и расстояний, чем неизвестный мне фотограф.
Если бы Мариинка – 2 располагалась в зоне современных застроек и больших открытых пространств, позволяющих обозревать её издалека (ну, к примеру, как гостиницу «Прибалтийская», где проходил Медиафорум), то здание возможно, и смотрелось бы шедевром, как скромно обозвал его сам Даймон.
В зоне же старых застроек с узкими улочками, где таких перспектив не может быть в принципе, оно возникает внезапно и в такой близости, что воспринимать его иначе, как параллелепипед, подавляющий своими гигантскими размерами всё окружающее пространство, невозможно.
Оно напоминает, что угодно – громадные складское помещение, заводской цех, вагонное депо, гипермаркет…, но только не учреждение культуры – театр.
Слова Даймона о том, что его творение «является продолжением традиционной застройки города», воспринимать иначе, чем издевательство над здравым смыслом невозможно.
А вот с мнением одного из противников проекта, обозвавшего его триумфом безумия я солидарен полностью.
Когда-то Гёте назвал архитектуру онемевшей музыкой.
Если так, то новое здание Мариинского театра есть музыкальная фраза из произведения современного, пусть даже и выдающегося, композитора, бесцеремонно вставленная в ткань творения Моцарта, разрушая его гармонию.
Почему всего этого не понимала комиссия, признавшая победителем конкурса проект именно господина Даймона, «сие есть тайна великая».
Ситуацию с Невским проспектом и Эрмитажем безусловно можно поправить в краткие сроки и малой «кровью».
Что же касается «гипермаркета» под названием Мариинка -2, то это выдающееся уродство в зоне своих исторических застроек Санкт-Петербург обречён терпеть вечно. Увы.