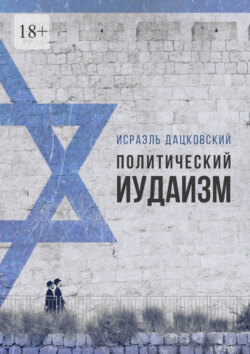Читать книгу Политический иудаизм - Исраэль Дацковский - Страница 9
1. Разное
1.7. Еврейское существование. Сюрреализм
Оглавление(04.2011)
В одном из залов музея Израиля в Иерусалиме рядом висят две картины. Обе выполнены в направлении сюрреализма. Обе написаны бельгийскими художниками в средней трети ХХ века.
Одна из них – Рене Магритт (1898—1967) «Замок в Пиренеях» (1959) – Rene Magritte «The Castle of the Pyrenees».
Другая – Поль Дальво (1897—1994) «Ждущие освобождения» (1944). В музейной подписи к ней на иврите картина названа «Скелеты в библиотеке» – Paul Delvaux «Waiting for the Liberation (Skeletons in an Office)».
Кстати, при интернет-поиске по имени художника Поля Дальво (Paul Delvaux) интернет-поисковики дали и списки его картин, и музеи, ими владеющие. Интересующая нас картина и иерусалимский музей в списках отсутствовали. И только поиск по имени художника И названию картины вывел и на иллюстрацию, и на музей.
Эти картины совершенно не связаны между собой (разве что направлением сюрреализма, бельгийским происхождением художников и отличным реалистическим изображением нереальных состояний). Но они оказались рядом на стене музейного зала. Да еще в столь особой точке глобуса – в самом Иерусалиме! А случайностей в этом мире нет, есть только непознанные закономерности и не ясные нам причинно-следственные связи. Поэтому попробуем заметить неслучайность их «встречи» вообще и встречи именно в Иерусалиме в особенности и предположить, что картина со скелетами просто дает внутренний вид одной из комнат замка с другой картины. Полностью абстрагируемся и от далеких от нас Пиренеев, и от ожидания освобождения (не сильно понятно, кто и от чего ждет освобождения) и увидим совершенно другое содержание, которое приведет нас к совершенно другому прочтению увиденного.
Евреи знают об образе двух Иерусалимов – земного, который можно и завоевать, и разрушить, и разделить. И Небесного, который соткан из света и духа и который всегда цел, всегда цельный и всегда – еврейский. Этот Небесный Иерусалим отделен от земли и неподвластен времени. С земли он виден только посвященным. Он – вечный. И населяют его вечные души вечного народа. Они заняты там вечным и вневременным Познанием, непрерывной и нескончаемой работой духа и разума. Вечность плохо сочетается с вре́менной, подверженной тлению даже при жизни плотью. Сухие кости скелетов ей подходят заметно больше. В этом смысле скелеты – не образ смерти, а образ вечной жизни, нетленной вечности, образ полного освобождения от бренного, земного, преходящего. Эти вечные люди находятся в царстве духа и Знания – в библиотеке небесного, отделенного, не связанного с нижним из миров Иерусалима (на иврите слово «отделенный» – кадо́ш, неправильно переводимое как «святой», так как русский язык не имеет адекватного слова для правильного перевода этой сложной категории, а слово «святой» в христианской традиции, выраженной русским языком, несет совершенно иной смысл). Никого из понимающих не поражает, что при общении этих вечных людей в зале Знания нет открытых книг. Им не нужно их открывать – они отпечатаны в памяти присутствующих. Вполне достаточно, что эти книги написаны и изучены. Любая ссылка на источник может быть доказана предъявлением соответствующей цитаты.
Когда мы с моим учителем изучали одну из алахических статей современного, недавно умершего крупного еврейского ученого, я обратил внимание, что цитаты из Талмуда в этой статье приводятся без кавычек и без ссылок на источник. Впитавший в плоть и в кровь принятые в серьезной науке этические правила бережного отношения к чужим мыслям и правильного цитирования, я весьма удивился вольности современного еврейского мудреца в его обращении с базовыми текстами иудаизма. И получил ответ, что не очень распространенные или современные книги действительно цитируются в серьезной еврейской литературе по известным мне правилам, а цитаты из ТАНАХа, Талмуда (естественно, на языке оригинала) в текстах, адресованных серьезным знатокам Торы и Алахи, можно не «закавычивать» – все и так знают и факт цитирования, и место, откуда взята цитата, и контекст проблемы, обсуждаемой в этом месте оригинала, так как полностью помнят эти тексты неимоверного объема и сложности на память. На то они и серьезные знатоки. Поэтому мудрым еврейским скелетам и не нужно открывать книги.
В зале нет источников света – они также не нужны, Знание не нуждается в физическом свете. Примитивный камин и отсутствие телефона и радиоприемника говорят о пренебрежении тонкой, легко рвущейся и ничего не определяющей в области человечности и в области Знания технологической оболочкой нынешней цивилизации, не только не оказавшей положительного влияния на духовное состояние человечества, но, наоборот, резко опустившей моральный и духовный уровень людей.
А теперь, когда мы описали верхний слой видимого на картинах, заглянем в следующий слой понимания. Тора в недельной главе «Кдошим» приводит как странное требование к евреям, так и не менее странное обоснование этого требования: «… будьте святы, ибо свят Я, Г-сподь, Б-г ваш» (Ваикра 19:2, перевод Иеhошуа Штейнберга). Значение слова «святой», то есть «отделенный» в понимании Традиции, мы привели чуть выше. От евреев изначально требовалась отделенность. Отделенность и от народов мира, и от образа жизни этих народов. Евреи должны были выполнять все обычные земные функции людей этого мира не как смысл и содержание жизни, а как необходимость правильного существования в этом мире, куда они временно командированы для исполнения особой порученной им работы – изменения, возвышения, огранки своей вечной и бессмертной души. Они снабжены Пославшим их в эту командировку длиною в жизнь всеми необходимыми для выполнения этого задания инструментами. С одной стороны, возможностью Познания, врожденными талантом и тягой к нему и учебным материалом для этого Познания (как освященные традицией тексты, наука их изучения, развития, комментирования, так и сам мир и как поле познания Тв-рца, и как поле для работы, и как «лабораторный материал»). С другой стороны, правилами поведения в этом мире, которые отделяют евреев от других народов мира и обеспечивают как необходимую для успешного выполнения их задания отделенность, так и саму возможность выполнить порученную им работу – заповедями в огромном количестве (более шести сотен, точнее 613) и требованием во время нахождения в земном мире жить нормальной и полноценной земной жизнью, соблюдая все данные евреям заповеди. Но не просто полноценной земной жизнью, а жизнью, наполненной в первую и главную очередь вечным и непрерывным Познанием и возвышением души.
Это было бы невозможно, если бы на евреев была возложена ответственность за результат их земной деятельности. Но она не возложена. Еврей отвечает только за полноту и правильность всех своих шагов, ведущих к результату (иврит: hиштадлю́т, полное старание), но не отвечает за результат. Правда, самоответственность (и в дальнейшем – ответственность перед Пославшим еврея в эту «командировку») за полноту и правильность всех шагов еврея, за непрерывную работу по различению добра и зла и непрерывному выбору добра куда тяжелее, чем достаточно призрачная ответственность представителей других народов за результат их работы.
При таком прочтении еврей, живущий по-еврейски, всегда находится в двух мирах – обычном земном и одновременно в отделенном, поднятом над землей, над ее тяготами и проблемами. Он и во временной земной жизни не покидает вечного Небесного Иерусалима и его библиотеки.
Поэтому две висящие рядом на стене музейного зала в земном Иерусалиме картины показывают нам не посмертную жизнь евреев в лучшем из миров, а всю ее в ее полном протяжении, как нынешнюю, земную, в этом мире, так и прошло-будущую жизнь еврея в ином мире. Еврей, живя в этом мире, одновременно парит над землей и водой, находясь в ином пространстве – пространстве Познания. Он всегда живет в условиях, которые другие народы считают нереальными для существования, сюрреалистичными в одновременных и нахождении внутри этого мира, и полном отделении от него.
Для кого – сюрреализм, а для кого – норма ежедневного существования!
Да, похоже, совсем не случайно встретились эти картины на одной стене музея в земном Иерусалиме, хотя такое их совместное прочтение, скорее всего, не входило в замыслы создавших их художников.