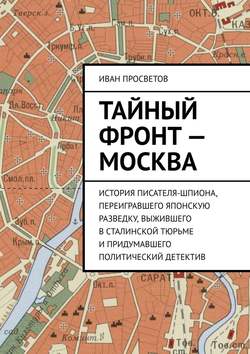Читать книгу Тайный фронт – Москва - Иван Просветов - Страница 5
ГЛАВА 3. РЕЖИМ СЕКРЕТНОСТИ
Оглавление«Я видел, как вели на допрос Сиднея Рейли…». Мэтр приключенческой прозы чуть улыбнулся, заметив удивление в глазах собеседника. Ленинградский писатель Михаил Хейфец познакомился с Романом Кимом зимой 1967 года на встрече в местном отделении Союза писателей СССР. Слово за слово, обсудили и только что вышедший на телеэкраны фильм «Операция «Трест»» – историю ареста чекистами в 1925 году британского суперагента Сиднея Рейли. Ким посетовал, что сценарий доверили писать не ему: «Я же всех персонажей лично знал»64.
Персонажи «Треста» – это, прежде всего, начальник советской контрразведки Артур Артузов, разработавший операцию по заманиванию Рейли в СССР, и его заместитель Владимир Стырне. Но что могло связывать молодого преподавателя японской истории и языка с одной из самых секретных советских служб и ее руководителями? Только секретная служба. Как выпускник Дальневосточного университета оказался в центральном аппарате ОГПУ – Объединенного государственного политического управления, преемника ВЧК?
Вернемся обратно, во Владивосток.
***
«Город, переживший многое за период интервенции, сохранил весь свой капиталистический уклад, с частной торговлей и частными предприятиями, кабаками и развлекательными заведениями, – вспоминал оперуполномоченный Приморского губотдела ГПУ Иван Булатов, прибывший из Читы (в ноябре 1922 года ДВР присоединилась к РСФСР, и ее Госполитохрана влилась в структуру ГПУ). – А если к этому прибавить еще наличие множества иностранных торговых и иных представительства, сотрудники которых усиленно занимались разведывательной работой, то можно понять, какая работа ожидала нас здесь»65.
Отделение «Тохо» закрылось, Отакэ отбыл в Токио. Роман Ким усиленно готовился к экзаменам. Научная карьера, помимо самореализации, оставалась для него главным способом содержать семью – жену-студентку и престарелого отца. Когда в январе 1923 года ректор ГДУ профессор Евгений Спальвин создавал местное отделение Дальневосточного отдела Всероссийской научной ассоциации востоковедения, то должность секретаря оргбюро предложил Киму. Для первых публичных выступлений членов Владивостокского подотдела ВНАВ он подготовил лекцию «Социально-политические проблемы Дальнего Востока: классовые предрассудки в Японии – ета, низшие расы в Китае – хакка». По одному только выбору темы понятно, что Ким видел и ощущал себя ученым-исследователем. «Р. Н. Ким, рекомендованный в состав научных сотрудников по кафедре экономики Дальнего Востока, совершенно свободно владеет японским языком, читает и пишет, – отмечено в списке членов Дальотдела ВНАВ. – Им разработана история Японской революции (с материалистической точки зрения) и история японской промышленности»66.
И он к тому моменту уже числился сотрудником ГПУ.
«Сам я никогда бы на эту работу не пошел», – уверял Роман Николаевич, оказавшись под следствием. Как-то раз в последние дни ноября 1922 года к нему домой заглянул Борис Богданов – знакомый по университету, закончивший китайское отделение восточного факультета и поступивший на службу в Приморский губотдел ГПУ. Он и предложил Киму пойти в чекисты, сказав, что ему «доверяют как хорошему и преданному работнику». На дальнейшем доследовании Роман Николаевич добавил: «Вначале мне заявили, что я буду составлять обзоры, делать экспертизы, выполнять ответственные переводы и т.д., что меня как япониста вполне устраивало. В дальнейшем, когда мне поручили выполнять специальные задания – знакомиться с влиятельными японцами во Владивостоке и выявлять их взгляды и настроения, это меня заинтересовало и с точки зрения детективной». «Разве у вас было к этому стремление?» – удивился следователь. «Да», – коротко ответил Ким67.
Можно как угодно понимать эти слова. Возможно, Киму было удобно дать столь простое и понятное объяснение своим мотивам. Или же он таким образом переосмыслил прошлое. Рассказывая коллегам по Союзу писателей о значении детективной литературы, романтике раскрытия тайны и торжества логики, он упомянул о том, что разведчики «тоже работают путем логики»68.
В чем нет сомнений – Роман Ким согласился служить в ГПУ не ради «установления социалистической организации общества и победы социализма во всех странах» (цитата из конституции РСФСР). В анкете, подшитой к его следственному делу, в графе «Сведения об общественно-политической деятельности» значится: «Не вел никакой». В своих статьях о пролетарской литературе (японской) и «задачах оборонных писателей» (советских) Ким не цитировал ни Ленина, ни Сталина и не написал ни строчки о достижениях и всемирно-исторической миссии СССР. Ким – убежденный антиимпериалист, это настроение присутствует почти во всех его сочинениях конца 1920-х – начала 1930-х годов. Он довольно едко отзывается о японском государстве, его экспансионистских замашках, жандармском режиме и банзай-патриотизме. Но так будет после 1922 года. Почему же, когда «профессора предрекали мне карьеру ученого, и я сам собирался стать историографом», все вдруг переменилось?
Конечно, секретная работа дает определенные преимущества. Недаром Ким говорил, что предложение ГПУ «мне польстило». Но был здесь еще интеллектуальный азарт. Возможность изучать Японию с теневой стороны. Та рискованная игра, вкус которой Роман почувствовал в годы гражданской войны, менялась на менее опасное, но более сложное противоборство, каким является контрразведка. Предполагал Ким или нет, что правила на этом поприще отличаются от обыденных представлений о нравственности, но он принял их.
Выпускник Токийского колледжа, прекрасно знающий язык, традиции и привычки японцев, студент уважаемого университета, бывший сотрудник японского информационного агентства, знакомец консула Ватанабэ – лучшего агента чекистам было не найти. Приморские чекисты подозревали, что после ухода японских войск из Приморья разведывательная работа перешли в ведение генконсульства. «Особую заботу вызывала оставленная интервентами агентура. Занимался ею Иоган Ломбак, – рассказывал Булатов. – Помню, нам удалось добыть весьма ценные материалы, которые уличали японских дипломатов в их шпионской деятельности». Ломбак руководил контрразведывательным отделением ПримГПУ, именно с ним Роман Ким и «поддерживал связь»69.
«Ватанабэ был офицером генерального штаба, – утверждал в мемуарах полковник КГБ Дмитрий Федичкин, служивший в 1923—1924 годах уполномоченным, а затем замначальника отделения ПримГПУ. – В нашем распоряжении было немало документов, изобличавших его и сотрудников консульства в шпионаже – военном, экономическом, политическом». По словам Федичкина, у чекистов имелись агенты-корейцы среди обслуживающего персонала японского консульства, и особенно им помог некий молодой парень Ким, который «много видел и многое знал о работе консульства и о делах его сотрудников». В 1923 году благодаря сигналу от Кима удалось задержать во владивостокском порту бывшего белого офицера, шпионившего на японцев в Приморье под видом коммивояжера или странствующего монаха. Разведчика пытались вывезти за границу в дипломатическом багаже70.
В конце 1922 года во Владивосток прибыл секретарь МВД Японии Кагами Такэо для сбора информации о настроениях приморских корейцев. Действовал он через корейских же агентов, а поскольку некоторые из них были связаны с ГПУ, то чекисты взяли Кагами под наблюдение и в апреле 1923 года пресекли его деятельность71. Степень участия Романа Кима во всех этих разоблачениях неизвестна. Вероятно, он не только пользовался своими знакомствами среди японцев, но и был вовлечен в работу с корейской агентурой.
ПримГПУ удалось установить, что секретарь японского общества во Владивостоке, правление которого объединяло представителей крупнейших торговых фирм, является резидентом разведки. Агентурная сеть была нацелена на сбор сведений о воинских частях в Приморье и во Владивостоке, вплоть до выяснения, сколько корейцев служит командирами в Красной Армии. Чекисты разом ликвидировали ее в марте 1924 года, арестовав еще и коммерсанта, руководившего работой агентов. Он оказался бывшим начальником штаба японской военной разведки во Владивостоке72.
Если Ким, обосновавшись в Москве, и узнал об успешном завершении операции, то вряд ли сожалел о своем неучастии.
***
В феврале 1923 года Ким получил письмо от Отакэ. Бывший шеф сообщал, что «Тохо цусинся» открывает корпункт в Москве, назначает его представителем, и он предлагает Роману должность секретаря. Ким доложил о письме начальству. Пока руководство размышляло, Ким повторно получил приглашение – на этот раз через корреспондента «Тохо» во Владивостоке. Уезжать он не хотел, не желая ломать только-только начатую карьеру япониста, но последовал приказ «выехать в Москву с целью агентурной разработки Отакэ»73.
В студенческом деле Кима сохранилось заявление от 11 апреля 1923 года, в котором он обязался полностью уплатить недоимку за обучение до 10 мая. По всей видимости, он уже знал, что поедет в Москву и получит приличное жалование и подъемные – около 500 рублей золотом в пересчете на довоенный рубль. Примерно тогда же дела у Кима-старшего вдруг пошли на поправку. В справочнике «Весь деловой и торговый Владивосток» за 1924 год в списке домовладельцев за Н.Н.Кимом значится дом 3 на улице Уткина (этот скромный трехэтажный особнячок стоит там до сих пор).
В мае его сын сел на поезд и отбыл в Читу. Там он встретился с Отакэ, прибывшим из Харбина. И Отакэ, и Роман Ким были с женами. В столице они все вместе сначала поселились в гостинице «Княжий двор», позже Ким снял для себя и супруги квартиру на Трифоновской улице. Через неделю по прибытии его вызвали на Лубянку – к самому Артузову, создателю контрразведывательного отдела ГПУ РСФСР74.
«В маленькой комнате на диване лежал одетым усталый сонный мужчина средних лет, а рядом на стуле, задом наперед, сидел и курил мужчина помоложе, брюнет, раскосый… Лежал Артур Христианович Артузов, а сидел Миша Горб, тогдашние руководители нашей разведки. Мне шел двадцать пятый год, я был недурен собой и одет в мой лучший костюм, что особенно бросалось в глаза на фоне толстовок и тапочек московских студентов. На лице Горба отразилось явное недоброжелательство. Артузов, напротив, с видимым интересом принялся рассматривать меня и мой костюм, не скрывая доброжелательную улыбку.
– Ну, давайте знакомиться. Рассказывайте все о себе. Не тяните, но и не комкайте. Я хочу знать, из какой среды вы вышли.
Я рассказал все честно и прямо о своем происхождении. Горб нахмурился и окончательно помрачнел… Выслушав мой рассказ, Артузов обратился к Горбу:
– Ладно, ладно, Миша, все проверим, все в наших руках. Но товарища мы к делу пристроим. Испытаем в работе, а там будет видно…».
Разговор этот случился не с Кимом, а будущим разведчиком-нелегалом Дмитрием Быстролетовым в 1925 году, и не на Лубянке, а в одном из московских особняков75. Но с приезжим из Владивостока все могло быть ровно так же (и в дальнейшем Ким познакомится с Михаилом Горбом, у них даже будут совместные дела).
Роман Ким ничуть не походил на потенциального разведчика – задумчивый юноша с мягкими чертами лица, такие нравятся романтическим барышням. Происхождение и мотивы вызывали вопросы. Но имелись рекомендации, и начальник КРО умел разбираться в людях. «В нашей профессии чаще терпят неудачу те, у кого не развито чувство интуиции, наблюдательности, логической углубленности в порученное дело, умение вжиться в чужой образ, кто не понимает и плохо воспринимает характерные особенности информационной работы, – считал Артузов. – Среди нас есть разные по складу характера работники: забывчивые и рассеянные, строгие и сентиментальные, нервные и спокойные, торопливые и медлительные. Но все это остается для чекиста за порогом порученного дела. На моей памяти много примеров, когда с виду трусливый сотрудник с храбростью льва бросался в бой, под пули, нервный сжимался в комок, чтобы выстоять перед испытанием, которое ему устраивал противник, медлительный проявлял неимоверную активность и решительность, чтобы выполнить оперативное задание»76. Все нужные качества у Кима имелись.
По словам Артузова, Отакэ Хирокити прибыл в Москву «в качестве неофициального дипломатического представителя с целью подготовить почву для открытия японского посольства». Задача Кима – знакомиться со всей его корреспонденцией и следить за связями, которые Отакэ устанавливает в Москве. При возможности осторожно обрабатывать японца «в просоветском духе». После этой установочной беседы Ким иногда встречался с Артузовым но в основном «был на связи у Шпигельглаза»77. С 15 июня 1923 года он числится переводчиком 5-го (восточного) отделения КРО ОГПУ. Должность была условной – так оформляли многих негласных сотрудников ОГПУ и разведчиков-нелегалов.
В Москву Ким привез рукопись «О фашизме в Японии» (статью опубликовал журнал «Новый Восток»). Работая с японской прессой, он собрал богатый материал об ультраправых организациях Страны Восходящего солнца. Даже если не обращать внимания на стилистику, типичную для тех лет, все равно заметно, как претит автору деятельность «профессионал-патриотов» – пропаганда национального превосходства и беспредельной верности императору, агрессивность ко всем, кто поддался опасным заморским веяниям, особенно к рабочим, отстаивающим свои права.
Для выпускника ГДУ нашлась должность преподавателя в Московском институте востоковедения им. Нариманова. Весной 1924 года его включили в Центральную комиссию по японоведению Научной ассоциации востоковедения СССР при Президиуме ЦИК СССР. Известны темы некоторых докладов с которыми Ким выступал на заседаниях комиссии наравне с авторитетными учеными: «„Каста нечистых“ в Японии в прошлом и настоящем», «Идейные течения в Японии после мировой войны»78.
Издательство «Новая Москва» приняло у него переводы двух рассказов Акутагавы для альманаха «Восточные сборники». На русском языке молодой мэтр японской литературы печатался впервые. Акутагава Рюноскэ (исследователь парадоксов человеческих желаний и поступков, считавший, что жизнь похожа на коробку спичек: обращаться с ней серьезно – глупо, несерьезно – опасно) был любимым писателем Кима. «Акутакава славится своими short stories, некоторые из них по совершенству композиции и техники выполнения могут сравниться с рассказами Чехова, Мопассана, Генри, Замятина и др. мастеров новеллы. Во многом Акутакава подражает Анатолю Франсу, от которого перенял иронический тон, любовь к сентенциям, пропитанным изящным скептицизмом, и умение стилизации. Язык его рассказов в высшей степени прост и ясен, и тому, кто хочет ознакомиться с лучшими достижениями новейшей японской прозы, необходимо обратиться к произведениям этого писателя»79
64
М. Хейфец. Советская жизнь: опыт и мысли. / Интернет-журнал «Заметки по еврейской истории», №3, 2010.
65
И. Булатов. Первые чекисты Приморья // Линия огня. – Владивосток, 1982. Стр. 26—27.
66
Из истории востоковедения на российском Дальнем Востоке 1899—1937 гг.: документы и материалы. – Владивосток, 2000. Стр.125, 132, 134. Ким оставался в Дальотделе ВНАВ после того, как Е.Г.Спальвина на должности ректора ГДУ заменил профессор В.И.Огородников.
67
ЦА ФСБ России, д. Р-23731, т.1, л. 300—301, т.2, л. 11—12. Б. Богданов в 1930-х дослужился до помощника начальника разведки УНКВД по Дальневосточному краю, и Р. Ким, вероятно, надеялся на проверку своих показаний. Он не знал, что Богданов тоже арестован – как участник троцкистского заговора. Однако это упоминание ему не «вышло боком».
68
РГАЛИ, ф. 2809, оп. 1, д. 173, л. 28об, 42—42об.
69
ЦА ФСБ России, д. Р-23731, т.2, л.11.
70
Д. Федичкин. Именем революции. // Линия огня. – Владивосток, 1982. Стр. 167—168.
71
Х. Фунакава. Инцидент с арестом сотрудников генерального консульства Японии во Владивостоке. // «Ойкумена», №1, 2012.
72
С.А.Куртинец. Разведывательно-подрывная деятельность японского консульства во Владивостоке в начале 20-х годов ХХ века // «Власть и управление на востоке России», №1, 2011.
73
ЦА ФСБ России, д. Р-23731, т.1, л. 116—117, т.2, л. 12—13.
74
Там же, т.1, л. 117—118, 154.
75
Д.А.Быстролетов Путешествие на край ночи. – М., 1996. Стр. 544.
76
Т.К.Гладков, Н.Г.Зайцев. «И я ему не могу не верить». – М., 1983. Стр.221.
77
ЦА ФСБ России, д. Р-23731, т.2, л.14; С. М. Шпигельглаз – уполномоченный КРО ГПУ, затем ИНО ОГПУ. В 1922—1923 годах работал в Монголии – участвовал в пресечении деятельности белогвардейских формирований, добывал через агентуру сведения о планах Японии и Китая на Дальнем Востоке. С июня 1935 года помощник начальника ИНО ОГПУ. Неоднократно выполнял спецзадания за рубежом, в 1937 году руководил похищением председателя РОВС генерала Миллера из Франции.
78
Хроника. / «Новый Восток», №5, 1924.
79
Два рассказа Акутакава Рюносукэ. Перевод Р. Н. Ким // «Восточные сборники. Литература – искусство». Вып. I. – М., 1924.