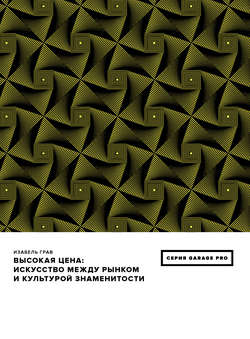Читать книгу Высокая цена. Искусство между рынком и культурой знаменитости - Изабель Грав - Страница 5
Глава 1
Триумфальный прогресс рыночного успеха
Символическая ценность, или Цена бесценного
ОглавлениеКак только произведения искусства входят в процесс обмена, они неизбежно приобретают свойства товара – этой «вещи, полной причуд», которая причинила Марксу столько хлопот[28]. Теоретические сложности, возникающие при определении товара, Маркс объясняет его двойственной природой как «полезной вещи» и «носителя ценности»[29]. В дальнейшем тот же принцип применялся и к произведениям искусства – например, Пьером Бурдьё, который, классифицируя произведения искусства как «символические продукты»[30], вкладывает двойственность в само это определение, ведь символический продукт – это одновременно и культурное достояние, и товар. Однако, развивая этот аргумент, нужно сказать, что произведения искусства расщеплены на символическую ценность и рыночную стоимость. Это вызывает в них высочайшее внутреннее напряжение. Но что же составляет символическую ценность? Она представляет собой выражение некоей неопределенной значимости, которую формируют несколько факторов: самобытность, признание со стороны истории искусства, репутация художника, подаваемые его работами признаки оригинальности и долговечности, а также его притязание на самостоятельность и интеллектуальное чутье. Таким образом, символическая ценность заключает в себе, помимо прочего, те повышенные требования к искусству, которые были сформулированы еще в XVIII веке, в частности Кантом, Шиллером и Винкельманом. В основе их лежит постулат, согласно которому искусство должно быть незаинтересованным наслаждением и сохранять свободу от какой-либо специфической функции. В такой перспективе символическая ценность предстает как результат исторического стремления к идеализации, по сей день приписывающего изящным искусствам превосходство и уникальность. В представлении о символической ценности окончательно оформился особый статус искусства, с трудом завоеванный на протяжении истории.
Иными словами, символическая ценность – это еще и кульминация сложившейся в XVIII веке мировоззренческой системы, которую французский философ Жак Рансьер назвал «эстетическим режимом искусства»[31]. По его словам, эстетический режим «утверждает абсолютное своеобразие искусства и в то же время уничтожает любой прагматический критерий этого своеобразия»[32]. Параллельно утверждению особого статуса искусства крепло и представление о том, что эстетический опыт должен быть принципиально общедоступным. Если следовать логике Рансьера, то выходит, что специализация и деспециализация, автономия и гетерономия суть стороны одной медали.
Очевидно, однако, что невозможно так просто распрощаться с созданной эстетиками-идеалистами мировоззренческой системой – этой, по выражению Вальтера Беньямина, «теологией искусства», – и в частности с ее претензией на автономность. Наделение искусства экстраординарной ценностью, которому способствовали Кант, Шиллер или Карл-Филипп Мориц, – это не просто учение в ряду других, оно накрепко привязывает к себе своих сторонников, и не в последнюю очередь потому, что основывается на определенной художественной практике, также в какой-то момент сосредоточившейся на своей ценности и автономности[33]. Иными словами, идея радикальной специфичности искусства возникла не на пустом месте: она выросла из художественной практики. Схожим образом переплелись претензия и реальность и в понятие символической ценности: с одной стороны, она является следствием идеализации и безнадежной перегрузки искусства, а с другой – выражением его вполне оправданного особого статуса.
Символическая ценность необычна тем, что ее нельзя измерить деньгами и вообще трудно выразить в экономических категориях. То, что критики и искусствоведы отстаивают как художественное достоинство того или иного произведения искусства, невозможно сформулировать в терминах экономической стоимости или, тем более, перевести в цену. В то же время у каждого произведения, когда оно циркулирует на рынке, есть своя цена, хотя этот факт по понятным причинам игнорируется идеалистическим взглядом на искусство как нечто бесценное. А между тем понятие символической ценности как чего-то, что нельзя измерить в золоте, как чего-то абсолютно неконвертируемого, также содержит зерно истины, и это особенно осложняет ситуацию. Произведение искусства бесценно, исходя из его символической ценности, и в то же время цена у него есть. Другими словами, его символическая ценность и рыночная стоимость не совпадают, хотя оно и обладает назначенной и запрашиваемой ценой. И наоборот, его цена оправдывается отсылкой к символической ценности, которая не может быть вычислена в материальном выражении. В таком случае можно сказать, что цена произведения искусства основывается на допущении его бесценности. Это также отличает произведение искусства от остальных товаров: его рыночная стоимость оправдывается исключительно его символической ценностью, которая, в свою очередь, является выражением его нагрузки идеалистическими понятиями.
Разумеется, и другие товары, особенно брендовые изделия, чем дальше, тем больше тоже характеризуются символической ценностью. Но от дизайнерской вещи вроде очков Dior не ждут «истины» или «эпистемологического прозрения», как от произведения искусства. А от произведения искусства, наоборот, ждут неких больших умозрительных результатов: оно, как считается, способно на откровения, которые, по расхожему выражению, трудно переоценить. Неизбежным следствием такого ценообразования, основанного на бесценности, становится, во-первых, представление о том, что цена искусства произвольна, коль скоро она отсылает к неизмеримой в материальном выражении символической ценности, а, во-вторых, «крайняя неопределенность» современного художественного рынка, о которой пишет социолог Раймонда Мулен[34]. Цена вообще неустойчива потому, что она представляет собой лишь форму, за которой скрывается проблема стоимости/ценности. Маркс указывает на возможность «отклонения цены от величины стоимости <…>. Следовательно, вещь формально может иметь цену, не имея стоимости»[35]. В качестве примера он приводит такие не-товары, как «совесть» и «честь», которые при определенных условиях приобретают цену, а вместе с нею и товарную форму. Подобно произведениям искусства, «совесть» и «честь» характеризуются символической ценностью, чья привлекательность выражается в ее цене. Однако в таких случаях, по словам Маркса, выражение цены является «мнимым». Цена присоединяется к вещи, не имеющей стоимости, как способ скрыть ее реальное отсутствие. Подобные мнимые цены встречаются и на арт-рынке, где их запрашивают за предметы, не имеющие художественной ценности. Причем в наши дни эти цены приравниваются к стоимости или ошибочно принимаются за нее. В действительности пустота обнаруживается не только за ценой произведений искусства, но и за их стоимостью, поскольку последняя всегда подлежит обсуждению и может быть оспорена. Для произведения искусства не может быть найдено адекватное ценовое выражение, ведь символическая ценность необычна как раз тем, что ее невозможно измерить.
И все же существуют пути и средства, позволяющие обойти «крайнюю неопределенность» ценности произведения искусства. Арт-дилеры очень изобретательны в способах доказательства оправданности цены на свой товар. Например, они любят ссылаться на себестоимость работы художника, дающую ее цене кажущееся объективное подтверждение. Для современной живописи разработан даже «коэффициент», суммирующий такие факторы, как давность создания картины, ее размер, репутацию автора и др., и позволяющий рассчитать цену, не затрагивая вопрос ценности. «Точные» методы вроде этого позволяют вывести цену из зоны произвола и придать ей видимость обладания реальным, материальным базисом.
Итак, символическая ценность искусства обнимает в себе множество элементов. Помимо интеллектуальной прозорливости, которая традиционно приписывается произведениям искусства, она опирается на исторически завоеванный особый статус искусства, на его самобытность, прочную связь с фигурой художника и обещание уникальности. Коль скоро символическая ценность так сверхдетерминирована исторически, «заоблачные» цены нисколько не удивляют, а, наоборот, представляются адекватными. В конце концов, если речь идет об оценке бесценного, то бесконечность не предел. С этой точки зрения нынешние результаты аукционных торгов отражают все, порой безнадежно преувеличенные, а порой не вполне оправданные надежды и ожидания, которые люди связывали и продолжают связывать с искусством.
28
Маркс К. Капитал. Кн. 1. Гл. I. 4. Товарный фетишизм и его тайна. Указ соч. С. 81.
29
Там же. Т. 1. Два фактора товара… Указ. соч. С. 44.
30
Bourdieu P. The Market for Symbolic Goods // The Rules Of Art… Op. cit. P. 141–175.
31
Cм. Рансьер Ж. Разделение чувственного. Эстетика и политика [2000] / Пер. В.Е. Лапицкого // Рансьер Ж. Разделяя чувственное. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в СПб., 2007. С. 25 и др.
32
Там же.
33
См.: Ten-Doesschate Chu P. The Most Arrogant Man in France: Gustave Courbet and the Nineteenth-Century Media Culture. Princeton/Oxford: Princeton University Press, 2007. P. 29: «Как показал Нил Маквильямс, <…> в 1830-е и 1840-е годы художники добились авторитета и почета, которые отделили их от обычных людей».
34
См. Moulin R. Le Marché de l’art. Mondialisation et nouvelles technologies. Paris: Flammarion, 2003.
35
Маркс К. Капитал. Кн. 1. Гл. III. 1. Мера стоимостей. Указ. соч. С. 112.