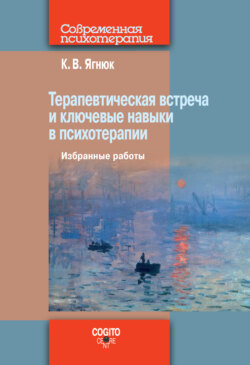Читать книгу Терапевтическая встреча и ключевые навыки в психотерапии - К. В. Ягнюк - Страница 3
Природа эмпатии и ее роль в психотерапии
ОглавлениеВ клиент-центрированной терапии Карла Роджерса и психоаналитической психологии самости Хайнца Кохута эмпатии принадлежит ключевая роль. Роджерс считал эмпатию основополагающей установкой терапевта в терапевтических отношениях и ключевым условием изменения личности клиента[1]. Кохут отстаивал позицию, что основным инструментом в психоаналитическом исследовании является именно эмпатия аналитика. Кроме того, он поместил эмпатическую откликаемость окружения ребенка в центр своей теории нарциссического развития самости. Благодаря влиянию Роджерса и Кохута понятие эмпатии было признано большинством терапевтических школ в качестве основополагающего навыка терапевта, необходимого для создания терапевтического климата. В данной статье будут рассмотрены различные представления о природе эмпатии и ее роли в терапевтическом процессе, накопленные главным образом в рамках клиент-центрированной и психоаналитической традиций.
Эмпатия – это сложное явление, которое с трудом поддается определению. В связи с этим имеет смысл обратиться к такому определению, которое разделяется большинством авторов. Начальной точкой, на наш взгляд, может послужить утверждение Мид о том, что «эмпатия предполагает способность занимать позицию другого» (Mead, 1934). Иначе говоря, эмпатия подразумевает принятие роли другого и понимание чувств, мыслей и установок другого человека.
Для образного представления акта эмпатии часто привлекаются такие метафорические описания как способность «прогуляться в ботинках», «влезть в шкуру» или «увидеть ситуацию глазами другого». Эти метафоры действительно содержат важный элемент эмпатического процесса, а именно разделение внутреннего опыта другого человека. Однако, эмпатия – это не просто отождествление с переживанием другого индивидуума. Рассмотрим простой пример: пациент начинает плакать. То, что терапевт непосредственно наблюдает, – это слезы и спертое дыхание, свидетельствующее о комке в горле. Эти сигналы соотносятся с собственными аналогичными ощущениями. Таким образом, терапевт начинает сопереживать пациенту. Вместе с ним терапевт может переживать некоторую боль и печаль, однако это не значит, что он находится с ним в слиянии. Терапевт лишь временно и со значительно меньшей интенсивностью переживает эти чувства. Вместе с тем он осознает, что данные переживания относятся к пациенту, что позволяет ему сохранить некоторую дистанцию от них. Другими словами, терапевт соприкасается с собственными чувствами, которые кажутся ему сходными с тем, что он наблюдает у пациента, но и делает поправку на расхождение опыта. Контекст опыта терапевта, даже весьма сходного с переживанием пациента, всегда должен быть дополнен обстоятельствами жизненной ситуации пациента и особенностями его субъективного восприятия и реагирования.
«Вслед за утверждением, что эмпатия подразумевает понимание внутреннего мира другого человека, встает вопрос: „Имеется ли в виду феноменологический мир человека, т. е. мир, который создает он сам? Или речь идет о понимании, основанном на психологической интерпретации внутреннего мира человека, т. е. мира, который человек мог бы знать, если бы полнее осознавал свои переживания и мотивы?“» (Warner, 1999). Для ответа на этот вопрос давайте более подробно рассмотрим феноменологический и психоаналитический подход к пониманию природы эмпатии и ее роли в терапевтическом процессе.
1
Термины «клиент» (гуманистическая традиция) и «пациент» (психоаналитическая традиция) в этой статье равнозначны.