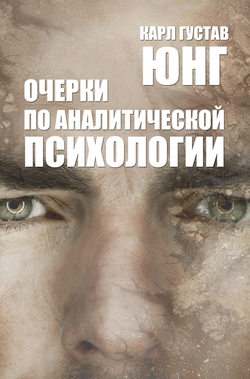Читать книгу Очерки по аналитической психологии - Карл Густав Юнг - Страница 13
О психологии бессознательного
VII. Коллективное бессознательное: архетипы
ОглавлениеТеперь перед нами стоит задача возвести на уровень субъекта те отношения, которые сначала были осмыслены на уровне объекта. Для этой цели необходимо отделить их от объекта и понять в качестве символических изображений субъективных комплексов пациентки. Поэтому, пытаясь истолковать образ госпожи X. на уровне субъекта, мы должны понять ее как определенную персонификацию некоторой частичной души, соответственно и некоторого определенного аспекта самой сновидицы. Тогда госпожа X. представляет собой образ того, кем хотела бы и все же не хочет стать пациентка. Госпожа X., таким образом, представляет некий односторонний образ будущего, свойственный характеру пациентки. Тревожащий образ художника поначалу не поддается возведению на уровень субъекта, так как момент бессознательных художественных способностей, дремлющих в пациентке, уже достаточно выражен в образе госпожи X. Можно было бы не без оснований утверждать, что художник является образом мужского начала в пациентке, которое не реализовано сознательно и поэтому пребывает в бессознательном[65]. В определенном смысле это справедливо, поскольку она в этом отношении фактически заблуждается на свой счет, т. е. кажется себе исключительно нежной, чувствительной и женственной, а отнюдь не мужеподобной. Поэтому, впервые обратив внимание молодой женщины на мужские черты в ее облике, я вызвал у нее невольное удивление. Однако момент тревожного, захватывающе-очаровывающего состояния не вписывается в ее мужские черты. Для них это, видимо, совсем нехарактерно. И все же где-то он должен скрываться, так как она сама же продуцировала это чувство.
Если мы не можем найти данный момент непосредственно в нашей сновидице, тогда он всегда, как подсказывает опыт, оказывается спроецированным. Но на кого? Заключен ли он все еще в художнике? Тот давно уже исчез из поля ее зрения и, надо полагать, не мог унести с собой проекцию, ибо она ведь закреплена в бессознательном пациентки. А кроме того, несмотря на произведенное на нее завораживающее впечатление, у нее не было с этим мужчиной никаких личных отношений. Он представлял для нее еще один образ фантазии. И все же такая проекция всегда актуальна, т. е. где-нибудь должен находится некто, на кого это содержание спроецировано, в противном случае она ощутимо имела бы его в себе.
Итак, мы снова возвращаемся на объективный уровень, так как по-иному нельзя выявить эту проекцию. Пациентка не знакома, кроме меня, ни с одним мужчиной, который так или иначе значил бы для нее что-то особенное, а я как врач имею для нее большое значение. Можно, таким образом, предположить, что она спроецировала свое содержание на меня. Правда, ничего подобного я пока не замечал. Однако даже самые характерные проявления в процессе лечения никогда не выступают на поверхности, но всегда дают о себе знать во внелечебное время. Поэтому я как-то осторожно спросил: «Скажите-ка, каким вам представляюсь я, когда вы не у меня на приеме? Остаюсь ли я в таких случаях прежним?» Она ответила: «Когда я у вас, вы очень добродушны, но когда я остаюсь одна или когда долго вас не вижу, ваш образ часто удивительно меняется. Иногда вы мне кажетесь совершенно идеальным, а потом опять-таки иным». Здесь она запнулась, я помог ей: «Да, и каким же?» – «Иногда весьма опасным, жутким, как злой колдун или демон. Не знаю, что это мне приходит в голову. Вы ведь не такой».
Как видим, содержание ее бессознательного было перенесено на меня и поэтому в ее душевном инвентаре отсутствовало. Здесь мы узнаем еще один существенный момент. Я был контаминирован (идентифицирован) с художником, и в таком случае в бессознательной фантазии она, разумеется, противостоит мне как госпожа X. Мне удалось, привлекая ранее выявленный материал (сексуальные фантазии), легко доказать ей сей факт. Но тогда и я сам оказался также препятствием, «раком», мешающим ей перебраться на другую сторону. Если бы мы в данном случае ограничились уровнем объекта, то положение стало бы затруднительным. Что толку было бы от моего заявления: «Но ведь я же не тот самый художник, во мне нет ничего жуткого, я не злой колдун и т. д.?» Это не произвело бы на пациентку никакого впечатления, так как она знает это не хуже меня. Проекция по-прежнему сохраняется, и я действительно остаюсь препятствием для ее дальнейшего прогресса.
Можно привести немало случаев, когда лечение стопорилось именно на этом пункте, ибо есть лишь один способ выбраться из тисков бессознательного. Заключается он в том, что теперь сам врач переводит себя на уровень субъекта, т. е. объявляет себя неким образом. Образом чего? В этом и заключается величайшая трудность. «Ну, – скажет врач, – образом чего-то, что заключено в бессознательном самой пациентки», на что она ответит: «Как! Я, оказывается, мужчина, да еще к тому же жуткий, завораживающий, злой колдун или демон? Ни за что и никогда я не могу с этим согласиться: это чушь! Скорее уж я поверю, что это вы такой». И она действительно вправе так сказать. Нелепо стремиться перенести что-либо подобное на ее личность. Она ведь не может позволить превратить себя в демона, так же как не может допустить этого и врач. Ее глаза будут метать искры, ее лицо исказит злое выражение, вспышка какого-то неизвестного, никогда невиданного противодействия. Я сразу предвижу возникшую опасность мучительного недоразумения, но не отказываюсь от своего мнения. Что это такое? Разочарованная любовь? Обида, унижение? Во взгляде пациентки таится нечто хищное, нечто действительно демоническое. Значит, она все же некий демон? А может быть, я сам хищник, демон, а передо мной сидит исполненная ужаса жертва, с животной силой отчаяния пытающаяся защититься от моих злых чар? Но это же все наверняка бессмыслица, ослепление фантазией. Какую же новую струну я задел? Однако это все же некий преходящий момент. Выражение лица пациентки снова становится спокойным, и она говорит как бы с облегчением: «Удивительно, сейчас у меня было такое чувство, что вы затронули пункт, который я в отношениях с подругой никогда не могла преодолеть. Это ужасное чувство, что-то нечеловеческое, злое, жестокое. Я даже не могу описать, какое это жуткое чувство. В такие моменты оно заставляет меня ненавидеть и презирать подругу, хотя я изо всех сил противлюсь этому».
Эта фраза и проливает на инцидент проясняющий свет: я занял в ее душе место подруги. Подруга побеждена. Лед вытеснения проломлен. Пациентка, не зная того, вступила в новую фазу своей жизни. Теперь я знаю, что все то болезненное и злое, что заключалось в ее отношении к подруге, будет проецироваться на меня, впрочем, как и доброе, но – в яростном столкновении с тем опасным неизвестным, что пациентка никогда не могла преодолеть. Таким образом, можно заключить, что это новая фаза переноса, которая, пожалуй, еще не позволяет ясно разглядеть, в чем же состоит то неизвестное, что спроецировано на меня.
Ясно одно: если пациентка застрянет на этой форме переноса, то возникнет опасность тяжелейших недоразумений, ибо тогда ей придется обращаться со мной так, как она обращалась со своей подругой, т. е. неизвестное постоянно будет витать где-то в воздухе и порождать недоразумения. И потом все же получится, что она увидит демона во мне, ибо не может допустить, что демон – в ней самой. Таким образом возникают все неразрешимые конфликты. А неразрешимый конфликт прежде всего означает жизненный застой.
Но может быть другая возможность: против новой трудности пациентка применит свои старые защитные средства и не обратит внимания на этот темный пункт, т. е. она снова вытеснит, вместо того чтобы сознательно удерживать, что, собственно, и есть необходимым и самоочевидным требованием всего метода. Тем самым мы ничего не выигрываем, напротив, теперь неизвестное угрожает со стороны бессознательного, а это еще более неприятно.
Когда всплывает такой неприятный момент, мы всегда должны отдавать себе точный отчет в том, является ли он вообще личностным качеством или нет. «Колдун» и «демон» могли представлять качества, которые все же существенно обозначены так, что сразу можно заметить: это не личностно-человеческие качества, а мифологические. «Колдун» и «демон» являются мифологическими фигурами, выражающими то неизвестное, «нечеловеческое» чувство, которое овладевало тогда пациенткой. Эти атрибуты, таким образом, отнюдь нельзя применить к отдельной человеческой личности, хотя они, как правило, в виде интуитивных и не подвергнутых более основательной проверке суждений все же постоянно проецируются на окружающих, что наносит величайший ущерб человеческим отношениям.
Такие атрибуты всегда указывают на то, что проецируются содержания сверхличного, или коллективного бессознательного, ибо «демоны», как и «злые колдуны», не являются личностными воспоминаниями, хотя, естественно, каждый когда-то слышал или читал о чем-то подобном. Если человек о гремучей змее только слышал, то он не будет с соответствующими эмоциями мгновенно вспоминать о ней, заслышав шуршание ящерицы. Точно так же мы не будем называть нашего ближнего демоном, если с ним не связано некое деяние, имеющее демонический характер. Но будь это деяние и в самом деле элементом его личности, оно должно бы проявляться во всем, а тогда этот человек был бы именно неким демоном, кем-то вроде оборотня. Но это – мифология, т. е. психика коллективная, а не индивидуальная. Поскольку мы через наше бессознательное причастны к исторической коллективной психике, то, конечно, бессознательно живем в неком мире оборотней, демонов, колдунов и т. д., поскольку эти образы наполняли древнее время мощнейшими аффектами. Таким же образом мы причастны к миру богов и чертей, святых и грешников, но было бы бессмысленно стремиться приписывать эти заключенные в бессознательном возможности лично себе. Поэтому, безусловно, необходимо проводить как можно более четкое разграничение между тем, что можно приписать личности, и сверхличностным. Разумеется, ни в коем случае не следует отрицать порой весьма действенного существования содержаний коллективного бессознательного. Но как содержания коллективной психики они противопоставлены психике индивидуальной и отличаются от нее. У наивных людей, естественно, такие проявления никогда не отделялись от индивидуального сознания, потому что ведь эти боги, демоны и т. д. понимались не как душевные проекции и потому не как содержания бессознательного, но как несомненные реальности. Лишь в эпоху Просвещения было обнаружено, что боги на самом деле не существуют, а являются всего лишь проекциями. Так с ними и было покончено. Однако отнюдь не было покончено с соответствующей им психической функцией, напротив, она ушла в сферу бессознательного, из-за чего люди сами оказались отравленными избытком либидо, который прежде находил себе применение в культе идолов. Обесценивание и вытеснение такой сильной функции, как религиозная, естественно, имело значительные последствия для психологии отдельного человека. Дело в том, что обратный приток этого либидо чрезвычайно усиливает бессознательное, которое своими архаичными коллективными содержаниями начинает оказывать мощное влияние на сознание. Период Просвещения, как известно, завершился ужасами французской революции. И сейчас мы тоже переживаем такое возмущение бессознательных деструктивных сил коллективной психики, в результате чего было развязано невиданное прежде массовое убийство[66]. Вот то, к чему стремилось бессознательное. Перед этим его позиция была безмерно усилена рационализмом современной жизни, который обесценивал все иррациональное и тем самым погружал функцию иррационального в бессознательное. Но если уж такая функция находится в бессознательном, то ее действие, исходящее из бессознательного, становится опустошающим и неудержимым подобно неизлечимой болезни, очаг которой невозможно уничтожить, так как он невидим. В таком случае индивидуум, как и народ, вынужден жить иррациональным и применять свой высший идеализм и самое изощренное остроумие еще лишь для того, чтобы как можно более совершенно оформить безумие иррационального. В малом масштабе мы видим это на примере нашей пациентки, которая избегала кажущейся ей иррациональной жизненной возможности (госпожа X.), чтобы ее же в патологической форме с величайшим самопожертвованием реализовать в отношении к своей подруге.
Единственная возможность здесь заключается в том, чтобы признать иррациональное в качестве необходимой – потому что она всегда наличествует – психической функции и ее содержания принять не за конкретные (это было бы шагом назад!), а за психические реальности – реальности, поскольку они суть вещи действенные, т. е. действительности. Коллективное бессознательное как оставляемый опытом осадок и вместе с тем как некоторое его, опыта, a priori является образом мира, который сформировался уже в незапамятные времена и в котором с течением времени выкристаллизовались определенные черты, так называемые архетипы, или доминанты. Это господствующие силы, боги, т. е. образы доминирующих законов и принципы общих закономерностей, которым подчиняется последовательность образов, вновь и вновь переживаемых душой. (Как уже было отмечено, архетипы можно рассматривать как результат и отражение имевших место переживаний, но точно так же они являются факторами, которые служат причинами подобного рода переживаний.) Поскольку эти образы являются относительно верными отражениями психических событий, их архетипы, т. е. их основные черты, выделенные в процессе накопления однородного опыта, соответствуют также определенным всеобщим основным физическим чертам. Поэтому возможен перенос архетипических образов непосредственно как понятий созерцания на физические события: например, эфир – древнейшая материя дыхания и души, которая, можно сказать, представлена в воззрениях всех народов мира, затем энергия, магическая сила – представление, которое также имеет всеобщее распространение.
В силу своего родства с физическими явлениями[67] архетипы нередко выступают в спроецированном виде, причем проекции, когда они бессознательны, проявляются у лиц, принадлежащих к той или иной среде, как правило, в качестве ненормальных пере- или недооценок, как возбудители недоразумений, споров, грез и всякого рода безумия. Поэтому говорят: «Из него делают бога», или, наоборот: «Имярек производит на X. дьявольское впечатление». Из этого возникают также современные мифологические образования, т. е. фантастические слухи, подозрения и предрассудки. Поэтому архетипы являются в высшей степени важными вещами, оказывающими значительное воздействие, и к ним надо относиться со всей серьезностью. Их не следовало бы просто подавлять, напротив, они достойны того, чтобы самым тщательным образом быть принятыми в расчет, так как они несут в себе опасность психического заражения. Поскольку архетипы чаще всего выступают в качестве проекций и так как последние закрепляются лишь там, где для этого есть повод, то они отнюдь не легко поддаются оценке и обсуждению. Поэтому, если некто проецирует на своего ближнего образ дьявола, это получается потому, что тот человек имеет в себе нечто, делающее возможным закрепление подобного образа, но мы вовсе не говорили, что тот человек сам, так сказать, есть какой-то дьявол. Напротив, он может быть замечательным человеком, который, однако, находится в отношении несовместимости с проецирующим, и поэтому между ними возникает некоторый «дьявольский», т. е. разделяющий, эффект. Равным образом и проецирующий вовсе не должен быть «дьяволом», хотя ему следует признать, что он также имеет в себе нечто «дьявольское» и, проецируя его, еще больше оказывается в его власти. Но сам он отнюдь еще не является «дьявольским», а может быть столь же достойным человеком, как и другой. Появление в данном случае образа дьявола означает: эти два человека несовместимы (сейчас и в ближайшем будущем), почему бессознательное и отталкивает их друг от друга и мучительным образом удерживает на дистанции. Дьявол является вариантом архетипа тени, т. е. опасного аспекта непризнанной, темной половины человека.
Существует еще один архетип, с которым мы почти регулярно сталкиваемся в проекциях коллективно-бессознательных содержаний, – это «колдовской демон», чаще всего производящий жуткое впечатление. Хороший пример этого – Голем Майринка, а также тибетский колдун в его «Летучих мышах», магическим образом развязывающий мировую войну. Разумеется, Майринк узнал это не от меня, а свободно выкристаллизовал из своего бессознательного, выражая в образе и слове сходное чувство, подобно тому как пациентка проецировала его на меня. Тип колдуна встречается также в «Заратустре», в «Фаусте» же – это сам герой.
Образ такого демона, пожалуй, относится к одной из низших древнейших ступеней в развитии понятия бога. Это тип первобытного племенного колдуна или шамана, личности особенно одаренной, заключающей в себе магическую силу. Мы знаем, что представление о шамане, общающемся с духами и обладающем магической силой, у многих первобытных народов укоренено настолько глубоко, что они даже полагают, будто у зверей тоже есть свои «доктора». Так, ахумави в Северной Калифорнии говорят об обычных койотах и о «койотах-докторах». Итак, фигура такого колдуна-врачевателя, если она представляет некоторый негативный и, случается, опасный аспект, часто обрисовывается как темнокожая и относящаяся к монголоидному типу. Порой ее лишь с большим трудом или почти нельзя отличить от тени, но чем больше преобладает в ней магическая черта, тем легче она может быть отделена от тени, что немаловажно постольку, поскольку она может иметь также и позитивный аспект мудрого старого человека[68].
Познание архетипов является значительным шагом вперед. Магическое или демоническое действие, оказываемое ближним, исчезает благодаря тому, что тревожное чувство сводится к некоторой определенной величине коллективного бессознательного. Зато теперь перед нами встает новая задача: каким образом «я» должно размежеваться с этим психологическим «не-я». Можно ли довольствоваться констатацией действенного существования архетипов, а в остальном предоставить дело самому себе? Но тогда возникло бы перманентно диссоциированное состояние, а именно – раскол между индивидуальной и коллективной психикой, и мы имели бы, с одной стороны, дифференцированное и современное «я», а с другой – нечто вроде древней негритянской культуры, иными словами – некоторое первобытное состояние. Тогда то, что мы действительно сегодня имеем перед собой (а именно кору цивилизации, покрывающую некую темнокожую бестию), предстало бы перед нашим взором в ясно разделенном виде. Такая диссоциация требует, однако, немедленного синтеза и развития того, что неразвито. Должно произойти объединение обеих частей, ибо в противном случае первобытное начало, несомненно, снова было бы неизбежно подавлено. Но это возможно лишь там, где существует еще значимая и потому живая религия, которая с помощью богато развитой символики дает достаточное выражение первобытному человеку, т. е. эта религия в своих догматах и ритуалах отражает представления и действия, восходящие к наидревнейшему обычаю. Так обстоит дело в католицизме, и это составляет его особое преимущество, так же как и его величайшую опасность.
Прежде чем перейти к новому вопросу о возможном синтезе, снова вернемся к сновидению, из которого мы исходили. После всего нашего анализа мы получили более широкое понимание сновидения, и притом особенно одной его существенной части – страха. Это первобытный страх перед содержаниями коллективного бессознательного. Мы видим, что пациентка идентифицирует себя с госпожой X. и тем самым выражает, что она находится также в некотором отношении к магическому художнику. К тому же оказывается, что врач был идентифицирован с художником, и далее мы видели, что «я», на уровне субъекта, был образом для принадлежащей бессознательному фигуры колдуна.
В сновидении все это скрывается за символом рака – того, кто движется назад. «Рак» есть живое содержание бессознательного, и это содержание ни в коем случае не может быть исчерпано или лишено эффективности анализом на уровне объекта. Но мы уже смогли достичь отделения мифологических коллективно-психологических содержаний от объектов сознания и их консолидации как психических реальностей вне индивидуальной психики. Посредством акта познания мы «полагаем» действительность архетипов; т. е., точнее говоря, на основе познания постулируем психическое функционирование таких содержаний. Следует со всей определенностью констатировать, что речь здесь идет не только о содержании познания, но и о транссубъективных, обладающих значительной автономностью психических системах, которые, пожалуй, лишь незначительно подчинены контролю сознания и, вероятно, большей частью даже избегают этого контроля.
До тех пор, пока коллективное бессознательное остается неразрывно соединенным с индивидуальной психикой, невозможно дальнейшее продвижение вперед; говоря языком сновидения, границу перейти нельзя. Но когда сновидица собирается все же сделать это, тогда бывшее прежде бессознательным оживает, охватывает ее душу и прочно удерживает. Сновидение и его материал характеризуют, с одной стороны, коллективное бессознательное как скрыто живущее в водной глуби низменное животное, а с другой – как опасную болезнь, от которой, если своевременно прооперировать, можно излечиться. Насколько эта характеристика правильна, мы уже видели. Символ животного точно указывает, как уже отмечалось, на вне-человеческое, т. е. сверхличностное, ибо содержания коллективного бессознательного представляют собой не только остатки архаических специфически человеческих способов функционирования, но и остатки функций ряда животных, предков человека, продолжительность существования которых была бесконечно долгой по сравнению с относительно короткой эпохой специфически человеческого существования[69]. Такие остатки, или энграммы, если они активны, более всего способны не только затормозить процесс развития, но и обратить его в регресс, что может продолжаться до тех пор, пока не будет израсходована масса энергии, активизировавшая коллективное бессознательное. Однако энергия становится полезной лишь тогда, когда она сознательным противопоставлением коллективному бессознательному также может включаться в расчет. Религии через культовое общение с богами самым конкретным образом установили этот энергетический круговорот. Но такой способ, на наш взгляд, слишком уж сильно противоречит интеллекту и его познавательной нравственности, и к тому же исторически он весьма основательно подорван христианством, чтобы мы могли считать для себя образцовым или хотя бы даже возможным такое решение проблемы. Если же мы, напротив, понимаем фигуры бессознательного как коллективно-психические феномены или функции, то такое допущение никоим образом не противоречит интеллектуальной совести. Такое решение вполне согласуется с рациональной точкой зрения. Тем самым мы получаем также возможность разобраться с активизированными остатками нашей родовой истории. Это разбирательство позволяет осуществить переход прежней границы, и поэтому я называю его трансцендентной функцией, что равнозначно прогрессивному развитию к некоторой новой установке.
Нередко бросается в глаза параллель с героическим мифом. Часто типичная героическая борьба с чудовищем (бессознательным содержанием) происходит на каком-нибудь берегу или, скажем, на перекате, что особенно характерно для мифов индейцев, которые известны нам из «Песни о Гайавате» Лонгфелло. Героя (как библейского Иону), как правило, в решительной схватке проглатывает чудовище – все это на обширном материале показал Фробениус[70]. Однако внутри чудовища герой начинает по-своему разбираться с бестией, пока эта тварь вместе с ним плывет на восток, к восходящему солнцу: он отсекает у нее какую-нибудь жизненно важную часть внутренностей, например сердце (это есть именно та ценная энергия, которая активизировала бессознательное). Убитое таким образом чудовище затем прибивается к берегу, где герой, заново рожденный после так называемого плавания по ночному морю[71] (трансцендентная функция), выходит наружу, нередко вместе с теми, кого чудовище проглотило раньше. Так восстанавливается прежнее нормальное состояние, ибо бессознательное, лишенное теперь своей энергии, уже не занимает преобладающей позиции. Так миф весьма наглядно изображает проблему, которая занимает и нашу пациентку[72].
Теперь я должен подчеркнуть то немаловажное обстоятельство, на которое, должно быть, обратил внимание читатель: в этом сновидении коллективное бессознательное представлено в негативном аспекте, как нечто опасное и вредное. Это происходит оттого, что мир фантазий, в котором живет пациентка, не только богато развит, но у нее чрезмерно разросся, что, возможно, связано с ее литературной одаренностью. Правда, ее фантазирование является симптомом болезни, поскольку дама чересчур страстно отдается ему, тогда как реальная жизнь проходит мимо нее. Добавление мифологии было бы для нее действительно опасным, поскольку ей предстоит еще большая часть пути внешней, не прожитой жизни. Она еще слишком мало включена в реальную жизнь, чтобы быть в состоянии пойти на риск преобразования своей позиции. Коллективное бессознательное овладело ею, угрожая увести от еще недостаточно реализованной действительности. Исходя из смысла сновидения коллективное бессознательное должно было представляться ей как нечто опасное, иначе бы она весьма охотно превратила его в убежище, чтобы было где укрыться от требований жизни.
Оценивая сновидения, необходимо обратить самое пристальное внимание на то, как показываются его фигуры. Так, например, рак, олицетворяющий бессознательное, – фигура негативная, поскольку он, как говорится, «пятится» и, кроме того, в решающий момент хватает и удерживает пациентку. Многие, соблазнившись идеей Фрейда, открывшего пресловутые «механизмы сновидения», такие как смещения, обращения и т. и., полагали, что могут обеспечить себе независимость от так называемого «фасада» сновидения, поскольку, мол, подлинное содержание сновидения скрывается на заднем плане. Я же, напротив, уже давно отстаиваю точку зрения, что у нас нет никакого права подозревать сновидение в каких-либо намеренно обманных маневрах. Природа, хотя и бывает для нас часто темной и загадочной, никогда, по сути, не бывает хитрой подобно человеку. Поэтому мы должны принять, что сновидение является именно тем, чем оно и должно быть, ни больше ни меньше[73]. Если сновидение представляет нечто в негативном аспекте, то нет никаких оснований предполагать, что тем самым имеется в виду нечто позитивное и т. п. Архетипическая опасность на переходе пациенткой ручья вброд в ее сновидении настолько ясна, что этот сон можно было бы воспринимать почти как предостережение. Но я не советую делать такого рода антропоморфных выводов: само сновидение ничего не хочет; оно является только неким само себя изображающим содержанием, голым природным фактом, подобно, скажем, сахару в крови диабетика или высокой температуре у больного тифом. Только мы, если достаточно умны, извлекаем из этого некоторое предостережение.
Чего же, однако, следует опасаться? Опасность, очевидно, заключается в том, что в момент перехода бессознательное может восторжествовать над пациенткой. Что будет означать это торжество бессознательного? Вторжение бессознательного легко осуществляется в моменты значительных перемен и решений. Берег, по которому она приближается к ручью, – это ее прежняя ситуация, такая, какой мы ее узнали. Эта ситуация содействовала ее невротическому застою подобно тому, как если бы она натолкнулась на какое-то непреодолимое препятствие. В сновидении препятствие выступает в виде ручья, через который в принципе можно перейти. Следовательно, оно кажется не очень серьезным. В ручье, однако, непредвиденно скрывается рак, представляющий собой подлинную опасность, из-за которой ручей оказывается – или, соответственно, кажется – непреодолимым. Если бы было заранее известно, что в этом месте притаился опасный рак, то, возможно, стоило бы рискнуть перейти ручей в каком-нибудь другом месте или принять иные меры предосторожности. В описанной ситуации было бы в высшей степени желательно, чтобы переход состоялся. Вначале он означает перенос прежней ситуации на врача. Это – нечто новое. Оно не было бы таким уж рискованным делом, если бы не бессознательное, поведение которого непредсказуемо. Мы видели, однако, что перенос грозит развязать активность архетипических образов, которую мы раньше не предвидели. «Забыв о богах», мы в известном смысле просчитались.
Наша пациентка отнюдь не религиозна, она вполне «современна». Религию, которую ей когда-то преподавали, она забыла и ничего не знает о том, что бывают моменты, когда вмешиваются боги, или, скорее, ситуации, испокон веков устроенные так, что они проникают в самую сокровенную глубину осознания. К таким ситуациям относятся, например, любовь, ее страсть и ее опасность. Любовь может заставить проявиться непредсказуемые силы души, к чему следовало бы быть более подготовленными. «Religio» как «добросовестное принятие во внимание» неизвестных опасностей и сил становится здесь актуальной проблемой. Любовь, со всей ее роковой мощью, может возникнуть из одной лишь проекции: в некотором роде такой, что могла бы силой ослепляющей иллюзии вырвать нашу пациентку из ее естественной жизни. Что же овладеет сновидицей – добро или зло, бог или дьявол? Не зная этого, она чувствует себя уже брошенной на произвол судьбы. И кто знает, сможет ли она перерасти это осложнение? До сих пор пациентка по мере сил избегала этой возможности, и вот теперь та грозит захватить ее. Это риск, которого следовало бы избежать, а если уж приходится идти на него, то для этого требуется, как говорится, большое «доверие к Богу» или «вера» в благополучный исход. Так, нежданно-негаданно, сюда примешивается проблема религиозной позиции по отношению к судьбе.
65
Это мужское начало в женщине я обозначил как анимус, а соответствующее женское начало в мужчине – как анима. См. также Yung Emma. Ein Beitragzum Problem des Animus, in: Wirklichkeit derSeele, 1947, S. 296 ff.
66
Это было написано в 1916 г. Излишне говорить, что актуально оно и сегодня.
67
См.\DieStmkturderSeele, in: SeelenproblemederGegenwart, 1950, р. 149 ff. Ges. Werke, Bd. 8, Paragr. 331 ff.
68
Ср.: Uber die Archetypen des kollektiven Unbewufiten, 1934. Ges. Werke, Bd. 9. См. также: C. G. Jung. Bewufites und Unbewufites (Fischer Bticherei, 1957).
69
Ханс Ганцв своей философской диссертации о бессознательному Лейбница (Das Unbewufite beiLeibniz inBeziehungzu modernen Theorien, Ziirich, 1917) для объяснения коллективного бессознательного привлек теорию энграммы Земона. Предлагаемое мной понятие коллективного бессознательного лишь в определенном отношении пересекается с земоновским понятием исторически-родовой тпете [памяти]. (См.: Semon. Die Mneme als erhaltendesPrinzipim WechseldesorganischenGeschehens, Leipzig, 1904.)
70
Лео Фробениус (1873–1938), немецкий этнограф, исследователь культуры народов Африки. Выдвинул идеалистическую теорию культуры как обособленного социального организма.
71
Так формулирует Фробениус. СрDas Zeitalterdes Sonnengottes, 1904.
72
Тем из читателей, которые более глубоко интересуются проблемой противоположности и ее решением, я предлагаю обратиться к моей книге Wandlungen uncLSymbole derLibido, новое издание 1952 г.: Symbole der Wandlung, Ges. Werke, Bd. 5; далее Psychologische Typen, Ges. Werke, Bd. 6, а также Uber die Archetypen des kollektiven Unbewufiten.
73
СрAllgemeine Gesichtspunkte zurPsychologie des Traumes, in: Uber psychischeEnergetik und das Wesen der Traume. Ges. Werke, Bd. 8.