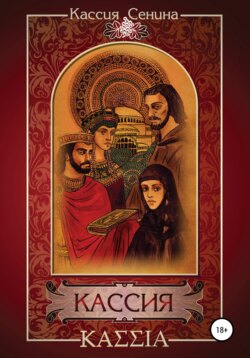Читать книгу Кассия - Кассия Сенина - Страница 18
ЧАСТЬ I. ЗЁРНА
16. Кольца змеи
ОглавлениеВы относитесь к врагам с полнейшим презрением, как будто они уже окончательно побеждены; я же полагаю, что благодаря такой вашей уверенности мы подвергаемся несомненной опасности…
(Прокопий Кесарийский)
В субботу, на память святых Варфоломея и Варнавы, патриарх служил литургию в храме Апостолов. Храм был переполнен, народ толпился даже на улице, но мысли большинства собравшихся были заняты не праздником, а тем, что происходило во Фракии. После взятия болгарами Месемврии Город уже полгода бурлил, почти не переставая, то глуше, то сильнее, словно огромный котел, и пар вот-вот мог поднять крышку и вырваться наружу. Всё чаще там и сям слышались порицания в адрес императора и особенно императрицы, наглее становились торговцы, мрачнее смотрели рыбаки и каменщики, купцы кидали друг на друга обеспокоенные взгляды, придворные уже не так спесиво вышагивали по мостовым, знатные женщины опасались выходить на улицу без свиты из нескольких слуг, монахи больше не встречали в народе того почтения, к которому привыкли за прошедшие два десятилетия, – и всё чаще на улицах поминали «Константина, победителя болгар». Столица походила на натянутую струну, готовую вот-вот порваться. И над всем этим витал страх – почти непреодолимый, животный – страх перед потерей родных, разорением, осадой, голодом… И вот, люди собрались в храм не просто помолиться апостолам, но молить Бога о милости для державы – на литии прозвучали прошения о победе ромейского оружия, о мире, о благопоспешении благочестивому императору. Но всё это уже не умиротворяло душу, как прежде, не ободряло, не вселяло надежды. Угрюмое беспокойство читалось на лицах. Молились все, но по-разному: кто искренно, кто по привычке, кто с жаром, кто с тоской в глазах, кто сосредоточенно, кто рассеянно, кто надеясь, кто ропща…
Из-за страшной давки никто не замечал, как несколько человек уже долгое время возились у дверей в Юстинианову усыпальницу. Убого одетых, их можно было бы принять за обычных нищих, если бы не выправка, – за спиной этих бедняков, несомненно, была служба в войсках. Об их прошлом говорило и то, как слаженно они действовали, обмениваясь чуть заметными знаками и быстрыми взглядами. Теснившиеся рядом богомольцы ничего не замечали, а между тем ворота в усыпальницу уже были сняты с петель, и шестеро держали их, не спуская глаз с седьмого, высокого угрюмого армянина, который внимательно прислушивался к ходу богослужения.
И вот, с хоров послышалось медленное, прекрасное и торжественное:
– Херувимов тайно образующе…
Разговоры быстро стали стихать, переходя в шепот, и вскоре в храме настала почти полная тишина – казалось, он вдруг опустел. Когда певчие допевали «всякое ныне житейское», армянин чуть заметно кивнул, – и тут же все семеро с силой налегли на врата, и они со страшным грохотом упали внутрь усыпальницы. Взломщики, громко топоча, пробежали по створкам и устремились к высокому зеленому саркофагу, украшенному барельефами с изображением битв и военных трофеев. Припав к нему они хором завопили, так что услышали все собравшиеся в церкви:
– Восстань и помоги погибающему государству!
И тут же армянин громко закричал:
– Вот он! Смотрите! Великий Константин! Он восстал из гроба и пошел на болгар!
В храме поднялось неописуемое смятение. Стоявшие рядом с усыпальницей устремились туда, окружив саркофаг и виновников шума, которые продолжали выкрикивать:
– Великий Константин, победитель болгар! Непобедимый вождь! Он поможет нам! Он избавит нас от врагов! Он избавит нас от идольского нечестия! Да будут выкопаны кости икон!
Находившиеся в других концах храма пытались пробраться ближе и увидеть, что происходит; давка еще более усилилась, раздались крики – кого-то придавили; женщины свешивались с галерей, там и сям поднялся детский плач…
Умолкшие было певчие попытались продолжить «Херувимскую», но выходило нестройно. Патриарх в алтаре едва сдержал духовенство, рвавшееся взглянуть, что происходит, однако несколько свещеносцев и диаконов все-таки выбежали на солею.
– Дорогу, дорогу!
Эпарх с отрядом стратиотов сквозь толпу пробирался к усыпальнице. Взломщики были схвачены и со связанными руками выведены из храма. Но не опустив голову шли они, а дерзко глядя по сторонам и улыбаясь, точно герои…
Назавтра около полудня Никифор из окна патриарших палат наблюдал, как этих семерых, уже порядком исполосованных бичами и с трудом волочивших ноги, вели по Августеону к Милию, откуда должно было начаться их шествие по Средней улице. Эпарх самолично ехал впереди верхом на коне. Сразу после вчерашнего происшествия нарушители порядка были допрошены и сначала лгали, будто врата в усыпальницу отворились сами собой, но под угрозой пыток рассказали всё, как было. Эпарх приказал бичевать их и решил провести по Городу, причем они во всеуслышание должны были выкрикивать, за что наказаны и как пытались обмануть народ, – ведь за сутки слух о происшествии в храме Апостолов успел облететь весь Константинополь и обрасти самыми фантастическими подробностями. Говорили, будто Константин Исавриец поднялся из саркофага на белом коне, облаченный в золотые доспехи и сияющий пурпурный плащ, и, пройдя сквозь стену, отправился во Фракию воевать с болгарами; будто при этом в храме попадали ликами вниз все иконы, а духовенство онемело и от страха побежало из алтаря… Слова быстро перерастали в дела – в тот же день вечером на площади Быка двое бедных чернорабочих побили монаха. Рабочие рассуждали о происшедшем в храме и один во всеуслышание проклинал иконопочитание, говоря, что никогда при государях Льве и Константине Империя не терпела таких бед на войне с варварами, как при всех последних православных императорах, а второй рабочий поддакивал. Проходивший инок попытался образумить хулителей, но те набросились на него, злобно крича, что «от этих лентяев-черноризцев один вред», – и если бы не вмешательство окружающих, монаху пришлось бы худо…
Теперь стало ясно, что император совершил непоправимую ошибку, когда в начале царствования разжаловал множество стратиотов из константинопольских тагм под предлогом того, что они были нетверды в вере. Вспоминая те события, патриарх мучительно размышлял, не было ли здесь частично и его вины. Тогда он просил василевса объявить смертную казнь павликианам и афинганам и вообще строже смотреть за проявлениями ереси, но благодаря вмешательству Студийского игумена казнь была отменена. Однако Михаил, желая выказать ревность о православиии, решил «очистить от еретиков городские полки», – и в результате Константинополь наполнился разжалованными воинами, оставшимися без снаряжения, без занятий, без земли… Безумный шаг! – но полтора года назад он никому не показался таким. И вот они, плоды! Эти семеро все оказались из числа разжалованных. А их бывшие товарищи шатались по улицам и рынкам и всё громче заговаривали о том, что Империя терпит бедствия за «нечестивое идолопоклонство», что Константин, «победитель болгар», был великий пророк и угодник Божий, что в военных поражениях последних лет виновато православие и его защитники – монахи. Эти речи падали на подготовленную почву, ведь простой люд рассуждал прямолинейно: государство терпит беды от варваров уже много лет, и чем дальше, тем больше, и всё это при государях, чтущих иконы; при государях, которые иконы уничтожали как идолы, Империя отразила и арабское, и болгарское нашествия и одержала много блестящих побед, – значит, теперь Господь прогневался за идолопоклонство. И всё чаще, всё громче на улицах звучало: «Долой иконы!»
Положение стало угрожающим. Патриарх понимал, что еще одна победа болгар может вызвать катастрофу. Понимал это и эпарх – вчера вечером он ушел от Никифора крайне обеспокоенный, почти подавленный, и патриарху нечем было утешить его. Он не хуже эпарха сознавал, что столица стоит на грани гражданского мятежа: когда-то прасины, восставшие против Юстиниана Великого, призывали «откопать кости» императора и его сторонников, – теперь же народ грозился «сокрушить кости икон»…
Бессмысленно было закрывать глаза: ядовитая змея иконоборчества вновь поднимала голову, пока лишь медленно шевелилясь и поигрывая кольцами, но в этих движениях чувствовались злость и сила… Можно ли было еще упрятать гадину в клетку? – вот каким вопросам задавались православные, и вот почему так важна была сейчас победа ромейского оружия! Но что судит Бог?..
Патриарха томили тяжелые предчувствия. Отойдя от окна, он взял с полки книгу в коричневой обложке, украшенной узором из золотых крестов. Это были проповеди великого Богослова, которые Никифор любил перечитывать на досуге.
– Божественный Григорий, что скажешь ты ныне? – тихо проговорил патриарх, открывая книгу наугад.
Раскрылось «Первое обличительное слово на царя Юлиана» – там, где святитель рассуждал, почему Господь попустил воцариться гонителю христиан. «Одного еще недоставало, чтобы к нечестию присовокупить и могущество. Через несколько времени и то дают ему над нами умножившиеся беззакония многих, а иной, может быть, скажет: благополучие христиан, достигшее высшей степени и потому требовавшее перемены, – свобода, честь и довольство, от которых мы возгордились…»
– Да разве было оно – благополучие высшей степени? – прошептал патриарх.
Ему вновь вспомнились церковные смуты, которые сопровождали его патриаршество от первых дней и окончились лишь недавно. Какое там благополучие! Горький свиток Иезекииля-пророка!.. Но…
– Господь запретил выдергивать плевелы, чтобы не повредить и пшеницы, – сказал Феодор на совете в Магнавре, протестуя против казни павликиан. – Как же вы, богопочтенные, предлагаете истреблять еретиков? Ведь нам запрещено даже желать им зла! Послушайте не меня, убогого, но божественного Златоуста: «Еретика убивать не должно, – говорит он, – иначе это даст повод к непримиримой войне во вселенной». И еще: «Все неисцельно зараженные сами по себе подвергнутся наказанию. Поэтому если хочешь, чтоб они были наказаны, то ожидай определенного к тому времени», – Богом определенного, не нами! Не сказал ли Господь: «Все, взявшие меч, от меча погибнут»? Смотрите, почтеннейшие, как бы нас не покарали за то, что, зная Евангелие, мы пренебрегли им ради привременной выгоды! Богу такое убийство не угодно, и я никогда не одобрю этого!
Патриарх тогда согласился с ним и потом еще не раз размышлял об этом… Да, Феодор был прав, и происходившее сейчас подтверждало его правоту, хотя на первый взгляд казалось наоборот. Не далее, как позавчера патриарх получил письмо от Феофана, игумена Великого Поля: Феофан рассказывал о своем житье-бытье, о том, что хроника, которую он взялся дописывать за покойным синкеллом Георгием, близка к завершению, но ему в последнее время трудно стало писать из-за частых приступов почечной болезни, а в конце упоминал о дерзкой выходке местных павликиан, едва не запаливших обитель, и с раздражением замечал, что Феодор Студит и его единомышленники стали плохими советниками для императора. «Петр, глава апостолов, за одну ложь умертвил Ананию и Сапфиру, – писал Феофан, – великий Павел громко вопиет, что “делающие сие достойны смерти”, и это за один плотский грех! Так не противятся ли им те, которые освобождают от меча людей, исполненных всякой нечистоты душевной и телесной, служителей диавола?! К чему говорить об их покаянии? Пустые речи! Эти еретики уже никогда не могут раскаяться. Но Феодор, видно, считает себя умнее и святее первоверховных…» Патриарх покачал головой. Феофан ошибается… «Не знаете, какого вы духа», – сказал Господь ученикам, когда они хотели истребить небесным огнем самарян, не принявших Христа. Если единственным возможным доводом против инакомыслящих сочтен обнаженный меч, то это свидетельство слабости… Слабости, а не силы. Не потому ли еретики всё больше поднимают голову, что почуяли эту слабость?..
– Христиане заключают под стражу и бичуют тех, кто отстаивает Христа и Евангелие, – видано ли такое дело? Как бы не отмстил Господь за такой союз неправды! – говорил Феодор некогда по поводу смуты из-за эконома Иосифа.
Не предсказал ли он и погибель императору Никифору? Что ж, он был прав, когда предрекал какую-то бурю, как рассказывал Халкитский игумен Иоанн?..
«Когда мы были добронравны и скромны, – читал Никифор дальше у Григория Богослова, – тогда возвысились и постепенно возрастали, так что под водительством Божиим сделались и славны, и многочисленны. Когда же мы растолстели, тогда сделались своевольны, и когда разжирели, тогда доведены до тесноты. Ту славу и силу, какую стяжали мы во время гонений и скорбей, утратили мы во время благоденствия…»
Патриарх закрыл книгу. Змея ереси выгибалась перед ним, зловеще блестя чешуей, готовая к броску. Но может быть, еще обойдется? Что там во Фракии? О, если бы победа!..
Семерых «негодяев», меж тем, уже вели по Средней. Здесь было особенно людно; народ сбегался глазеть со всех сторон. Кто насмехался, кто хмурился, кто исподлобья оглядывал эпарха и стратиотов, кто поносил «нечестивых иконоборцев», а кто, спрятавшись за чужие спины, выкрикивал:
– Долой идолы! Они навлекли на нас гнев Божий!
Улыхав это, «негодяи» умолкли и перестали кричать о причинах своего наказания, но плетка эпарха быстро привела их в чувство.
– Мы хотели обмануть благочестивых граждан! – выкрикнул армянин, которого вели первым.
То же повторял второй и все остальные по очереди. Затем первый продолжал:
– Мы солгали, будто врата к гробнице нечестивого Константина открылись сами!
– Это мы хитростию открыли их!
– Мы дерзнули неправедно обвинять православных в бедствиях, которые терпит Империя!
Пухлая торговка хлебом, смотревшая на процессию из-за своего прилавка, неодобрительно покачала головой:
– Ишь, складно как твердят! Эпарх-то, вон, слова подсказывает да плетку кажет! Бедняги, как исполосовали-то их!..
– Да-а, бичей не жалели! – хмуро проговорил стоявший рядом, с лотком на жилистой шее, торговец пирожками.
– Бичи не хлеб, чего их жалеть, – усмехнулся седой сутулый каменотес.
Он стоял, опираясь на суковатую палку грубыми мозолистыми руками и из-под насупленных бровей сурово глядел на процессию. Рядом с ним стоял подмастерье – юноша с только пробивавшемся на бороде золотым пухом, загорелый, с румянцем во всё лицо, – и с избитыми и истертыми руками.
– Они сейчас его нечестивым зовут да проклятым, – продолжал старик, – того государя… А я-то по-омню хорошо: при нем хлеб был дешевый, не то, что сейчас, и много было хлеба! Торговцы на рынке нищим, бывало, целые караваи кидали…
– Нда, а теперичи, поди, еще подорожает хлеб-то! – сказал оборванный мужик с мешком через плечо. – Болгары, слышно, уж пол-Фракии разорили и до самого Города грозятся дойти…
– А эти ироды, нет чтоб с варварами воевать, как надо, со своими же воюют, неймется им! Ико-оны им, вишь, кано-оны!
– И-и, чтоб им пусто было, канонистам этим! Их бы землю копать заставить, али кирпичи класть!
– Кости икон да сокрушатся!
– Ах ты, безбожник!
– Это вы безбожники, идолопоклонники треклятые!
– Да отсохни твой поганый язык, собака!..
Завязалась драка, и эпарх послал одного стратиота из отряда разнять ее.
Тем временем за всем этим следил внимательный взгляд – пожалуй, слишком внимательный, более цепкий, чем хотелось бы устроителям этого публичного шествия. Высокий худощавый монах только что вышел из Книжного портика с большим свертком в руках и, прислонившись к одной из колонн, пристально наблюдал за происходящим. Его взгляд успел охватить всё – и картину целиком, и мелкие детали, – заметить и беспокойство, прятавшееся за спесью эпарха, и неуверенность на лицах стратиотов, и угрюмые взгляды чернорабочих, и испуг в глазах прошмыгнувшего мимо черноризца; ухо улавливало разговоры в толпе, выкрики недовольные и одобрительные, и клич, который он уже не впервые слышал в последние дни:
– Да будут выкопаны кости икон!
Процессия давно ушла вперед, зеваки тоже разбежались – кто следом за ней, кто по своим делам, – Артополий опять погрузился в обычную суету, а монах всё стоял у колонны. Опустив сверток на землю и скрестив руки на груди, он глядел куда-то в пространство.
– Здравствуй, Иоанн!
Он вздрогнул и стряхнул задумчивость. Перед ним стоял невысокий монах с сокрушенно-просительным выражением лица, какое бывает у нищих, но при этом щеголевато одетый – ряса и мантия его были сшиты явно не где попало и стоили недешево.
– А, отец Симеон, приветствую! Как поживаешь?
– Помаленьку, милостью Божией, спасаемся… А ты о чем это тут так задумался? Я тебя еще вон от того угла заприметил, и всё иду, гляжу, а ты всё вот так стоишь да смотришь в одну точку, словно статуя!
Тонкая улыбка пробежала по губам Иоанна.
– Да так, задумался об образе нашего жития. Как говорили древние, «не довольствуйся поверхностным взглядом; от тебя не должно ускользнуть ни своеобразие каждой вещи, ни ее достоинство». Вот я и наблюдаю… Углубляюсь в сущее, так сказать.
– Хм… Да разве у каждой вещи есть достоинство? Взять хоть этих нечестивцев, которых тут провели, видал? Разрази их гром! Какую смуту они вчера устроили, проклятые еретики! Говорят, они из павликиан…
– У еретиков, – усмехнулся Иоанн, – есть одно очень большое достоинство: они заставляют православных думать. Прощай, господин Симеон, а то мне уже недосуг! – слегка кивнув собеседнику, Грамматик поднял с земли свой сверток и зашагал прочь.
– Эк ведь сказал-то! – пробормотал Симеон, провожая его взглядом. – Мудрит, всё мудрит чего-то… Э!.. – он махнул рукой и пошел своей дорогой.
…С улицы послышался взрыв детского хохота, визг, возня… Флорина выглянула в окно.
– Варда! – закричала она строго. – Ты что-то разошелся! Посмотри на себя, на кого ты стал похож! Ведь только всё чистое одел с утра, а теперь ты, что поросенок!
– Мама, мама! – раздался звонкий голосок. – Он опять дерется!
– Доносчица!
– Я не доносчица! Ты мне всю косу растрепал!
– Велика важность!
– Я тебе покажу, велика или нет! Вот тебе! Ха-ха! Догоняй!
– Ну, держись, Феодора!
Быстрый топот двух пар ног – и всё стихло. Флорина отошла от окна, качая головой.
– Вот сорванцы! Каждый день их приходится мыть – к вечеру всегда грязные, как эфиопы! Вы с Софией всё же не были такими неуемными. Да и Ирина не такая…
– Ну, мы ж не мальчики, – улыбнулась сидевшая в плетеном кресле молодая женщина. – И потом, я всегда была тихоней, ты знаешь. Феодора совсем другая!
– Да уж, не знаю, что из нее выйдет… Капризная, непредсказуемая… К тому же боюсь, как бы она не выросла толстушкой… Она и сейчас обижается, когда братья ее называют толстой, а что же будет, если она такой и вырастет?
– Ты погоди, дорогая, она ж еще мала. Рано судить, рано! Она еще первой красавицей у нас будет!
Обе женщины повернулись на голос. В дверях комнаты стоял высокий широкоплечий мужчина; черная шевелюра, крупный горбатый нос и густые брови придавали ему грозный вид, но темные глаза смотрели весело; он улыбался, сверкая зубами.
– Ах, Марин, – сказала Флорина. – Ты всегда слишком снисходителен к детям, а Феодору баловать опасно, она такая своенравная…
Флорина являла разительную противоположность мужу: небольшого роста, миниатюрная, светловолосая, голубоглазая, с тонкими чертами лица, она в то же время обладала жестким характером, который совсем не вязался с ее внешностью. Марин впервые увидел ее в церкви в Афинах, куда приехал вместе с родителями навестить родственников. Флорине было тогда пятнадцать лет, и она показалась Марину похожей на ангела с фрески на стене храма. Всю службу он смотрел на это «чудное явление» во все глаза, а когда служба кончилась, понял, что уедет из Афин только вместе с девушкой, о чем тут же и сообщил матери с отцом. Те попеняли ему, что он в храме занимается не тем, чем нужно, но, расспросив родственников и узнав, что девушка из хорошей семьи и благочестивая, недолго думая, заслали сватов. В родную Эвиссу, городок в Пафлагонии, где семья Марина владела большими поместьями, юноша возвращался спустя три месяца, увозя молодую жену и немало приданого. С тех пор прошло восемнадцать лет. Марин уже давно был друнгарием, и в Пафлагонии его знали как одного из богатых землевладельцев, а жена его славилась в округе тем, что почти наизусть помнила весь Новый Завет и очень близко к тексту многие жития святых. В Эвиссе супруги владели двухэтажным особняком, который был виден издали и удивлял приезжих несколько тяжеловатым стилем – огромными мощными колоннами по бокам от входа, большим балконом, нависавшим над первым этажом вдоль боковой стены, и массивной крышей, крытой медью и сверкавшей на солнце так, что прохожие иной раз прикрывали глаза ладонью, глядя на этот дом, обсаженный яблонями и оливами и окруженный высоким каменным забором. У Марина и Флорины было шестеро детей: два сына – Варда и Петрона, и четыре дочери – Каломария, София, Ирина и Феодора.
Каломария, которой пошел семнадцатый год, была старшей и, оправдывая свое имя, самой красивой из сестер: черноглазая и высокая – в отца, правильные черты лица и золотистые волосы она унаследовала от матери; в ее движениях сквозила уверенность в себе. Она уже полтора года была замужем за молодым армянином по имени Арсавир, сыном одного синклитика. На три года ее старше, красавец подстать супруге, умный, состоятельный и со связями при дворе, он увез молодую жену в столицу, где она еще больше расцвела и, кажется, достигла предела земных желаний. Этим летом она приехала навестить семью, а заодно обсудить вопрос об обручении Софии, которой скоро должно было исполниться тринадцать лет: Каломария нашла ей жениха в столице – Константина, четырнадцатилетнего сына патрикия Феодосия Вавуцика. Патрикий был другом родителей Арсавира и, познакомившись с Каломарией и узнав, что у нее подрастают сестры, озаботился о будущем сына. Хотя Арсавир и шутил, что он «самую красивую уже отхватил», Феодосий, смеясь, говорил, что они люди скромные, да и сын у него не то, чтобы красавцем растет, а потому невеста будет в самый раз…
– Ты кстати зашел, – сказала Флорина мужу. – Мы тут на самом деле говорили не о Феодоре, а о Софии. Я что-то боюсь отпускать ее в Константинополь…
– Мама думает, – смеясь, сказала Каломария, – что столица это такое гнездо пороков!
– Гнездо, не гнездо, – возразила Флорина, – но суеты там побольше, чем тут, и соблазнов тоже. А София у нас такая тихая, смиренная… Боюсь, там такие не ко двору, как начнут «перевоспитывать», греха не оберешься…
– Ну, посмотри на меня! – воскликнула Каломария, вставая. – Разве я превратилась в «греховный сосуд»?
– У тебя всё же другой характер, чем у Софии. Она мягкая…
– Дорогая, – улыбаясь, сказал Марин, – порочный человек как свинья – грязи найдет. Посмотри на дочь наших соседей – она и не в столице, а влезла в такую историю, что не дай Бог. И кто тянул, а? Я вот совсем не боюсь за Софию. Мягкая-то она мягкая, но внутри – стержень железный!
– Да, мамочка, папа прав! Сколько я помню, она всегда брала верх над Ириной в играх, да и мне не спускала, хоть я гораздо старше! Мягко стелет, да жестко спать! – Каломария опять улыбнулась.
– И потом, – добавил Марин, – мы ведь ее туда ненадолго отпустим. Обручится, поживет месяц-два, да и назад. До свадьбы-то еще года два-три ждать придется.
– Уговорили! – вздохнула Флорина. – Присылайте сватов.
– Замечательно! – Каломария подошла к матери и поцеловала ее в щеку.
– Только надо подождать, чем кончатся фракийские дела, – вдруг нахмурился Марин. – Да и в Городе, ты говоришь, неспокойно…
– Не то, чтобы неспокойно… – поморщилась Каломария. – Просто некоторые бродяги мутят народ против икон. Но думаю, когда государь вернется из похода, он быстро усмирит их! Был такой Николай, пустынником прикидывался, а сам иконы поносил, даже при людях расколол образ Богоматери…
– Вот негодяй! – воскликнула Флорина.
– Да, – продолжала Каломария. – Так государь повелел его схватить и отрезать язык! Тот и умер после этого. Вот и с этими нечестивцами то же будет!
– А что говорит Арсавир? – спросил Марин.
– Ничего не говорит… Ничего особенного. Смеется даже.
– Смеется?
– Да, как начну спрашивать, что да к чему, так он улыбается: «Не квохчи, – говорит, – моя курочка, в нашем гнездышке всё спокойно!»
Каломария улыбнулась и, подойдя к окну, выглянула на улицу. Конечно, через знакомых до нее доходило много тревожных слухов; но раз Арсавир говорит, что всё спокойно, значит, беспокоиться не о чем. За время замужества она привыкла ощущать себя за ним, как за каменной стеной, он словно излучал надежность и ясность…
– А вот и дети бегут! – сказала Каломария, кивая в сторону окна. – В дом! Не к нам ли?
Вскоре за дверью раздался шум и в комнату влетели мальчик лет одиннадцати, крепкий на вид, загорелый, с темными вьющимися волосами, и девочка помладше, невысокая, круглолицая, пухленькая. Ее коса совершенно расплелась, и густые волнистые волосы глубокого черного цвета, даже темнее, чем у отца, словно плащ, покрывали ее почти до пояса.
– Ну что, сорванцы, всё носитесь? – весело спросил Марин.
– Голову не сверните! – сказала Флорина. – Ты, Варда, постарше, так хоть думай, где и как бегать!
– Да, мама! – ответил мальчик и лукаво поглядел на сестру. – Но больше всего приходится думать, как от нее убежать. Бегает она, как ветер, хоть и толстая!
– Я не толстая! – возмутилась девочка. – Я тебе дам, «толстая»! – и она ткнула брата в бок кулаком.
– Ой-ой! А-а! – Варда картинно схватился за бок и скривился, как от боли. – Она дерется!
– А ты не дразнись! – рассмеялась Каломария.
– Ладно, хватит шалить! – строго сказала Флорина. – Посидите вот, отдохните лучше! Феодора, иди сюда, я тебя заплету!
Девочка подошла к матери, а Варда уселся на скамью под окном и сложил руки на коленях, сделав постное лицо. Марин улыбнулся и погрозил сыну пальцем.
– Вот, Варда, – сказала Каломария. – Вы ведь еще не знаете… София скоро поедет ко мне в гости, я ей жениха нашла.
– Жениха? – вскричал Варда. – Да она еще маленькая! Тогда и мне невесту найдите, а то нечестно!
– Рано тебе еще думать о невестах, – строго сказала Флорина. – Придет время, и тебе найдем.
– Рано? – негодующе воскликнул Варда. – Софии не рано жениха, а мне невесту рано? Вот, так всегда…
– София умница и послушная, а на тебя никакой управы нет. Поумней сначала чуток, а там посмотрим, – сказала Флорина всё так же строго, однако, пряча улыбку.
– А-а, всегда вы так, – обиженно пробурчал мальчик. – Чуть что, так сразу: «непослушный», «поумнеть надо»… Да я еще умнее всех вас буду! Еще других буду учить!
– Вот хвастун! – воскликнула Феодора.
Она возмущенно всплеснула руками и тут же ойкнула от боли.
– Ну, не дергайся! – сказала Флорина. – Я еще не доплела.
Девочка вздохнула, опустила руки и спросила:
– И как его зовут, этого жениха?
– Константин.
– А сколько ему лет? – поинтересовался Варда.
– Четырнадцать, – сказала Каломария. – Они с Софией только обручатся, ну, а свадьба будет, когда подрастут. Года через три.
– Ой, как долго еще им ждать придется! – вздохнула Феодора. – А что, если… за это время Софии кто-нибудь другой попадется?
– Что значит – «попадется»? – нахмурилась Флорина.
– Ну… встретит какого-нибудь другого мальчика, и он ей больше понравится… чем этот Константин.
– Феодора! Что это за мысли у тебя в голове?
Флорина даже перестала плести дочери косу и, взяв ее за плечи, развернула к себе. Феодора стояла, опустив глаза.
– Ага, ага! – расхохотался Варда. – Каких житий святых ты начиталась, сестрица? Э, да ты ведь и читать еще не умеешь толком! Уж не наслушалась ли ты тайком захожих сказочников, а?
– Прекрати, Варда! – Флорина метнула на него грозный взгляд и обратилась к дочери: – Не смей и думать о таких вещах, слышишь? Вот еще притча!
– Ну да, – снова не удержался Варда, – святые все выходили замуж только по воле родителей!
– Варда!
– А Феодоре хочется, чтобы мальчик нравился, а не просто!
– Варда, пойди вон! – вскричала Флорина.
– Варда, ты и правда разошелся, – сказал Марин. – Пойдем, сынок, пусть женщины тут сами разбираются!
Взяв подскочившего мальчика за руку, Марин покинул комнату, улыбаясь в усы: в младшей дочери он узнавал себя. Когда отец с сыном ушли, Каломария упала в кресло и расхохоталась. Флорина строго взглянула на нее, но не выдержала и рассмеялась тоже. Феодора исподлобья поглядывала то на сестру, то на мать.
– Вот, вы смеетесь надо мной, – тихо сказала она. – Ну, и смейтесь, и смейтесь… А вот я так выйду замуж, что вы все завидовать мне будете, вот!