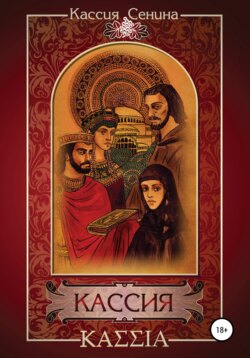Читать книгу Кассия - Кассия Сенина - Страница 38
ЧАСТЬ II. БОРЬБА ЗА ОБРАЗ
11. Вонита
Оглавление…если путь долог, не удивляйся: ради великой цели надо его пройти… если что и придется претерпеть, взявшись за прекрасное дело, это тоже будет прекрасно.
(Платон, «Федр»)
Уже пропели вторые петухи, когда раздался лязг засовов, и в темницу вошли четверо человек, двое из них держали факелы. Феодор на несколько мгновений прикрыл глаза рукой, пока не привык к свету, а потом, поднявшись, вгляделся в незваных гостей. Тех, что с факелами, он не знал; третий, сурового вида, с желтоватым лицом и темными прямыми волосами, державший в руках свернутый в трубку пергамент, также был ему неизвестен, но четвертого он узнал.
– Здравствуйте, господа! – игумен поклонился вошедшим. – Здравствуй, господин Никита! Чем мы обязаны вашему посещению?
– И ты еще спрашиваешь, мерзавец! – воскликнул желтолицый и повернулся к Никите. – Вот наглец! Всю Империю заполонил своими мерзкими воззваниями, а строит из себя невинного!
Патрикий в ответ слегка покачал головой, однако невозможно было понять, относится ли это к игумену или к возмущенному чиновнику.
– Господин Феодор, – сказал Никита, – мы прибыли возвестить тебе волю августейшего государя.
– Встань смирно и слушай, что приказывает тебе благочестивейший император! – сурово сказал желтолицый.
Феодор и так стоял смирно, поэтому не пошевелился, спокойно глядя на говорившего. Желтолиций гневно сверкнул глазами и уже хотел что-то сказать, но Никита слегка дотронулся до его плеча, указывая молчать, взял у него пергамент, развернул лист и объявил волю василевса: Феодора, за нарушение общественного порядка и распространение «богомерзкого иконопоклонства», предписывалось отправить из Метопы в крепость Вониту – если, конечно, узник не захочет покаяться и вступить в общение с императором и патриархом. При этом заключенному строго-настрого запрещалось с кем-либо видеться и рассылать письма в защиту иконопочитания.
Игумен чуть улыбнулся и сказал:
– Я охотно переменю место, ведь местом я не ограничен. Любая земля, куда бы меня ни забросили, – моя, а лучше сказать, Господня, и мое странствие служит мне наградой. Но молчать ревнителям веры сейчас нельзя, и потому я никогда не умолкну и не покорюсь такому приказу. Мне всё равно, требуете ли вы этого с угрозами или просто советуете. Апостол запрещает повиноваться человекам больше, чем Богу. Если б я согласился молчать о вере, то к чему мне было бы вообще отправляться в изгнание?
– Да как ты смеешь, мерзкая тварь… – начал желтолицый, но патрикий Никита прервал его.
– Довольно, господин Кирилл! Мы пришли сюда не ругаться, а исполнить волю государя. Воля его объявлена, но господин Феодор отказался покориться. Значит, нам нужно исполнить дальнейшее – везти его в Вониту. Собирайся, отче! Мы должны выехать отсюда на рассвете.
Их путь лежал в Анатолик: Вонита находилась к востоку от города Хоны, за сотню миль от приморской Ликии. Вместе с игуменом отправились и бывшие с ним трое братий. Путешествие прошло легко и приятно: стояли чудесные майские дни, вокруг всё цвело, дорога была сухой и ровной. Никита, бывший тайным иконопочитателем, о чем император не знал, сразу же отослал Кирилла в столицу с кратким письмом к государю, а сам сопровождал ссыльных. На пятнадцатый день прибыли в Вониту, где местные власти встретили опального игумена весьма радушно. Узнав о прибытии Феодора на новое место жительства, друзья и ученики буквально завалили его посылками с деньгами, вещами и продуктами, не было недостатка и во всем необходимом для письма. Навкратий постоянно присылал к игумену то одного, то другого из братий с разнообразными передачами, сообщая новости о положении в Церкви, которые ему удавалось узнать. Переписка Феодора, однако, еще не успела возобновиться в прежнем объеме, как он получил очередное суровое предупреждение от властей. Патрикий Никита, возвратившись из Вониты в столицу, был призван к императору и подвергнут допросу относительно всех подробностей его разговора с Феодором и о том, как прошел переезд узника в Анатолик. Хотя Никита постарался не говорить лишнего и не подставлять игумена под императорский гнев, это ему не удалось: Лев был сильно раздражен после того, как Кирилл, приехав из Метопы, в самом черном свете расписал ему «дерзость» Студита, и разговор с Никитой не заставил василевса изменить уже принятое решение. Раз Феодор не хотел молчать и прекращать переписку, это значило, что и все его монахи будут продолжать «возмущать народ», да и не только его монахи; этому нужно было воспрепятствовать.
Феодор диктовал Николаю очередное письмо, Ипатий затачивал перья, а Лукиан линовал пергамент для рукописи, когда патрикий в сопровождении троих стратиотов вошел в помещение. Все монахи поднялись при их появлении.
– Здравствуй, господин Никита, – поклонился Феодор патрикию. – Ты что-то быстро воротился.
Никита несколько мгновений молча смотрел на узника и, наконец, сказал как можно более суровым тоном:
– Император велел бичевать тебя, Феодор. Сто ударов за отказ повиноваться его повелению и не учить иконопоклонству.
– О, Господи! – проговорил Лукиан, с ужасом глядя на бич, которым слегка поигрывал один из стратиотов.
Ипатий выронил перо и ножик, а Николай, чувствуя, как у него задрожали губы, прикрыл их рукой, и посмотрел на игумена. Феодор шагнул вперед; лицо его озарилось каким-то особенным светом.
– Благословен Бог! Я давно ожидал этого! – и с этими словами он снял параман и скинул хитон.
Взорам патрикия и его спутников предстало изнуренное постами и временем тело, походившее скорее на мощи, нежели на плоть живого человека. Никита был глубоко поражен, страдание отразилось на его лице. Несколько мгновений он молчал, а затем повернулся к стратиотам, забрал у них бич и сказал:
– Выйдите! Я сам всё сделаю… Так повелел августейший. И этих выведите, – кивнул он на монахов.
– Нет, нет! – закричал Николай. – Не надо! Не бей его! Лучше меня! Ради Христа!
Он хотел кинуться к ногам патрикия, но был схвачен двумя стратиотами и силой вытащен из кельи. Третий стратиот вытолкал наружу его собратий. Лукиан беззвучно плакал, опустив голову. Ипатий только успел прошептать, проходя мимо игумена:
– Мы будем молиться, отче!
Оставшись наедине с игуменом, Никита сел на лавку и закрыл лицо руками.
– Что же ты медлишь исполнять приказ государя, господин? – спросил Феодор.
– Надевай хитон, отче, – ответил патрикий, не отнимая рук от лица. – Я не буду бичевать тебя… Это выше моих сил… Нет, нет! Пусть лучше меня самого бичуют! – и этот огромного роста широкоплечий мужчина, чьего грозного вида боялись и слуги, и домашние, и подчиненные, заплакал, размазывая слезы по загорелым щекам.
Феодор оделся, сел рядом и положил руку ему на плечо.
– Да благословит Бог твое доброе сердце, господин, – сказал игумен. – Но ведь если император узнает, тебе не поздоровится… Я, грешный, привык уже к лишениям, а вот ты вынесешь ли царский гнев?
– Я не могу, не могу! Нет! Отче, я до тебя не дотронусь… Нет, нет…
Никита опустил голову и какое-то время сидел молча, потом выпрямился и посмотрел на Феодора.
– Вот что я сделаю! На чем вы тут спите? Ага…
Никита взял с деревянного ложа кусок овечьей шкуры, служивший Феодору подстилкой, и подошел к игумену.
– Встань, отче. Император зол, как зверь, а мы будем хитры, как змеи…
И патрикий положил шкуру на плечи Феодору.
– Держи ее, отче, чтоб не упала. Ну-ка, я попробую… – и, размахнувшись, он нанес удар бичом по шкуре.
– Не больно?
– Нет, – улыбнулся игумен.
Братия, сидя в соседнем помещение вместе со стратиотами, мучительно прислушивались. Когда послышался первый глухой звук удара, Николай дернулся было к двери, но один из стратиотов тут же схватил его за плечо. Лукиан побледнел, зажмурил глаза и заткнул обеими руками уши. Ипатий уткнулся лбом в стену и, закрыв глаза, принялся молиться. Однако после первого удара всё стихло.
– Неужели смиловался? – спросил Николай с отчаянной надеждой в голосе.
Но вот опять раздался звук удара. И опять…
– Нет, нет! – шептал Николай, стиснув руки на груди; по щекам его текли слезы.
– Боже, – проговорил Ипатий, – умилосердись над отцом! Укрепи его!
Через некоторое время Никита вышел, тяжело дыша, и, бросив на пол окровавленный бич, с шумом опустился в приготовленное стратиотами кресло.
– Уф! Устал! – выдохнул он.
Николай исподлобья посмотрел на него так, что если бы взглядом можно было испепелять, от патрикия бы в тот же миг не осталось и следа. Никита равнодушно взглянул на него и кивнул стратиотам:
– А этих пока что обратно туда!
– Ну, шевелитесь! – и стратиоты тычками проводили троих монахов в келью и заперли дверь.
Войдя, Николай со стоном бросился к Феодору, который лежал ничком на ложе, покрытый одеялом.
– Отче, отче!
Феодор приподнялся, спустил ноги на пол и, виновато улыбнувшись, тихо сказал:
– Простите, чада мои, что мы заставили вас пережить такую горечь! Но не плачьте, еще не время! Хотя мне-то впору плакать, а не радоваться: не сподобился я пока принять мучение за Христа!
– Как?! – выдохнул Ипатий, а Лукиан так и сел на пол и безмолвно смотрел на игумена.
– Тебя не били? – воскликнул Николай.
– Тсс! – Феодор приложил палец к губам и показал взглядом на дверь. – Нельзя сказать, что меня не били, – улыбнулся он. – Но что меня били жестоко, сказать тоже нельзя. Если кому и досталось, так это ей! – он указал на овечью шкуру.
Братия смотрели во все глаза, всё еще не понимая. Феодор встал, взял шкуру и накинул себе на плечи.
– А! – шепотом вскрикнул Ипатий. – Понятно! Слава Богу! – он перекрестился. – Да воздаст Он господину Никите за такую милость!
– Но… кровь! Откуда кровь на биче? – спросил Лукиан.
– Господин Никита проткнул себе руку и окрасил бич своею кровью, – ответил игумен. – Сказать по правде, я поразился ему! Вот поистине Божий человек!
Когда примерно через час патрикий опять пришел к узникам, трое монахов со слезами бросились благодарить его.
– Что вы, отцы! – смущенно пробормотал Никита. – Я ничего такого не сделал… И мне еще предстоит огорчить вас… Я всё-таки должен удалить отсюда двоих. Государь велел изгнать всех братий, но одного я оставлю тебе, Феодор. Выбирай, кого.
Взгляд игумена остановился на Николае.
– Ты останешься со мной, брат. Нам с тобой еще предстоит много потрудиться… А вы, чада, – он обратился к Ипатию и Лукиану, – ступайте, и да хранит вас Бог! Не разлучайтесь друг от друга, но живите вместе: «горе единому», которого некому воздвигнуть, если он падет! Да вы всё знаете и сами. Пишите, не пропадайте. Не унывайте и не бойтесь! Будьте готовы всё претерпеть за веру! Ну, дайте, я вас благословлю, чада мои…
Братия, глотая слезы, стали собираться. Никита сказал игумену, что император повелел забрать все книги и иконы, поэтому он должен для виду взять хотя бы несколько, чтобы предъявить их государю в качестве свидетельства исполненного поручения. Феодор ответил, что патрикий может забирать всё, что найдет нужным. Никита забрал книги и иконы, а монахи отдали ему свои энколпии.
– Я должен забрать у вас и деньги, – нерешительно сказал патрикий. – Государь велел оставить тебе не более десяти номисм.
– Деньги? Да забирай хоть все, господин! – Феодор пожал плечами. – Не думает ли государь, что это для меня будет большой потерей? Если б я уповал на деньги, так зачем бы стал терпеть всё это?
Патрикий вздохнул и ничего не ответил.
– Послушай, господин Никита, – сказал Феодор, глядя, как тот складывает отобранные у них вещи в суму, – не лучше ли тебе забрать от меня и Николая? А то, неровен час, императору донесут о том, что ты поступил не совсем так, как ему хотелось, и тогда тебе не поздоровится…
Николай, услышав это, бросился к ногам игумена.
– Нет, отче, прошу тебя, не отсылай меня! Я не могу оставить тебя тут одного!
– Нет, отче, – сказал и Никита, – уж теперь что Бог даст, то и будет, а я что сделал, то сделал, и более уже не причиню вам никакой печали. Простите меня, отцы, и помолитесь за меня, грешного! – и патрикий подошел к игумену под благословение.
Последним распоряжением Никиты перед отъездом из Вониты был приказ усилить охрану узников: их по-прежнему не запрещалось навещать, но при них неотлучно находился часовой – в его присутствии узники и молились, и ели, и спали, и беседовали с приходившими. Посетителей было много, особенно монахов: приходили не только из окрестных мест, но и издалека, приносили еду и одежду, книги и писчие принадлежности. Некоторые после беседы с Феодором выражали готовность даже до смерти подвизаться за иконопочитание. «Хотя мы недостойны и дышать, – писал Феодор Навкратию, – но благой Бог к сосланным ради Него всегда внимателен, оберегает, промышляет, заботится в большей мере, чем можно было надеяться».
Вернувшись в столицу, Никита доложил императору, что исполнил всё, как он повелел, и передал ему изъятые у Феодора и его соузников книги, иконы и деньги. Лев повелел поместить книги в дворцовую библиотеку, иконы сжечь, а деньги раздать нищим.
– Надеюсь, теперь этот неугомонный станет молчаливее! – сказал он.
В это время Феодор читал только что принесенное письмо, и слезы текли по его щекам. «Слава Богу! – думал он. – Еще одна заноза вынута. И еще один исповедник просиял во вселенной!» Игумен Феофан писал ему впервые за несколько лет: связь Феодора со своим восприемником по постригу прервалась после начала смуты из-за возвращения сана эконому Иосифу. Тогда Великопольский игумен прислал Студийскому резкое письмо, где порицал его за противление патриарху и говорил, что Феодор без нужды ворошит старые дела, никого теперь не интересующие и ни к чему не служащие, кроме смуты… Феодор написал Феофану обстоятельное послание, где обосновывал свою позицию, но ответа не последовало. Ни в ссылке на острове Халки, ни по возвращении из нее Феодор доныне не получал из Великого Поля никаких вестей, несмотря на то, что несколько раз писал Феофану. Феодор печалился и не знал, как возобновить прерванные отношения… И вот, письмо, которое он уже не чаял получить, было перед ним. Оно шло окольными путями, несколько месяцев, но всё-таки дошло и очень утешило Студита.
Феофан писал, что через две недели после Богоявления императорские чиновники, прибыв в Великое Поле, вручили ему письмо василевса, просившего игумена прибыть в столицу: «Приди и помолись за нас, ибо мы отправляемся в поход на варваров». Предлог этот показался Феофану надуманным. «Разве нет в столице других молитвенников, что государь послал за мной, недостойным?» – спросил он. Но посланцы императора стали уверять, что Лев давно уже наслышан о его иноческих подвигах, а кроме того недавно прочел написанную им «Хронографию» и желает видеть ее автора и просить его благословения. Феофана забрали из обители, несмотря на то, что игумен страдал от жестокого почечного приступа и даже ходить не мог: его отнесли к повозке, а затем к кораблю на носилках. На прощание игумен собрал всю братию и преподал им наставление: не изменять православию, что бы ни предстояло – гонения или даже смерть, – и не оставлять монашеских правил, куда бы ни забросила судьба. Братия плакали. Феофан взял с собой только своего келейника Анатолия. По приезде в столицу им определили местом жительства монастырь Сергия и Вакха. Там поминали нового патриарха, поэтому в храм Феофан не ходил и молился в келье вместе с Анатолием. Прошло три дня, и Лев через одного архонта пригласил игумена на воскресное богослужение в храм Святой Софии, с тем чтобы после литургии просить у старца благословения и молитв и пригласить его к праздничной трапезе. Феофан ответил императорскому посланцу, что сожалеет, но никак не может присутствовать на богослужении в Великой церкви, поскольку не может сослужить с неправославным патриархом. Уже на следующее утро игумен обнаружил, что дверь в келью, где жили они с Анатолием, заперта снаружи. Около полудня монах, принесший скудную пищу, на вопрос келейника ответил, что дверь отопрут и вообще отпустят их куда угодно, если они побывают на богослужении в Святой Софии и причастятся вместе с патриархом Феодотом.
– Что ж, – сказал Феофан, – посидим взаперти.
В понедельник к нему пришли люди от василевса и требовали вступить в общение с патриархом.
– Не знаю никакого патриарха, кроме святейшего Никифора, – ответил игумен, – а с ним я общения никогда не прерывал.
Разговор продолжался в том же духе и ни к чему не привел; чиновники ушли, пригрозив жестокой карой. Они приходили еще два раза, с перерывами в несколько дней, и диалог повторялся почти без изменений. В третий раз они попытались соблазнить одного келейника, но тот попросту заткнул пальцами уши и закрыл глаза. Тогда логофет в сердцах дал ему несколько пощечин, после чего их с Феофаном вновь заперли, а на другой день перевели в одно из подвальных помещений, где держали на хлебе и воде. От боли в почках игумен лежал, почти не вставая. Келейник крепился, хотя по ночам Феофан, который спал мало, иногда слышал, как Анатолий тихо всхлипывает, свернувшись под мантией на тонкой подстилке в углу. Так прошло около месяца, и вдруг однажды ночью они услышали как по соседству словно бы раздается пение. Келейник приложил ухо к стене и прислушался.
– «Се, Жених грядет в полуночи», – прошептал он. – Отче, там кто-то есть и поет «Се, Жених»!
– Значит, мы не одни тут посажены молиться о благоденствии императора, – усмехнулся Феофан.
Через два дня от носившего им пищу монаха, благорасположенного к ним, хотя и боявшегося нового игумена Сергие-Вакхова монастыря, они узнали, что рядом с ними в том же подвале заключен экзарх константинопольских монастырей игумен Далматский Иларион. А спустя неделю Феофан был вызван для разговора к Грамматику.
Обо всем этом Феофан кратко рассказал в письме Феодору, а в конце, упомянув об угрозах иконоборцев и о вопросе Иоанна насчет божества Христова, писал: «Ты, может быть, удивишься, отче, но беседа с этим человеком приняла весьма неожиданный оборот и принесла много пользы моей бедной душе. Иоанн говорил также о разных вещах, не имеющих отношения к иконопочитанию, о которых недосуг ныне рассказывать подробно. Нельзя не признать, что этот человек умен и, пожалуй, весьма проницателен. Скажу лишь, что разговор с ним привел меня к осознанию того, что я очень виноват перед тобой, преславнейшее чадо, чьим отцом я недостоин называться. Я много осуждал тебя раньше за разные твои, как мне казалось, дерзкие деяния, но теперь вижу, что ты был прав, а я заблуждался. Прости меня, недостойного и грешного, и помолись, чтобы Господь сподобил меня совершить предстоящее поприще исповедания святой нашей и непорочной веры. Я же непрестанно молю Бога за тебя, возлюбленный мой отец, да укрепит тебя Господь шествовать по предлежащему нам поприщу скорбей, и да сподобишься вечного венца славы во царствии Божием. Брат мой Анатолий приветствует тебя и просит святых твоих молитв».
…Кассия подхлестнула лошадь, и та резво потрусила вдоль кромки пшеничного поля. Афина, небольшая вороная кобылица, была куплена, когда Кассия, едва ей исполнилось десять лет, решительно заявила матери, что хочет научиться ездить верхом. Мать с приказчиком долго выбирали, искали смирного коня; Марфа никогда в жизни не садилась на лошадь и побаивалась за дочь. Приказчик, в молодости бывший конюхом у одного патрикия, сам взялся учить юную госпожу ездить верхом. Кассия делала успехи, и на следующий год ее даже стали отпускать ездить одну. Летом, приезжая в их имение, она, бывало, по полдня не слезала с лошади, кружа по окрестным лугам и рощицам. Иногда, устав, она спрыгивала на землю и, упав прямо в траву, лежала и смотрела в небо, а лошадь паслась тут же. Стрекотали кузнечики, в воздухе стоял густой цветочный аромат, по небу плыли редкие облака, и Кассии казалось, что она тоже уплывает вместе с ними… На третье лето она, тайком от домашних, стала уезжать всё дальше – по ближним селениям и даже к лесу, в который, впрочем, углубляться опасалась. Встречавшиеся селяне провожали юную наездницу удивленными взглядами, селянки ахали, а мальчишки с гиканьем бежали следом. В одном месте, на небольшой лужайке у леса, Кассия обнаружила удобное место для упражнений: здесь была канава и несколько поваленных деревьев, лежавших почти через равные промежутки – как раз для скачки с препятствиями, а неподалеку возвышался небольшой, но довольно высокий холм, куда можно было заехать и созерцать окрестности. Кассия чувствовала себя почти амазонкой, не хватало только какого-нибудь дротика или копья…
Как-то раз она отправилась туда довольно рано поутру. До наступления жары оставалось еще несколько часов, пели птицы, бабочки разлетались из-под копыт лошади, стрекоза задела крылом по лицу Кассии, и девочка улыбнулась: было хорошо и не страшно. На подъезде к заветной лужайке она уже стала разгонять лошадь, чтобы с разбегу взять все три дерева подряд, как вдруг заметила на вершине холма всадника. Она натянула поводья и остановила Афину, которая удивленно и недовольно замотала головой. «Ладно, если что, ускачу!» – подумала Кассия и хлестнула лошадь. Когда та легко перемахнула через все препятствия, всадник спустился с холма и подъехал. Это был юноша лет восемнадцати, темноволосый, кареглазый, стройный. Его гнедой конь был норовист – ни мига не стоял на месте, перебирал тонкими ногами, косил горячим глазом.
– Привет! – крикнул юноша, подъезжая. – Ну, ты даешь! Летаешь, как птица!
– Здравствуй, – ответила Кассия.
– Как… – начал было он, но внезапно умолк и смотрел на нее, словно бы ему явилось видение.
Она нахмурилась и, повернув лошадь, немного отъехала.
– Что ты так смотришь?.. Я не статуя!
– Нет, не статуя, конечно! – улыбнулся он. – Как тебя звать?
– Кассия.
– А меня Акила. Ты оттуда? – он махнул головой в сторону Марфиного имения. – Из дома на холме?
– Да. Откуда ты знаешь?
– Мне отец говорил, что там живет вдова с дочерьми, что одну из дочерей зовут Кассия и…
– И что?
– И что она очень красивая, – улыбнулся Акила.
Кассия чуть наморщила нос.
– А я, – продолжал Акила, – только недавно приехал. Пять лет прожил в Афинах, а теперь вот буду в столице изучать философию.
– Мою лошадь зовут Афина.
– О! А моего – Геракл!
– Да, – сказала Кассия, с восхищением рассматривая коня, – он и правда такой красавец-герой!
– Твоя Афина тоже хороша! Ты давно ездишь верхом?
Они болтали довольно долго; наконец, Кассия спохватилась, что ей пора домой, а то ее потеряют, будут беспокоиться.
– Я буду здесь недели две, – сказал Акила. – Мы еще встретимся?
– Может быть.
На другой день она поехала туда же ближе к вечеру и заметила, что там кто-то уже был до нее: свежие следы копыт виднелись по обеим сторонам канавы. Акила! – догадалась она и нахмурилась. Наверное, он приезжал сюда утром, надеясь встретить ее опять. Кассия отъехала к подножию холма и задумалась. Хотелось ли ей самой встречаться с этим юношей? С ним, в общем, было о чем поговорить, и не скучно… Но если б он мог общаться с ней просто как с другом, а не как с красивой девушкой! Но он, кажется, так не мог… «Нет, лучше мне больше не видеться с ним! – подумала она. – Подожду недели три, тогда он уедет, и можно будет опять приезжать сюда… Вот несносная красота! Везде мешает… Хотя, конечно, приятно, когда тобой восхищаются, но… Нет, не буду с ним больше встречаться! Вдруг я ему слишком понравлюсь…» – и, развернув лошадь, она поехала в сторону дома.
Кассия еще год назад избрала свой путь. Это случилось осенью – второй осенью без Святой Софии, где теперь служили иконоборцы. Марфа с дочерьми больше не ходили туда, но каждый раз после посещения Книжного портика – а это бывало еженедельно – заходили к Милию и, стоя под аркой прижавшись друг другу, долго смотрели на великий храм и про себя молили Бога, чтобы православие поскорей восторжествовало.
В тот день они вышли из книжной лавки и направились к Милию, как вдруг Марфу остановила одна знакомая патрикия. Они разговорились, а Кассия быстро соскучилась, слушая их, вернулась с одной из служанок в портик и принялась вновь рассматривать книги на прилавке. Тут в сопровождении слуг вошли молодой мужчина и две девушки, одна довольно хорошенькая, а другая совсем некрасивая, но в то же время в их лицах было явное сходство: как будто по одному и тому же образцу были нарисованы два образа, но один художником, а другой – неумелым учеником. Мужчина спросил у торговца, готов ли его заказ и, узнав, что еще нет, недовольно заворчал. Торговец стал оправдываться, что «господин заказал слишком большую работу, буквицы, украшения, сами понимаете…», – и просил зайти через неделю.
– А нет ли у тебя «Лествицы» святого Иоанна, господин? – спросила некрасивая девушка.
– Есть, как не быть! Один миг! – торговец отошел к большому шкафу, открыл его и стал перекладывать рукописи, разыскивая нужную.
– Зачем она тебе, сестрица? – спросила другая девушка. – Ведь это для монахов!
– Да, – ответила та тихо, – но ведь мне уже надо готовиться…
– Что, всё-таки решила в монастырь?
– Да, решила.
– Готовиться так готовиться! – весело сказал их спутник. – Я тоже думаю, что прежде чем что-то предпринимать, надо справиться у знающих людей, каково это будет. Глядишь, узнаешь, как приходится жить монахам, так и передумаешь! – он рассмеялся.
Некрасивая девушка ничего не ответила, взяла у торговца книгу, полистала, спросила, сколько стоит, развязала висевший на поясе кожаный кошелек и стала отсчитывать монеты. Торговец завернул книгу в холщовый лоскут, и мужчина положил ее в суму, которую держал один из слуг, после чего все они вышли из портика. А Кассия неподвижно стояла над раскрытой рукописью Златоуста.
«Готовиться!» Это слово из подслушанного чужого разговора поразило ее, как молния. Оно прозвучало словно ответ на мысли, уже давно бродившие в ее голове. С детства часто общаясь со студийскими монахами, слыша об их подвигах и борьбе за церковные каноны, она восхищалась ими: монахи казались ей героями, кем-то вроде христианских Геракла и Гектора. Иногда она мечтала, как тоже примет монашество и будет «подвизаться за правду Христову». Но периоды восторженных мечтаний сменялись временами сомнений. Ведь, с другой стороны, она знала, что монахи живут по очень строгим правилам, по раз и навсегда заведенному распорядку, который они не могут нарушить, и это немного пугало ее. Хотя ее жизнь текла, в общем, достаточно размеренно и вовсе не беспорядочно, но всё же она могла в то или иное время заниматься разными вещами, читать книгу или гулять, или даже лечь и уснуть, а то и просто сидеть в саду, наблюдая, как котенок ловит бабочку, – монахи же, как ей было известно, не имели такой свободы. Зато они, как говорилось в писаниях отцов, имели великую помощь Божию на своем пути и гораздо быстрее, чем миряне, могли достичь божественных созерцаний и свободы от страстей… Кассия любила читать и проводила за книгами очень много времени, она читала везде – у себя в комнате, летом в саду, зимой в кресле у жаровни, иногда даже за едой не могла оторваться от книжки. Но монахи, как она знала, особенно новоначальные, больше упражнялись в трудах где-нибудь в поле, в огороде, на кухне, в мастерских; в том же Студийском монастыре книги в библиотеке выдавались братии лишь в определенное время, и как только проходили часы, отведенные на чтение, и звучал удар била, инок обязан был немедленно вернуть книгу библиотекарю, в противном случае его ждала епитимия… Конечно, такая жизнь была хороша для большинства монахов, но Кассию, с ее любовью к чтению и познаниям, она несколько пугала. Раздумывая об этом, она обращалась мыслью к возможности вступить в брак, но тут те же самые склонности ее натуры «делали тесно» с другой стороны: замужняя женщина по необходимости должна была много заниматься домом, семьей, детьми, хозяйством… Это, впрочем, было бы еще ничего, ведь перед глазами Кассия имела пример собственной матери, всегда находившей время для чтения; но главный вопрос был в том, как найти мужа, который бы разделял устремления такой жены, какой стала бы Кассия, – того, с кем ей самой можно было бы прожить рядом всю жизнь «не скучно и уютно»… Ее отец и мать встретились как бы случайно, но на самом деле, как говорила Марфа, в этом был «великий промысел». Однако Марфа в детстве никогда не задумывалась о монастыре, в отличие от дочери. В чем был «великий промысел» для Кассии?.. Когда девочка узнала от матери о том, что у земледельца Панкратия, который однажды угостил ее лепешками и сказал, что от любви «исчезает ум», дочь – ту самую, которую он, вместо того чтобы отпустить в монастырь, выдал замуж, – варвары пленили и заклали в жертву, Кассия была очень поражена, расплакалась, а потом много раздумывала об этом случае. Не стало ли несчастье следствием того, что убитая девушка и ее родители в свое время не познали «великого промысла»? Ведь если б она ушла в монастырь, то осталась бы жива… С другой стороны, хоть она и погибла так страшно, но, как истолковал отец Нил, стала христианской мученицей, святой, а разве мучениками становятся не по «великому промыслу»? И стала бы она святой, если бы прожила жизнь в монастыре, еще неизвестно… Какой же из «великих промыслов» для нее был лучше?.. А что должна избрать Кассия?..
«Готовиться!» Когда она услышала это, в ней словно воссияло: вот он, ответ, точный и несомненный! Монашество! Кассия закрыла рукопись, которую рассматривала, и медленно вышла из лавки. Мать как раз уже прощалась со знакомой, Кассия подошла, и они пошли к Милию. Марфа, по-видимому, раздумывала над тем, что ей рассказала патрикия, и потому молчала, а Кассия была этому рада: она ощущала себя сосудом, который вдруг до краев наполнили водой, и теперь надо было не расплескать. Пройти по жизни, не расплескав. И, стоя у Милия и глядя на крест Святой Софии, Кассия мысленно помолилась: «Господи! Если Ты зовешь меня на этот путь, то я иду!» – и тут же ощутила второй «удар», точнее, как она это сама для себя потом называла, «разверстые небеса». Нет, конечно, на самом деле, небеса не раскрылись, и она ничего не увидела, но она внутренне ощутила, как словно некая рука коснулась ее сердца – и как будто забрала его туда, в небесную высоту. Не было никаких сомнений, Чья это рука.
– Ну что, пойдем домой? – спросила Марфа.
– Пойдем.
Кассия шла, и ей казалось, что мир – вся эта шумящая толпа вокруг, этот Город, который она так любила, шедшая рядом мать, вообще всё – как бы отделился от нее прозрачной стеклянной стеной: он был рядом, она была в нем, и в то же время ее в нем не было. С того дня она больше не думала о замужестве как о возможности для себя, она просто не могла об этом думать: мысль о браке внутренне воспринималась как измена и натыкалась словно на некую невидимую стену, выросшую в ее сердце. Жених уже пригласил ее на брак – и это был тот единственный случай, когда отказать было нельзя: звал не человек, а Бог.