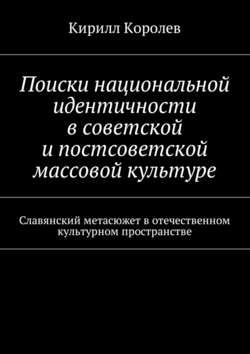Читать книгу Поиски национальной идентичности в советской и постсоветской массовой культуре - Кирилл Королев - Страница 6
Часть 1. Культура современного общества: жанры, формулы, метасюжеты
Массовая беллетристика как формульная литература
ОглавлениеМассовую беллетристику в литературоведческих исследованиях и в публицистике нередко определяют как «формульную литературу», вкладывая в это определение уничижительный смысл, вновь заставляющий вспомнить казалось бы отмирающее противопоставление «высокой» и «низкой» литератур. «Обычные оценки… определяют массовую (она же – низовая, тривиальная, банальная, макулатурная, развлекательная, популярная, китчевая и т. д.) литературу как стандартизованную, формульную, клишированную, подчеркивая тем самым примитивность ее конструктивных принципов и экспрессивной техники. Однако внимательный анализ обнаруживает чисто идеологический характер подобных групповых оценок… Очевидно, что имеет место чисто оценочный и идеологический перенос содержательного, тематического момента на систему конструктивных принципов84». В частности, именно такое понимание дефиниции «формульная литература» свойственно работе С. В. Чупринина «Русская литература сегодня. Жизнь по понятиям»85, позиционируемой как терминологический словарь и как учебное пособие. Одним из следствий подобной трактовки является, о чем говорилось выше, распространенное в академических кругах и среди представителей нормативной литературной культуры отношение к массовой беллетристике в частности и к массовой культуре в целом как к предмету, недостойному «серьезных» исследований.
Впрочем, все шире словосочетание «формульная литература» используется не как оценочный параметр, а как литературоведческий термин (подобно «банализации» в работах П. Бурдье), обозначающий особый тип беллетристики, характерный для массовой культуры. Этому типу беллетристики присуще, как следует из самого определения, использование формул, то есть конвенциональных структур сюжетов и образов, лежащих в основе однотипных произведений. Данный термин был предложен Дж. Кавелти86, и сегодня он применяется не только к литературе (массовой беллетристике), но и к другим видам массового искусства, прежде всего к кинематографу. Сам Кавелти позднее использовал термин «формульное повествование»87, однако это определение в значительной степени тавтологично («совокупно-повествовательное повествование»), поэтому логичнее рассуждать именно о формульной литературе.
Формульный элемент, по Кавелти, создает идеальный мир, в котором отсутствуют беспорядок, двусмысленность, неопределенность и ограниченность реального мира. Более того, «давнее знакомство читателей с формулой дает им представление о том, чего следует ожидать от нового произведения, тем самым повышает возможность понять и оценить в деталях новое сочинение». При этом «…формульный образец существует длительный период времени, прежде чем его создатели и читающая публика начинают осмысливать его как жанр» (перекличка с упоминавшейся выше теорией ключевых текстов). Формульная литература делает «акцент на действии и сюжете», в ней выражена «эскапистская особенность (уход от реальности)», она представляет собой «попытку интенсивного возбуждения, вовлечения в мир опасностей и переживаний»; при этом создаваемые формульной литературой фикциональные миры – это моральные фантазии (moral fantasy), которые помогают читателю испытать множество разнообразных сильных чувств без тех опасностей и трудностей, которые обычно сопровождают их в реальности. Значимость и особенность этих фантазий в том, что они позволяют читателям исследовать и испытывать границу между разрешенным и запрещенным, в том числе – запрещенным физическими законами реального мира.
Очевидно, что фэнтези отвечает всем перечисленным признакам формульной литературы. Однако определение Кавелти, на наш взгляд, нуждается в уточнении и расширении. Как представляется, понимание под формулами основных тематических направлений массового искусства (детектив, любовный роман и пр.) не совсем корректно – в первую очередь, из-за размытости «жанровых границ», многообразия вариаций конкретной формулы и невозможности однозначно дифференцировать художественные произведения по содержательному признаку. Вследствие этого предлагается характеризовать основные виды современной массовой беллетристики и массового искусства в целом именно как направления (фэнтези, триллер, «бондиана» и пр.), а понятие формулы применять для описания разновидностей указанных направлений. К примеру, когда имеется ряд произведений разных авторов, где художественно переосмысливаются последствии проникновения сверхъестественных сил в повседневную городскую жизнь, мы вправе говорить о «городской» формуле фэнтези. А когда в другом ряде произведений рассказывается о магических трансформациях известной реальности, мы можем постулировать наличие «альтернативной» формулы.
Опираясь на такое понимание формулы и на сюжетно-тематический принцип классификации фэнтези, можно, к примеру, выделить в современном фэнтези следующие литературные/культурные формулы:
– героико-эпическая (или «высокое» фэнтези, или «меч и магия»88);
– готическая (хоррор и вампирская тематика);
– «темная» («низкое» фэнтези, героико-эпическое фэнтези «наоборот»);
– городская (вторжение потустороннего в современную урбанизированную жизнь);
– детективная (детективные сюжеты в фэнтезийных мирах);
– альтернативная (изменение хода истории в реальном мире под воздействием магии);
– историческая (художественное изложений событий истории вымышленного мира, с минимальным внимание к проявлениям иррационального в этой истории).
Данные формулы характерны, по нашему мнению, именно для современного состояния фэнтези; в истории этого явления можно выделить и другие формулы, но сегодня они, как представляется, не являются актуальными – так, авантюрно-приключенческая формула, свойственная первому этапу развития фэнтези («прото-фэнтези», 1920-е – 1940-е годы), эволюционировала в нынешнюю героико-эпическую, и аналогичная эволюция зафиксирована для других ранних формул (подробнее об этом см. Приложение 3)89.
Построение классификации фэнтези на основе формул позволяет формализовать указанную классификацию по сюжетно-тематическому принципу, причем такой классификатор обеспечивает широкий контекст для каждой категории. Кроме того, классификация с использованием формул обладает достаточно гибкостью, чтобы учитывать дальнейшую эволюцию фэнтези как литературного и социально-культурного явления.
Отталкиваясь от данного выше определения фэнтези и от классификации литературных/культурных формул, мы значительно сужаем историческое пространство эволюции этого жанрово-тематического направления. Безусловно, фэнтези имеет богатую предысторию (как уже упоминалось, некоторые исследователи прослеживают традицию фэнтези до эпоса о Гильгамеше и Гомера90), однако как способ массового приобщения к чудесному данное явление оформилось лишь в XX столетии.
84
Гудков Л. Д., Дубин Б. В. Литература как социальный институт. Статьи по социологии литературы. М.: НЛО, 1995. С. 70.
85
См. статьи «Вкус литературный», «Криминальная проза», «Лавбургер», «Массовая литература», «Миддл-литература» // Чупринин С. В. Русская литература сегодня. Жизнь по понятиям. М.: Время, 2007.
86
Кавелти Д. Изучение литературных формул // Новое литературное обозрение. 1996. №22. С. 33—64.
87
Cawelty J. Mystery, Violence, and Popular Culture. Chicago: Popular Press, 2004.
88
С. Алексеев предлагает различать героическую и эпическую фэнтези на том основании, что эпическая фэнтези строит «вторичные миры» и потому мифологична, а героическая сосредоточена на поступках индивида, чьи действия никак не влияют на миропорядок. См.: Алексеев С. Гомеры нового времени. // Если, 2006. №9, с. 281. На мой взгляд, это разграничение было правомерно «до Толкина»: в современной героико-эпической фэнтези индивид и мир, как правило, неразделимы.
89
Об эволюции фэнтези см.: Magill Frank N., ed. Survey of Modern Fantasy Literature. 5 vols. Englewood Cliffs, NJ: Salem Press, 1983; Moretti F. Graphs, Maps and Trees: Abstract Models for a Literary History. London, New York: Verso, 2005.
90
Так, английский исследователь Д. Прингл среди «источников» фэнтези перечисляет героический эпос, народную сказку, «древний религиозный элемент», мифологические мотивы и т. д. и завершает свое рассуждение следующим выводом: «Если считать от самого начала, фэнтези развивалась во множестве форм вместе с мировой литературой. Она присутствует в культуре с момента изобретения письменности, то есть 5000 лет». См.: Pringle D. Fulfilling the Heart’s Desire. // The Ultimate Encyclopedia of Fantasy. P. 9.