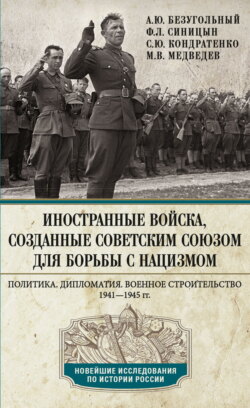Читать книгу Иностранные войска, созданные Советским Союзом для борьбы с нацизмом. Политика. Дипломатия. Военное строительство. 1941—1945 - Алексей Юрьевич Безугольный - Страница 7
Часть вторая
Исторический опыт и организационно-политические основы формирования иностранных воинских частей в СССР
Глава 3
Иностранные формирования дореволюционной России
ОглавлениеПервым иностранным войском, призванным на службу Русскому государству, можно считать варяжские дружины Рюрика. Впоследствии из иноземных наемников образовались военно-торговые дружины, расположившиеся по торговому пути «из варяг в греки». С раздроблением Руси на уделы князья стали призывать себе на помощь отряды кочевников. Московские государи начиная с Иоанна III также пользовались услугами иноземных воинов. К концу XVI в. при московском дворе была создана «иноземная гвардия». При Михаиле Федоровиче иностранные отряды приняли характер постоянных войск, служа в то же время образцом для русских частей. Некоторым иноземцам-рейтарам были даны поместья и вотчины, а других отправляли «на корм» в города. С учреждением регулярной армии в 1700 г. иноземные войска в большей части были переформированы в полки регулярной пехоты и кавалерии[123].
В начале XVIII в. в России опять появляются иностранные войска, к которым, в частности, относились «мекленбургский корпус»[124], «хоругви», созданные из сербских, венгерских и валашских наемников, которые участвовали в Прутском походе[125], а также «голштинские войска» Петра III[126]. С 1751 г. в России формировались сербские гусарские полки, участвовавшие в Семилетней войне[127]. В 1769 г. из Валахии, Молдавии и Болгарии в Россию прибыли от 2 до 3 тыс. волонтеров, из которых был сформирован полк. Во время Русско-турецкой войны 1768–1774 гг. в ряды русской армии принимали валахов, болгар и сербов. В последующие годы они поселились в пределах России и составили костяк Бугского казачьего полка. Это подразделение принимало участие в Русско-турецкой войне 1787–1791 гг., в ходе которой к нему примкнули новые иностранные добровольцы[128].
В 1797 г. Павел I предложил французскому принцу Конде прибыть в Россию вместе с его армией для несения военной службы в России и последующего участия в войне с революционной Францией[129]. Император выдвинул условия, что войска Конде составят отдельный корпус за пределами общего состава русской армии, но «будут подчиняться на территории моей страны той же дисциплине и служить так же, как мои собственные, без единого исключения», а также должны будут принести «общепринятую присягу»[130].
Многие дворяне из корпуса Конде в связи с перспективой перехода в Россию покинули его ряды, и к концу января 1798 г. численность корпуса составляла 4320 человек, в том числе 355 генералов и офицеров. Штаб корпуса Конде вскоре был расквартирован в городе Дубно[131]. В середине апреля 1798 г. корпус насчитывал около 6 тыс. человек и состоял из пяти полков (одного гренадерского, двух мушкетерских и двух драгунских), одного артиллерийского батальона, двух отдельных пехотных рот охраны и полицейской роты[132].
В 1799 г. Россия направила корпус Конде на помощь Австрии в войне против Франции. В октябре того же года в боях под Констанцем эмигранты и поддерживающие их русские части проявили большую храбрость. Тем временем Россия вышла из антифранцузской коалиции, и корпус Конде должен был отправиться на место своей прежней дислокации в Волынскую губернию. Однако в марте 1800 г. по договоренности с британским правительством Павел I принял решение о переходе корпуса на содержание Великобритании. Император оставил «кондейцам» в знак благодарности за верную службу все снаряжение, вооружение, обмундирование, а также повозки и лошадей[133]. Впоследствии, после Люневильского мира между Австрией и Францией, в июне 1801 г. армия Конде была распущена[134].
В июне 1812 г. приглашенный в Россию германский барон К. Штейн представил Александру I проект организации «Немецкого легиона»[135]. Подобный корпус – Королевский Германский легион в рядах британской армии – успешно сражался с французами на Пиренейском полуострове. Важной предпосылкой стала также готовность многих офицеров прусской, австрийской и иных немецких армий перейти на русскую службу в случае войны[136].
Александр I принял решение о формировании Русско-германского легиона 26 августа (7 сентября) 1812 г. Затем было издано воззвание за подписью М.Б. Барклая де Толли к «офицерам и солдатам германской нации», входившим в состав армии Наполеона, с призывом переходить на сторону русских и вступать в легион. Пунктами его формирования были назначены Ревель и Киев (впоследствии Рига, Тверь и Белый), куда начиная с августа 1812 г. стали перемещать немецкоязычных пленных и перебежчиков (преимущественно пруссаков). Записывавшиеся в легион люди руководствовались различной мотивацией: прежде всего, это желание избавиться от тягот плена и вернуться на родину, но была и категория лиц, завербованных насильно. Изъявившим согласие гарантировали немедленное возвращение домой после окончания войны, а офицерам выдавали по 500 руб. единовременного пособия. Офицерские вакансии пополнялись за счет эмигрантов на русской службе, среди которых были такие известные фигуры, как будущий премьер-министр Пруссии Э. фон Пфуль и военный теоретик К. фон Клаузевиц. Для облегчения взаимодействия с русскими войсками в легион включили офицеров из числа остзейских немцев. Добровольцами поступали и немецкие колонисты – например, 271 человек из Саратовской губернии. Подготовка легионеров проводилась по русскому воинскому уставу[137]. Командование русской армии уделяло большое внимание формированию легиона, его вооружению, экипировке и продовольственному снабжению[138].
К концу декабря 1812 г. в составе легиона имелись пехотный батальон, рота егерей, гусарский полк и конноартиллерийская рота. С начала 1813 г. их частями начали поэтапно перебрасывать в Восточную Пруссию. К апрелю того же года личный состав легиона включал 6,5 тыс. человек. Затруднения, связанные со снабжением легионеров, русское командование пыталось разрешить всеми возможными способами. Первоначально легион оплачивался русским кабинетом, но финансы страны находились в критическом состоянии. С 24 июня (6 июля) 1813 г. содержание легиона взяла на себя Великобритания, ограничив его личный состав до 10 тыс. человек. Британцы также поставили условие самим производить назначения в офицерском корпусе и применять легион только в североевропейском регионе. Весь 1813 г. легион воевал в Северной армии союзников. Последнее сражение этого похода, в котором участвовали легионеры, произошло 31 марта 1814 г. у Куртре, где французы разбили войска союзников. Вслед за окончанием боевых действий легион перевели на нижний Рейн. Затем, 18 июня 1814 г., он был принят на службу Пруссией[139], а в апреле 1815 г. король Фридрих Вильгельм II распустил легион[140].
В период Крымской войны в составе русской армии воевало подразделение греков-добровольцев – «легион имени императора Николая I», который формировался осенью 1854 г. из разрозненных рот волонтеров, находившихся при различных пехотных полках. Возглавил подразделение добровольцев подполковник Г. Папаафаносопуло. В феврале 1855 г. греческий легион принял участие в попытке штурма Евпатории в составе русских войск под командованием генерал-лейтенанта С.А. Хрулева. После этого греки отступили в осажденный Севастополь. За участие в штурме Евпатории греческие офицеры и солдаты были отмечены русскими наградами[141]. По окончании Крымской войны легион был расформирован.
Следующий опыт привлечения иностранцев в русскую армию относится ко времени Первой мировой войны. Формирование Чехословацкого корпуса стало в целом наиболее масштабной акцией по созданию в дореволюционной России иностранных формирований.
С началом Первой мировой войны среди чехов и словаков оживились никогда не прекращавшиеся попытки добиться национальной независимости. Значительная часть представителей этих народов, проживавших в пределах Российской империи, была готова с оружием в руках сражаться за свободу своей родины. Почин в создании воинских частей из представителей славянских народов Австро-Венгрии принадлежал Чешскому национальному комитету – организации чехов-колонистов в Российской империи. Уже 25 июля 1914 г., в день официального объявления войны, комитет принял обращение к императору Николаю II. Через пять дней, поддерживая инициативу чехов, Совет министров Российской империи принял решение о формировании «Чешской дружины»[142]. 8 августа 1914 г. военный министр Российской империи В.А. Сухомлинов издал соответствующий приказ[143].
Цели правительства России при создании чехословацких частей были политическими (создание дружественного России Чехословацкого государства на обломках Австро-Венгерской империи), идеологическими (факт проявления лояльности и верности идее «славянства»)[144] и пропагандистскими (подрыв обороноспособности австро-венгерской армии и разжигание сепаратистских тенденций в Австро-Венгрии[145], включая поднятие мятежа в чешских регионах[146]).
Чехословацкие политические деятели, в свою очередь, стремились помочь императорской армии людскими ресурсами[147], подчеркнуть свою лояльность по отношению к могущественному восточному соседу, бороться за независимость своего народа, а также заложить ядро будущей национальной армии[148]. Вопрос участия чехов в войне имел важное значение, так как позволял представить их воюющей стороной и затем обеспечить создание независимой Чехословакии[149].
Центром формирования Чешской дружины был определен Киев, который находился близко и к территории Волыни, где проживало наибольшее число чехов, и к Юго-Западному фронту, где предстояло действовать частям дружины. Ее формирование было завершено в сентябре 1914 г.[150]
Сначала власти взяли курс на вовлечение в дружину чехов и словаков – подданных Российской империи (на территории России проживало около 60–70 тыс. чехов и 2 тыс. словаков[151], или – по другим данным – до 120 тыс. и даже 200 тыс. чехов и словаков[152]). Ввиду того что добровольцы не имели военной подготовки, перед отправкой на фронт предполагалось провести их военное обучение.
Однако сразу рассматривалась и возможность вовлечения военнопленных (в России к 1917 г. находилось от 200 до 250 тыс. военнопленных чехов и словаков[153]). В.А. Сухомлинов в августе 1914 г. приказал «по окончании формирования всех офицеров и низших чинов заменить чехами из числа военнопленных добровольцев»[154]. Юридическая сложность заключалась в том, что правительством Российской империи была подписана Гаагская конвенция, запрещающая использовать военнопленных в войне против их стран[155]. Выходом стало участие добровольцев в составе русской армии с присягой на верность России и переходом в российское подданство[156]. После того как дружина была укомплектована, на младшие командные должности стали назначать военнопленных чехов[157].
Однако число добровольцев было невелико. Во-первых, изначально агитация к вступлению в Чешскую дружину велась весьма слабо. Во-вторых, военнопленные, зачастую сдавшиеся в плен с целью остаться в живых, имели льготы в русском плену и не слишком хотели записываться в дружину, предпочитая идти на различные работы в тылу[158]. Чехи и словаки – вольноопределяющиеся и офицеры – шли в дружину с большей охотой, так как здесь им гарантировались офицерские должности либо поступление в офицерские школы[159].
В начале октября 1914 г. в дружине состояли, по разным данным, от 701 до 774 добровольцев, а также 25 офицеров и 133 русских нестроевых военнослужащих[160].
В марте 1915 г. император Николай II дал разрешение на вступление в Чешскую дружину и словакам (ввиду намечавшегося создания единого Чехословацкого государства). Во второй половине 1915 г. по просьбе чешских общин в состав дружины включались не только добровольцы, но и уже мобилизованные в русскую армию чехи[161].
Следует отметить, что российские власти изначально имели сомнения в «идейности» личного состава чехословацких частей (особенно бывших военнопленных)[162]. Правительство волновало то, что чехи и словаки принимали присягу на верность Австро-Венгерской империи, а теперь нарушают ее, а значит, способны нарушить присягу и во второй раз[163]. Присоединению чехов и словаков к дружине противились русские промышленники и крупные землевладельцы, испытывавшие острую нужду в рабочей силе, которую они получили в лице военнопленных[164]. Так, например, на Урале заводская цензура часто не пропускала письма чехов с просьбой об их зачислении в Чешскую дружину[165]. Еще одной причиной торможения создания чехословацких воинских частей была борьба различных направлений и группировок в чехословацких общественно-политических организациях[166].
Практика комплектования также была противоречивой. В начале войны в России был разработан особый комплекс мер по содержанию военнопленных-славян, предусматривавший для них широкие льготы. Весной 1916 г. было принято решение о предоставлении пленным славянам новой льготы – освобождение их под честное слово и под поручительство национальных организаций с правом последующего перехода в российское подданство[167]. Однако, по другим данным, с целью стимулировать вступление пленных в добровольческие подразделения кое-где практиковалось, наоборот, ухудшение условий содержания[168].
В начале октября 1914 г. дружина была направлена в распоряжение командования Юго-Западного фронта, где вошла в состав 3-й армии генерала Р.Д. Радко-Дмитриева. На фронте чехи использовались как фронтовые разведчики[169]. Эффективной была и их агитационная работа в неприятельской армии[170]. Кроме того, в ноябре 1914 г. в Прагу был послан отряд из пяти добровольцев на переговоры с чешским подпольем[171].
В ходе ожесточенных боев в ноябре – декабре 1914 г. Чешская дружина прошла боевое крещение, постепенно превращаясь из ополченской части в подлинную боевую часть. Она участвовала во всех боях, которые вела 3-я армия Юго-Западного фронта до конца 1914 г. Использование чешских разведчиков оказалось весьма успешным. Дружина приняла самое активное участие в подготовке Карпатской операции. Весь март 1915 г. она в составе 3-й армии принимала участие в боях на Бескидском хребте Карпатских гор. В начале мая того же года германские войска прорвали фронт. 3-я армия, в составе которой находилась Чешская дружина, оказалась на острие удара[172]. Тем не менее ей удалось в апреле и мае 1915 г. взять в плен около 3 тыс. человек из 28-го Пражского полка и 36-го Младоболеславского полка австро-венгерской армии[173]. Тяжелые бои привели к большим потерям дружины. После того как фронт стабилизировался, она была отправлена на отдых и пополнение[174].
В декабре 1915 г. был сформирован 1-й Чехословацкий стрелковый полк двухбатальонного состава, которому было присвоено имя Яна Гуса[175]. В его составе было около 1600 человек[176]. Командиром полка была назначен полковник В.П. Троянов (впоследствии он также командовал и бригадой).
В июне 1916 г. правление Союза чехословацких обществ в России обратилось к Николаю II с ходатайством о разрешении организовать самостоятельную чехословацкую армию по типу сербской дивизии, созданной в России[177]. Это ходатайство было одобрено. Положение о формировании чехословацкого соединения из числа военнопленных было утверждено Военным советом Российской империи 28 ноября 1916 г.[178] В конце 1916 г. полк был развернут в стрелковую бригаду в составе трех стрелковых полков. К середине 1917 г. бригада имела в своем составе более 3,5 тыс. человек. Небольшая численность бригады компенсировалась высоким моральным духом личного состава, что было особенно заметно в бою на фоне крайней усталости и моральной подавленности русских солдат и офицеров. Высокий энтузиазм чехов был связан с тем, что они впервые с 8 ноября 1620 г. шли в бой отдельной национальной воинской частью (тогда чехи потерпели сокрушительное поражение от Католической лиги и Священной Римской империи)[179].
4 июля 1917 г. командующий 8-й армией генерал Л.Г. Корнилов дает разрешение сформировать 1-ю чехословацкую дивизию[180]. В июле 1917 г. чехословацкие формирования приняли участие в наступлении 8-й армии Юго-Западного фронта под командованием Л.Г. Корнилова. Важной вехой стал бой у украинской деревни Зборов. В результате наступления чехословакам удалось прорвать фронт на протяжении 6 верст и продвинуться вглубь занятой неприятелем территории на 2–4 версты. Их трофеями стали 21 орудие, 45 пулеметов и около 3,2 тыс. пленных (включая 62 офицера). Части понесли серьезные людские потери (до трети списочного состава)[181]. Успешные действия под Зборовом стали первым серьезным сражением чехословацких частей как отдельных боевых единиц на стороне России. Их боевая деятельность получила высокие оценки[182].
Победа у Зборова стала главной причиной того, что Л.Г. Корнилов, назначенный 19 июля 1917 г. Верховным главнокомандующим, разрешил начать формирование 2-й чехословацкой дивизии[183]. Причиной такого решения было также то, что русская армия находилась в состоянии развала, а война все еще продолжалась и требовались боеспособные части.
Победа у Зборова была широко использована в пропагандистских целях и содействовала успеху более чем 300 эмиссаров-вербовщиков, разосланных по всем губерниям России Чехословацким национальным советом. До осени 1917 г. им удалось завербовать в чехословацкие воинские части 21 760 новых добровольцев. Вследствие этого формирование 2-й дивизии проходило быстрыми темпами. Были организованы четыре пехотных полка, две артиллерийские бригады и две инженерные роты[184].
В ходе 1917 г. кадровый состав чехословацких воинских формирований значительно изменился. Основную массу солдат теперь составляли бывшие военнопленные[185], в том числе взятые в плен под Зборовом солдаты и офицеры противника, которые в подавляющем большинстве оказались этническими чехами[186].
9 октября 1917 г. по приказу начальника штаба Верховного главнокомандующего русской армии Н.Н. Духонина был создан 1-й Чехословацкий корпус в составе восьми стрелковых полков, двух запасных полков, артиллерийской батареи, технических и тыловых служб[187]. Временное правительство планировало создать и второй Чехословацкий корпус, но этому помешала Октябрьская революция[188]. Численность личного состава корпуса насчитывала 45 тыс. человек[189]. Во главе корпуса был поставлен генерал-майор В.Н. Шокоров.
Однако одновременно с усилением чехословацких частей разворачивались процессы, связанные с их «обособлением» от русской армии. Чехословацкой дивизии было позволено принять собственный устав и чешский командный язык[190]. Чехословацкий корпус постепенно приобретал самостоятельность как основа зарождавшейся армии будущей Чехословакии[191]. Кроме того, «обособлению» способствовало недоверие добровольцев по отношению к правительству России, вызванное отсутствием достаточной материальной базы и надлежащего вооружения, а также многочисленный новый контингент (военнопленные), морально-политически не связанный с Россией[192].
Пожалуй, наиболее значительную роль в процессе «обособления» чехословацкого формирования от Русской армии сыграл лидер Чехословацкого национального совета (ЧСНС) Т.Г. Масарик, который считал своими основными союзниками Францию и Великобританию, а к России относился достаточно скептически[193]. Затягивание решения вопроса о создании самостоятельного чехословацкого воинского формирования в России и более благосклонное отношение к чешскому вопросу со стороны Франции окончательно изменили взгляды Масарика в пользу западных держав[194]. Летом 1917 г. он договорился с французским руководством о эвакуации 30 тыс. чехословацких пленных из России во Францию[195].
В конце июля 1917 г. Т.Г. Масарик и генерал А.А. Брусилов заключили соглашение, согласно которому чехословацкое формирование получило название «революционной армии в состоянии войны с Центральными державами». Фактически это означало, что в военных делах чехословацкая «революционная армия» продолжала подчиняться русскому Верховному командованию, а во всех политических и дипломатических отношениях перешла под контроль ЧСНС[196].
В сентябре 1917 г. Т.Г. Масарик обратился к русским властям с ходатайством об отправке чехословаков из России. В ответ Ставка Верховного главнокомандующего разрешила отправить во Францию только те части, которые изъявят такое желание. Дальнейшим катализатором процесса «обособления» чехословацких воинских частей стала Октябрьская революция. В конце декабря 1917 г. между ЧСНС и правительством Франции был подписан договор, согласно которому Чехословацкий корпус юридически стал составной частью французской армии, а 7 января 1918 г. было достигнуто соглашение об отправке корпуса во Францию морем из Владивостока. Через восемь дней российский филиал ЧСНС объявил чехословацкие вооруженные силы в России составной частью чехословацкого войска, состоящего в ведении Верховного главнокомандования Франции[197]. Корпус полностью перешел на содержание союзников[198]. В феврале 1918 г. численность чешских и словацких легионеров в России составляла около 42 тыс. человек[199].
Подписание Брестского мирного договора в марте 1918 г. сделало процесс переброски Чехословацкого корпуса во Францию необратимым. В ходе него растянувшийся по Транссибирской магистрали корпус был вовлечен в разгоравшуюся в России Гражданскую войну.
Еще одной иностранной воинской частью, созданной в России в период Первой мировой войны, был Сербский корпус. Вербовка в добровольческие воинские формирования находившихся в России сербов и представителей других югославянских народов, плененных и дезертировавших из австро-венгерских войск, первоначально преследовала цель пополнить ряды сербской армии, сражавшейся на стороне Антанты[200]. Летом 1915 г. началась переброска сербов по Дунаю в Сербию, и к сентябрю туда было отправлено около 3,5 тыс. человек[201].
Затем началось создание сербских частей уже на территории России. 19 октября 1915 г. Николай II в Бухаресте принял представителей Сербии, которые ознакомили его с желанием добровольцев, находившихся в лагерях в России, сражаться с общим врагом. В ноябре того же года в Одессе был сформирован Сербский добровольческий отряд численностью более 1 тыс. человек. В него было позволено вступать всем южным славянам, которые находились в лагерях военнопленных в России[202].
К февралю 1916 г. был сформирован костяк 1-й сербской добровольческой дивизии, для которой правительство Сербии прислало в Россию офицеров из сербской армии. К началу февраля 1916 г. было «зачислено на формирование сербских полков около 17 000 нижних чинов и до 70 офицеров». Остальные должности было предложено, «за отсутствием среди военнопленных подходящих лиц, заместить чинами русской службы». Командиром дивизии был назначен полковник С. Хаджич, начальником штаба – подполковник В. Максимович. В середине мая 1916 г. дивизию посетил во время своего визита в Россию премьер-министр Сербии Н. Пашич, а затем – Николай II. К середине лета того же года комплектование дивизии в основном было завершено. Она была расквартирована в районе Одессы и Александровска (ныне Запорожье)[203].
1-я сербская дивизия была включена в состав 47-го корпуса русской армии под командованием генерала А.М. Зайончковского и отправлена на фронт в Добруджу. Здесь сербы воевали вместе с русскими и румынскими войсками с конца августа до середины октября 1916 г.[204] Дивизия сражалась храбро и понесла тяжелые потери – 719 человек убитыми, 6243 человека ранеными и 2265 человек пропавшими без вести. К началу декабря 1916 г. остатки 1-й сербской дивизии отвели в тыл и расквартировали в районе Одесса – Вознесенск – Березовка[205].
Одновременно было развернуто формирование 2-й сербской добровольческой дивизии в составе более 11 тыс. человек, а затем обе дивизии были сведены в Сербский добровольческий корпус. Его командиром был назначен генерал М. Живкович. Штаб корпуса находился в Одессе[206]. Для удобства управления состав этого формирования определили по российскому образцу: две дивизии (каждая из четырех полков трехбатальонного состава) и запасной батальон[207]. К началу 1917 г. в рядах корпуса находилось около 40 тыс. человек[208].
Российское командование рассматривало Сербский корпус как самостоятельное воинское формирование армии государства-союзника по Антанте. Находившееся в изгнании правительство Сербии придавало сербским войскам в России не только военное, но и политическое значение[209].
Комплектование сербских частей столкнулось с трудностями. Многие военнопленные высказывали справедливые опасения за судьбы своих семей в Австро-Венгрии. Кроме того, многие пленные южные славяне были «хорошо обустроены на полевых работах у сельских хозяев» (аналогично ситуации с чехами и словаками). Из-за нехватки добровольцев российские власти пытались привлекать пленных в сербские войска в принудительном порядке (таковых прозвали «силовольцами»)[210].
Однако наиболее критическими были политические проблемы. В корпусе сложилась нездоровая атмосфера, обусловленная этнорелигиозными проблемами, свойственными для южнославянского мира. Привлечение во 2-ю сербскую дивизию добровольцев – выходцев из Хорватии и Словении – осенью 1916 г. вылилось в беспорядки на основе межнациональной розни. Усилению конфликтной атмосферы в корпусе способствовали политические и иные разногласия в офицерской среде. Правительство Сербии, командование ее армии на Корфу и корпуса в России понимали, какой вред могут нанести конфликты в войсках на межнациональной почве не только боеспособности Сербского корпуса, но и идее объединения южных славян, создания их единого государства. Были сделаны попытки найти пути устранения этих конфликтов – в частности, название корпуса изменили на «Добровольческий корпус сербов, хорватов и словенцев». Однако гармонизировать отношения военнослужащих разных национальностей в корпусе и предотвратить их значительный отток не удалось[211].
После февраля 1917 г. в Сербском корпусе появились сторонники революции. Летом того же года они стали массово покидать корпус, и в нем осталось около 20 тыс. человек. В августе 1917 г. 1-я сербская дивизия была направлена в Бессарабию как резерв на Румынском фронте, а позднее сербские части были выведены из России и переброшены на Салоникский фронт[212]. Значительное число солдат и офицеров, покинувших ряды корпуса, вступили в иные воинские формирования и участвовали в Гражданской войне в России по разные стороны баррикад[213].
123
Военная энциклопедия. Т. 11. СПб., 1913. С. 6.
124
Там же.
125
Бабац Д.М. Србија и Русија у Великом рату: Једно савезништво са дугом традицијом. Београд, 2014. С. 13.
126
Военная энциклопедия. Т. 11. С. 7.
127
Бабац Д.М. Указ. соч. С. 14.
128
Белова Е.В. Судьба бугского казачества. Конец XVIII – начало XIX века // Военно-исторический журнал. 2008. № 3. С. 53–54.
129
Митрофанов А.А. Волнения в эмигрантском корпусе Конде на русской службе в 1798 г. (по материалам РГАДА) // Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2016. Т. 18. № 2 (151). С. 44.
130
Бовыкин Д.Ю. Эмигрантский корпус Конде на русской службе // Россия и Франция XVIII–XX веков. М., 2006. Вып. 7. С. 81, 85–86.
131
Митрофанов А.А. Указ. соч. С. 44.
132
Васильев А.А. Корпус принца Конде в Российской империи (1798–1799 гг.) // Франция и Россия в начале XIX столетия. М., 2004. С. 93.
133
Васильев А.А. Указ. соч. С. 104, 106–107.
134
Бовыкин Д.Ю. Указ. соч. С. 84.
135
Фадеев А.В. К истории создания русско-немецкого легиона в России в 1812–1813 гг. // Бессмертная эпопея: К 175-летию Отечественной войны 1812 г. и Освободительной войны 1813 г. в Германии. М., 1988. С. 201.
136
Шереметьев О.В. Создание и участие в кампаниях 1813–1815 гг. Российско-германского легиона // Ученые записки РГСУ. 2008. № 4. С. 202.
137
Шереметьев О.В. Указ. соч. С. 203–204.
138
Фадеев А.В. Указ. соч. С. 204.
139
Шереметьев О.В. Указ. соч. С. 205, 207–209.
140
Фадеев А.В. Указ. соч. С. 204.
141
Пинчук С.А. Греческий легион имени императора Николая I // Военно-исторический журнал. 2013. № 6. С. 43–44, 47.
142
Салдугеев Д.В. Чехословацкий легион в России // Вестник Челябинского государственного университета. 2005. № 2. С. 89.
143
Васильченко М.А. Чехословацкий корпус на территории Поволжья в 1918 г.: от нейтралитета к участию в Гражданской войне: Дис. … канд. ист. наук. Саратов, 2014. С. 43.
144
Валиахметов А.Н. К вопросу о причинах образования Чехословацкого легиона в России (1914–1918) в отечественной и чехословацкой историографии // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 1 (27): В 2 ч. Ч. II. С. 56.
145
Карабин А.Ю. Деятельность добровольческих подразделений военнопленных на просторах Российской империи в 1914–1919 гг. // Журнал Белорусского государственного университета. История. 2018. № 3. С. 38–39.
146
Васильченко М.А. Указ. соч. С. 46.
147
Недбайло Б.Н. Чехословацкий корпус в России (1914–1920 гг.): историческое исследование: Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2004. С. 12.
148
Недбайло Б.Н. Указ. соч. С. 12.
149
Дуров В.И. Российская империя в тактике чешского национализма в годы Первой мировой войны // Вестник Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. 2018. № 1. С. 57.
150
Васильченко М.А. Указ. соч. С. 43–44, 46.
151
Капуциан Р. Идеологическая основа формирования и деятельности Чехословацкого корпуса во время Первой мировой войны в 1914–1918 гг. // К 100-летию Первой мировой войны: война, социум, международные отношения. Екатеринбург, 2015. С. 64.
152
McNamara K.J. Russia’s «International» Civil War // Известия Лаборатории древних технологий. 2020. Т. 16. № 3. С. 231.
153
Vojenskй dějiny Československa. II-dнl (1526–1918). Praha, 1986. S. 512.
154
Васильченко М.А. Указ. соч. С. 43.
155
Карабин А.Ю. Указ. соч. С. 33.
156
Дуров В.И. Указ. соч. С. 57.
157
Карабин А.Ю. Указ. соч. С. 34.
158
Карабин А.Ю. Указ. соч. С. 33.
159
Клеванский А.Х. Чехословацкие интернационалисты и проданный корпус: Чехословацкие политические организации и воинские формирования в России. 1914–1921 гг. М., 1965. С. 35, 37.
160
Васильченко М.А. Указ. соч. С. 46; Недбайло Б.Н. Указ. соч. С. 12.
161
Карабин А.Ю. Указ. соч. С. 33.
162
Дуров В.И. Указ. соч. С. 57.
163
Карабин А.Ю. Указ. соч. С. 34.
164
Клеванский А.Х. Указ. соч. С. 27, 37.
165
Карабин А.Ю. Указ. соч. С. 34.
166
Клеванский А.Х. Указ. соч. С. 38.
167
Мошечков П.В. Чехи и словаки во Франции в годы Великой войны: от подразделений в составе Иностранного легиона до автономной армии // Славянский альманах. 2018. № 1–2. С. 104.
168
Карабин А.Ю. Указ. соч. С. 33, 39.
169
Васильченко М.А. Указ. соч. С. 46.
170
Клеванский А.Х. Указ. соч. С. 21.
171
Капуциан Р. Указ. соч. С. 65.
172
Васильченко М.А. Указ. соч. С. 47–48.
173
Капуциан Р. Указ. соч. С. 66.
174
Васильченко М.А. Указ. соч. С. 48.
175
Там же.
176
Капуциан Р. Указ. соч. С. 67.
177
См. ниже в этом разделе книги.
178
Недбайло Б.Н. Указ. соч. С. 13–14.
179
Васильченко М.А. Указ. соч. С. 48–49.
180
Салдугеев Д.В. Указ. соч. С. 90.
181
Васильченко М.А. Указ. соч. С. 49–50.
182
Там же. С. 48.
183
Салдугеев Д.В. Указ. соч. С. 90.
184
Там же.
185
Клеванский А.Х. Указ. соч. С. 97.
186
Васильченко М.А. Указ. соч. С. 50.
187
Серапионова Е.П. К истории формирования чехословацких воинских частей на российской территории в годы Первой мировой войны // Славянский мир в эпоху войн и конфликтов XX в. СПб., 2011. С. 132.
188
Карабин А.Ю. Указ. соч. С. 35.
189
Салдугеев Д.В. Указ. соч. С. 90.
190
Карабин А.Ю. Указ. соч. С. 35.
191
Капуциан Р. Указ. соч. С. 67.
192
Васильченко М.А. Указ. соч. С. 46–47, 51–52.
193
Там же. С. 52–53.
194
Дуров В.И. Указ. соч. С. 57.
195
Vojenskй dějiny Československa. II-dнl (1526–1918). Praha, 1986. S. 517.
196
Серапионова Е.П. Указ. соч. С. 131–132.
197
Васильченко М.А. Указ. соч. С. 55, 61–62.
198
Салдугеев Д.В. Указ. соч. С. 90.
199
Карабин А.Ю. Указ. соч. С. 35.
200
Вишняков Я.В. «Сформирование этого корпуса представляется делом… глубоко государственным»: Сербский добровольческий корпус в России в годы Первой мировой войны // Военно-исторический журнал. 2021. № 11. С. 45–46.
201
Бабац Д.М. Указ. соч. С. 104.
202
Там же. С. 104–105, 107.
203
Вишняков Я.В. Указ. соч. С. 47–48.
204
Бабац Д.М. Указ. соч. С. 107–108.
205
Вишняков Я.В. Указ. соч. С. 49.
206
Бабац Д.М. Указ. соч. С. 108.
207
Вишняков Я.В. Указ. соч. С. 48.
208
Бабац Д.М.Указ. соч. С. 108.
209
Вишняков Я.В. Указ. соч. С. 48.
210
Вишняков Я.В. Указ. соч. С. 49–50.
211
Там же. С. 49, 51.
212
Бабац Д.М. Указ. соч. С. 109.
213
Вишняков Я.В. Указ. соч. С. 52.