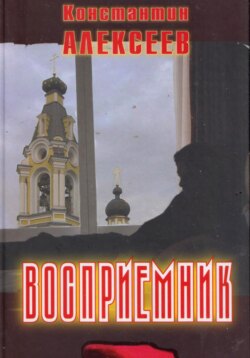Читать книгу Восприемник - Константин Александрович Алексеев - Страница 1
ОглавлениеВОСПРИЕ́МНИК – при православном христианском обряде крещения – лицо, принимающее на руки ребенка, вынутого из купели. Полное официальное церковное название: восприемник от купели; то же, что крестный отец. Восприемник принимает ответственность перед Богом за духовное воспитание и благочестие крещаемого.
Толковый словарь Д.Н. Ушакова. 1935–1940 гг.
1
Он торопился покинуть вокзальную площадь. Спешил к метро, лавируя и петляя между остальными пассажирами. В его бегстве было что-то от обложенного охотниками зверя, который ломится в самую непролазную чащу, в надежде оторваться от погони. И то, что творилось на душе, тоже походило на чувства преследуемой дичи: страх, смятение, стремление запутать следы. Шаховцев вдруг поймал себя на том, что идет, низко опустив голову, словно боясь быть узнанным. И нет-нет да и косится исподлобья по сторонам: не мелькнет ли в людской толчее кто-нибудь из знакомых.
Несмотря на будний день, на «Комсомольской» было полно народа. В вестибюле стояла привычная сладковато-удушливая вонь, характерная для привокзальных станций. Почти круглый год здешние бичи постоянно просачивались в метро, отравляя и без того несвежий воздух тошнотворным запахом бомжатины. Все это добавило Шаховцеву еще больше нервозности, и он с облегчением перевел дух, когда, миновав турникеты, сбежал вниз по эскалатору и вскочил в первый же подошедший состав.
Угнездившись на сиденье в конце вагона, сквозь прикрытые веки он напряженно наблюдал за попутчиками. Казалось, каждый из них исподволь с подозрением косится на него, распознав его нарочитую безмятежность и притворную усталость…
– Шах! – вдруг отчетливо донеслось сквозь шум поезда.
Он вздрогнул, инстинктивно вжавшись в сиденье.
«Узнали!..»
– Шах! – повторил все тот же высокий и, как показалось, злорадный голос. – Ну, чего тормозишь?
Шаховцев медленно повернул голову и увидел двоих юнцов, по виду старшеклассников, уткнувшихся в экраны дорогих, навороченных мобильников.
– Ну? – в который раз с нетерпеливым азартом произнес тот, что сидел ближе.
– Не ну, а вот тебе! – отозвался его приятель. – Пока ты моего короля обкладывал, твоему ферзю кирдык пришел!
Шаховцев перевел дух и нервно усмехнулся: совсем дошел – уже везде соглядатаи мерещатся да слышится собственная кличка! А всего-то пацаны режутся через блютуз в сетевые шахматы. Ну а если бы даже это оказался кто-то из знакомых – что тут такого? Уж неужели бы не нашел чего сказать, придумать? Тем более, о том, что произошло, еще никто не знает…
«Вот так и сходят с ума!»
Он взглянул на свое отражение в окне вагона. Из темной глубины на него смотрел крупный молодой мужик с помятым угрюмым лицом. Настороженный, почти затравленный взгляд, двухдневная щетина, всклокоченные, как со сна, волосы – к этому его нынешнему облику меньше всего подходило то давнее прозвище.
Получил он его, как водится, в первом классе. Школьники вообще редко величают друг друга по именам, да и по фамилиям тоже нечасто, переиначивая их во что-то уменьшительно-смешное и часто обидное. К примеру, отличницу Ленку Лагутину сходу нарекли Гутей, главного заводилу Юрку Петрова – Петриком, а его, Ваньку Шаховцева, в первые же дни окрестили Шахом.
Поначалу он не на шутку обижался и бросался в драку, безжалостно разбивая в кровь носы обидчикам. После нескольких таких стычек с одноклассниками испуганная учительница даже вызвала в школу мать, и та потом целый вечер объясняла Ване, что прозвища в детстве бывают у всех и его – нисколько не обидное, а даже наоборот. Ведь шах, поведала сынишке Ольга Григорьевна, это большой правитель и очень уважаемый человек.
Это неожиданное воспоминание, проклюнувшееся откуда-то из глубин памяти, заставило невольно улыбнуться. Тотчас же Иван ощутил настойчивый зуд под ложечкой и понял, что дико хочет есть.
Поезд, вынырнув из туннеля, мягко притормозил на станции. Поднявшись, Шаховцев подхватил сумку и, выскочив из вагона, почти бегом направился к эскалатору.
Пройдя мимо теснившихся на асфальтовом пятачке ларьков с шаурмой и аляповатых павильонов с киосками, он обогнул торговый центр и наконец нашел, что искал: маленькое кафе с неприметной вывеской.
Внутри было безлюдно. За угловым столиком размеренно хлебал чай чернявый, южного вида мужчина с пышными смоляными усами. По-видимому, он был хозяином заведения, поскольку взглянул на вошедшего не коротко-равнодушно, а пристально, оценивающе и тут же подал знак молодой девчонке, по виду молдаванке, лениво протирающей столы. Та мгновенно сделала стойку, обозначив какую-то уж чересчур приветливую и потому кажущуюся фальшивой улыбку:
− Здравствуйте! Проходите, пожалуйста. Желаете покушать?
Фраза была явно заученной, причем последнее слово сто к одному было из обихода владельца забегаловки − так обычно говорят на Востоке. Усмехнувшись своей проницательности, Шаховцев принял от девушки меню в огромной кожаной папке, похожей на ту, что носят к докладу чиновники, и, сделав заказ, расположился за дальним столиком.
В ожидании еды он попытался отвлечься от мрачных мыслей, подглядывая за хозяином кафе и официанткой, стараясь угадать, связывают ли их только деловые отношения или нечто большее. Шах знал, что многие гастарбайтерши из бывшего Союза спят со своими хозяевами. В свое время у Ивана на «Университете» квартировала такая же девица-молдаванка с редким именем Виорика. Трудилась она на маленьком рынке около метро, где Шаховцев отоваривался продуктами. Днем стояла за прилавком, зазывая покупателей, а вечером предавалась плотским утехам с хозяином «точки» − седовласым бакинцем Арзу. Пока того не отбила новая продавщица – блондинистая хохлушка с пышными формами и наглым напористым характером. Виорика же, считавшая хозяина в душе чуть ли не законным мужем, оскорбившись, съехала от него к Шаховцеву.
Стоит отдать должное – девушка не делала никаких попыток окольцевать Ивана, дабы обосноваться в столице. Напротив, они с ней сходу договорились, что Виорика поживет у него пару месяцев, а в качестве платы будет мыть-стирать-готовить. Ну и, естественно, скрашивать его холостяцкие ночи…
Все время, пока девушка обитала у Ивана, она, очевидно, из оскорбленного женского самолюбия, с упоением рассказывала, как Арзу даже в постели журил ее за разные огрехи в торговле, наставлял, как лучше зазывать покупателей и впаривать им товар. Помнится, тогда, услышав про эти нравоучения, Иван долго смеялся, представив себе, как Арзу, слившись в объятиях с любовницей, с придыханием шепчет ей: «Дорогая, в следующий раз клади на виду только самые спелые помидоры…» А та, обвив шею партнера гибкими, как лозы, руками, нежно отвечает: «Я постараюсь, милый…»
Вот и теперь, наблюдая за хозяином и официанткой, Шах попытался представить их в иной обстановке и не смог. То ли на людях они ничем не показывали своих чувств, то ли и вправду между ними ничего не было.
…Расправившись с салатом и макаронами, Шаховцев отхлебнул крепкого, обжигающего кофе и вновь вернулся к прежним невеселым раздумьям, которые сводились в основном к одному: куда податься дальше?
О возвращении домой не возникало и мысли. На миг Шах подумал, что можно было бы спрятаться в деревенской глуши, подобно отшельнику…
«Да-а, зря я тогда Галатенко не послушал, − с запоздалой досадой подумал он. – Ведь предлагал же он осенью у себя в деревне полдома купить, добротного, кирпичного, и всего за каких-то сорок тысяч! Санек рассказывал − у них там такие места классные! Недаром они с Анькой на свою фазенду каждую свободную минутку норовят выбраться… Стоп, он же давеча говорил, что собирается туда на Пасху! Точно, как раз вроде сегодня, в четверг, отчаливать собирался… А что, если пару дней у него перекантоваться?»
Шаховцев нащупал в кармане мобильник, включил, набрал пин-код – и тут же телефон ожил, завибрировал, разразившись короткими треньканьями, замигал экраном: «Принято новое сообщение… Принято новое сообщение…» Почти все они извещали о пропущенных звонках. Первые два были от жены, остальные − от того, от кого и следовало ожидать. В последний раз, очевидно, отчаявшись отловить Шаха, он отстучал гневную «эсэмэску»: «Ты где, придурок? Срочно перезвони, слышишь?»
«Та-ак… кажись, началось!»
Удалив сообщения, он отыскал в памяти мобильника номер Галатенко, ткнул кнопку вызова – и через десять секунд в эфире зазвучал веселый тенорок Саньки:
− Здорово, Шах! С праздником!
− Привет… С каким еще праздником?
− Как с каким? Сегодня же Чистый четверг! Или запамятовал?
− Точно, запамятовал, − поспешно, стараясь придать голосу устало-досадливые нотки, произнес Шаховцев. – Работой завалили – мама не горюй!
− Смотри, так и Пасху проморгаешь!
− Не говори… Слушай, ты, кстати, когда в деревню отчаливаешь? Не сегодня случайно?
− Случайно нет. Мы уже со вчерашнего здесь.
− Да-а, вот незадача… − вырвалось у Шаховцева.
− А что такое?
− Да хотел тебя кой о чем попросить…
− Что-то случилось? − голос приятеля заметно посерьезнел.
− Нет-нет, ничего страшного. Просто хотел у вас пару дней у вас перекантоваться…
− Ты чего, со своей, что ли, поругался?
− Ты что, Бог с тобой! Просто позавчера к нам друзья с Кубани нагрянули, − мигом нашелся и соврал он. − Да притом не одни, а с киндерами. В общем у нас сейчас не дом, а зоопарк на выезде: эти оглоеды день и ночь на головах ходят… А мне тут, как назло, работа срочная привалила, вот и думал у тебя на пару-тройку дней обосноваться, пока гости не съедут.
− Так в чем вопрос? Сейчас звякну Петровне и предупрежу, что ты поживешь у нас.
− Кому-кому?
− Ну, Лидии Петровне из квартиры напротив. Мы же ей ключи оставили, чтобы она за Маркизом присматривала. Короче, езжай, а я пока ей наберу и скажу насчет тебя…
− Спасибо, Санек! С меня причитается.
− Брось, было бы за что…
Иван облегченно выключил телефон и, подхватив сумку, двинул на выход.
Доехав на метро до Алтуфьево, Шаховцев поднялся наружу, осмотрелся, вспоминая, как в прошлый раз он добирался до Саньки. Кажется, садился на автобус вон там, возле универсама… И в следующий момент взгляд наткнулся на припаркованную у тротуара маршрутку.
− До Челобитьевского идет? – поинтересовался Шах, наклонившись к открытой дверце салона.
− Идет-идет, − почти хором ответили ему сразу несколько голосов.
«Вот и ладненько!»
Дмитровка была свободна, и до развилки с шоссе машина домчалась меньше чем за четверть часа. Выйдя на повороте, Шаховцев с минуту соображал, куда идти дальше. Высившиеся внизу новостройки казались одинаковыми, а адрес он уточнить не догадался, лишь помнил, что Санькин дом находился сразу за автобусным кругом. Да-да, именно там: второй подъезд, последний этаж. Единственное, что отпечаталось в памяти, это номер квартиры соседки по площадке, которой приятель оставил ключи.
Шах неуверенно направился вниз. Отступившее было чувство страха овладело им вновь. Опасность мерещилась во всем: в катящей по дороге одинокой легковушке, в стае бездомных собак, трусивших по газону в сторону леса, в вынырнувшем из-за угла милицейском капитане, по виду – участковом, с потрепанной папкой под мышкой…
Однако страж порядка равнодушно прошел мимо, даже не покосившись в его сторону. Зато шествующий следом высокий священник в наброшенной поверх рясы куртке неожиданно замедлил шаг, провожая Шаховцева цепкими внимательными глазами.
«Ишь как уставился, аж всю душу вывернул! Тебе, батя, не в попы − в сыщики надо было податься!»
Миновав автобусный круг, Шах сходу узнал краснокирпичную новостройку, где был на новоселье полгода назад. Вошел в подъезд, поднялся на лифте, направился к указанной приятелем квартире. Но не успел он поднести руку к звонку, как дверь распахнулась и на пороге возникла маленькая благообразная старушка.
− Здравствуйте, Иван! С праздником!
− Добрый день… − Шаховцев даже немного растерялся.
− Заходите, что же вы? Я как раз обед согрела… Вы же небось с дороги, проголодались? У меня борщик свежий, с петрушкой и сельдереем… − лицо Лидии Петровны буквально лучилось какой-то неземной радостью, словно перед ней стоял не незнакомый человек, а любимый сын, которого она не видела Бог знает сколько времени.
− Спасибо, я только-только поел… − Шаховцев через силу улыбнулся.
− Зря, ой, зря… Вы только попробуйте! Борщик-то не простой – целебный. Я им уже сколько лет в Страстную неделю спасаюсь… А может, вы стесняетесь? Так зря опять же…
− Что вы, Лидия Петровна, нисколько не стесняюсь. Просто я действительно сыт. Мне бы сейчас как раз отдохнуть не помешало…
− Да-да, это уж обязательно, − старушка торопливо начала копаться в карманах своего цветастого фартука. – Сейчас-сейчас… − она наконец-то вытащила связку. − Смотрите: вот этот здоровенный – от верхнего замка, а вот этот от нижнего… − ворковала она, отпирая тяжелую металлическую дверь, за которой, едва заскрежетал замок, послышалось протяжное нетерпеливое мяуканье.
Огромный сибирский кот вначале ринулся было с урчанием к Петровне, но тут же настороженно замер, увидев Шаховцева.
− Свои, Маркизушка, свои, − успокаивающе потрепала его бабка по пышному загривку. – Это Иван, он поживет тут, − объясняла она ему, словно тот понимал человеческий язык. – Не бойся, он хороший…
Пока старушка ворковала с котом, Шаховцев снял куртку, вытащил из сумки шлепанцы и встал в ожидании, пока Санькина соседка уберется восвояси.
Но не тут-то было. Вначале она начала менять наполнитель в кошачьем лотке. После взялась наводить блеск в квартире, протирая тряпкой столы, комод, подлокотники кресел и дивана. В довершение всего Петровна все-таки настояла на своем и притащила от себя две кастрюльки: одну с вареной, пересыпанной луком картошкой, другую – со своим знаменитым «борщиком».
− Вот, покушаете, как проголодаетесь. Не бойтесь, все постное, без масла, как положено. А к вечеру я вам гречки с луком отварю да пирожков постных напеку… Как раз перед службой в храме… Вы ведь идете на Двенадцать Евангелий?
− Конечно. Обязательно иду! − ради того, чтобы болтливая бабка наконец исчезла, он был готов пообещать ей все, что угодно.
− А Саша вам объяснил, где наш храм?
− Да-да, конечно, − с трудом скрывая нарастающее раздражение, повторил Шах.
− Он тут совсем рядом, за автобусным кругом. Хотя что, я же зайду за вами…
− Хорошо, договорились… − он выдавил из себя некое подобие улыбки. – Извините, я устал с дороги.
− Все-все, ухожу. Отдыхайте с Богом… − Петровна в который раз оглядела квартиру, поправила висящую в стенном шкафу куртку гостя и шагнула за порог.
2
Заперев дверь, Шах перевел дух и быстро прошелся по квартире, окидывая ее цепким тревожным взглядом. Так попавший в окружение боец осматривает свое укрытие, прикидывая, как скоро его обнаружат враги и сколько времени он сумеет продержаться до подхода своих. Вот только сегодня ему, Шаховцеву, ждать помощи было неоткуда…
На душе было не то чтобы неспокойно: ее как будто выжигало изнутри ощущение тоскливой обреченности. «Шила в мешке не утаишь – все равно наверх всплывет!» − пришел на память один из любимых перлов крестного. Подобными хохмочками он любил сыпать к месту и не к месту, даже в те минуты, когда было совсем не до смеха.
…С лестницы долетел едва различимый шум открывающихся дверей лифта, и Шаховцев тотчас же неслышно метнулся к двери и приник к глазку. Но в просторном, на шесть квартир, «предбаннике» было пусто. «Это на соседний этаж кто-то пожаловал…» − наконец дошло до него, и он вновь отступил в коридор, чувствуя, как ухает в груди сердце.
Он вдруг поймал себя на мысли, что подобное уже происходило с ним. И не только тогда, четыре года назад, а и многим раньше, в декабре девяносто восьмого… И точно так же, как и в те дни, Иван томился ожиданием расплаты. И, словно пытаясь хоть ненадолго забыть страшную действительность, вспоминал все, что произошло, вновь и вновь мысленно прокручивая все предшествующие этому события, словно надеялся отмотать назад неумолимое время. Отмотать до того самого дня, когда можно было все изменить, поступить иначе.
Все было почти один к одному. Разве что теперь он метался, как по клетке, в чужой квартире, а тогда нервно ворочался на жесткой солдатской койке, проклиная все на свете и в первую очередь себя, по дурости вслед за Крысой сунувшегося к этому чертовому «мерседесу». И еще раньше, когда сглупил, переведясь в институте с дневного на заочное, польстившись на денежную работу, совершенно забыв о вездесущем военкомате. И потом, когда было можно съехать из общаги, став на время недосягаемым для повесток, или, на худой конец, попытаться откупиться от призыва, а он, идиот, послушал крестного и пошел отдавать ратный долг. А ведь как отговаривала его мать, как талдычила ему: «Нашел кого слушать! Вот пошлют тебя в Чечню, и что тогда я делать буду?!»
Впрочем, слово свое восприемник сдержал: ни в какую Чечню Шаховцева не законопатили и даже оставили в Москве. И притом не в какой-нибудь армейской части, где процветали или безумная уставщина, или полнейший беспредел, а определили в знаменитую «милицейскую» дивизию.
Дивизию прозвали так, потому что все, кто служил там, носили не зеленую, а серую форму, как у обычных стражей порядка, да и занимались солдаты практически тем же, чем и менты – вместе с ними патрулировали улицы, дежурили в оцеплении на футбольных матчах, концертах или митингах.
О подобных частях Шах до того момента слыхом не слыхивал и поначалу очень удивился и даже испугался, когда на городском сборном пункте за ним явился не «покупатель» в обычной защитного цвета форме, а молодой милицейский капитан. Держа в руках какую-то папку, он, заглянув в расположение, сурово поинтересовался:
− Шаховцев есть такой?
− Есть… − отозвался Иван.
− Собирайся живо!
Пока Иван запихивал в рюкзак полотенце и зубную щетку с бритвенным станком, остальные с каким-то обреченным сочувствием смотрели на него. Очевидно, они решили, что приятель по несчастью что-то натворил перед призывом и теперь его настигло возмездие. В те годы от армии, особенно среди москвичей, «косили» практически все, за исключением полных, как теперь говорят, лохов, не сумевших ни поступить в мало-мальски захудалый институт, ни накопить на взятку в военкомате. Если кто и шел служить, то это были, как правило, либо единицы, воспитанные в старорежимном духе: «Кто не был в армии – тот не мужик», – либо те, кому светила тюрьма и они намеревались спрятаться от правосудия за забором войсковой части. Кстати, и в числе тех, кто с тревогой наблюдал за Шаховцевым, таковые имелись: рыжий пацан с перебитым носом и блатными повадками подошел к нему и утешающе потрепал по плечу:
− Держись, братан. Много хоть светит?
− Хрен его знает… − неопределенно отозвался Иван.
− Ты, главное, не колись, а сразу в отказ иди: типа, не был, не знаю, не помню… У меня таким макаром кореш «условно» получил.
Шах и сам не знал, за что его забирают прямо со сборного пункта. По идее за ним ничего такого не было. Разве что тот случай неделю назад, когда он сцепился с конкурентами на рынке и накостылял одному из них…
Вот потому, пока он шагал по коридору сборного пункта вслед за милиционером, в сознание нет-нет да и закрадывалась леденящая душу мысль: а вдруг все же тот торгаш-молдаванин заявил на него?
Во дворе их ждал милицейский «УАЗик», за баранкой которого скучал совсем юный водитель в погонах рядового и причудливым треугольным шевроном, на котором был изображен сокол. На удивление, Ивана не запихнули в отгороженный решетками «обезьянник», а велели залезать на заднее сиденье.
− А куда мы едем-то? – опомнившись, наконец-то спросил он.
− Куда положено, туда и едем, − сердито отозвался капитан. – Чем недоволен-то? И так тебя одного, как фон-барона, везут!
− Да нет, просто…
− А если просто, то помолчи! Мало того что меня из-за тебя после суток сюда послали!
Тон милиционера был таким раздраженным, что Шаховцев не решился больше приставать к нему с расспросами.
Миновав Садовое, шофер вырулил на Дмитровку и вскоре свернул на неприметную улочку недалеко от Савеловского вокзала. Остановился перед массивными выкрашенными в серое воротами. Дважды коротко просигналил. Створки со скрежетом разъехались, и «УАЗик» медленно покатил вдоль одинаковых трехэтажных строений. Остановился у одного из них, перед входом с козырьком.
− Вылезай!
Вслед за капитаном Иван поднялся по лестнице и вошел в двойные деревянные двери, на которых висела потрескавшаяся табличка: «Учебный сбор».
Внутри обнаружился пост дневального, где стоял лопоухий, стриженный наголо парнишка в милицейской форме. Завидев вошедших, он вскинул руку к козырьку серой форменной кепи и надрывно прокричал: «Дежурный по роте на выход!»
На зов тут же выскочил другой милиционер, в погонах сержанта, по виду ровесник Шаховцева. Следом откуда-то сбоку появился еще один страж порядка, немолодой, в чине прапорщика.
− Принимайте! − устало бросил капитан, кивнув на Ивана.
Тем временем Шах огляделся и с удивлением увидел, что находится в самой что ни на есть солдатской казарме, где между рядов двухъярусных коек, заправленных уставными синими одеялами, надраивали с мылом пол двое стриженных наголо парнишек. Вот только одеты они были не в камуфляж, а в серую милицейскую «пэпээску»1.
А прапорщик, в свою очередь, пролистав бумаги, окликнул одного из них, высокого носатого парня:
− Пригарин! А ну дуй сюда! – и дождавшись, пока тот подбежит, распорядился: − Приведи-ка его в божеский вид. И поживее – чтоб до обеда успели в баню сводить!
Вместе с высоким они зашли в бытовку. Провожатый кивнул Ивану на табурет:
− Снимай рубашку.
Шах замешкался и настороженно уставился на милиционера.
− Снимай-снимай, − ободряюще повторил Пригарин, доставая из выдвижного ящика машинку для стрижки.
− Слышь, может, хоть ты скажешь, куда это я попал? – наконец решился задать главный мучивший его вопрос Иван.
− Куда-куда… Как положено, на КМБ! – усмехнулся высокий. – То бишь, на курс молодого бойца… Приходилось про такой слышать?
− Да я понял. А почему здесь все в ментовской форме?
− Так это специальная часть, тут все так ходят.
− Что же это за войска такие?
− Внутренние.
− Так у них вроде обычная зеленая форма.
− Это у оперативных и конвойников2. А кроме них, еще вот такие части есть, которые вместе с ментами за порядком следят. Вот потому и одевают так, чтобы внешне не отличить было, кто ты – солдат или урядник… Кстати, как тебя звать-то?
− Иваном.
− А меня Ромкой. Откуда сам будешь?
− Да вроде как уже местный…
− Москвич, что ли? – в голосе нового знакомца явственно послышалось презрение вкупе с тайной завистью.
− Да нет, просто почти два года тут в институте проучился. А так – с Куранска.
− Да? Считай, земляки. А я с Тамбова. Ну давай, шагай, а то тебя уже старшина заждался.
Потом в сопровождении прапорщика Иван отправился в баню, где после десятиминутной помывки ему выдали милицейскую «пэпээску», а вдобавок к ней новенькие «берцы» − высокие ботинки на шнурках, и через полчаса он уже маршировал в общем строю.
Время, что оставалось до присяги, занял учебный сбор, который в части почему-то называли «карантином». Новобранцы усиленно зубрили главную военную клятву и до седьмого пота упражнялись в строевой. А уж затем – кто призвался пораньше, отправились по ротам, а прочие, в том числе и Иван, остались на КМБ еще недели на две, доучиваться.
Но сначала была присяга. О ее точной дате Шаховцев узнал в первый же день и тут же накатал об этом письмо матери, а кроме того – еще Владу Короткову и Жанне.
Вообще-то он не рассчитывал, что возлюбленная придет – накануне они рассорились вдрызг. Причем все это началось не когда-нибудь, а с того дня, когда он, после внушений крестного, чуть ли не с гордостью заявил своей пассии: так и так, мол, иду служить! На что та вытаращила глаза со словами: «Ты что, совсем чокнулся?» А дальше была долгая перепалка: подруга пыталась убедить его, что в армию нынче идут одни лохи и отщепенцы, а любой мало-мальски уважающий себя человек сделает все, чтобы отвертеться. Кончилось это тем, что она впервые не осталась ночевать у него в общежитии, а укатила к себе, в Подольск. А за день до призыва вообще заявила, что жених просто-напросто подло бросает ее на произвол судьбы. Помнится, Иван тогда подумал: надо же, у него в Куранске до сих пор девки на парней, кто не служил, косо смотрят, а тут, в столице, выходит, все наоборот!
И все же, на удивление, Жанка соизволила явиться на присягу вместе с Владом и его женой Ленкой. Естественно, приехала и мать. И если друзья-однокурсники сочли, что Шаховцеву повезло (как же, в Москве оставили!), то Ольга Григорьевна тяжко вздохнула: «Ну вот, будешь два года всякую пьянь подбирать, да еще, не дай Бог, кто-нибудь из них тебя ножом пырнет!»
С похожим выражением смотрела на Ивана и подруга. Но если во взгляде матери было больше тревоги, то в глазах Жанки явственно читалось презрение и разочарование. А когда новоиспеченного солдата отпустили в увольнение и в общежитии их намеренно оставили в комнате вдвоем, то она сходу отвергла приставания возлюбленного, сославшись на нездоровье.
Всем этим, возвратясь в часть, он поделился с Пригариным.
− Ну и хрен с ней! Забей ты на нее, − выслушав печальный рассказ приятеля, успокаивающе махнул рукой Ромка. – Тоже мне ценность нашлась! Откуда она, говоришь, с Подольска? И небось в какой-нибудь зачуханной «двушке» с родоками живет?
− Ага. С матерью и еще с сестрой.
−Так нашел о ком заморачиваться! Найдешь себе в сто раз лучше, из Москвы, с хатой отдельной! Знаешь, сколько тут классных телок? У меня брательника друг сюда в институт поступил и через год женился на бабе с полным комплектом: дача, квартира на Таганке, к тому же ее папаня не кто-нибудь, а зам префекта в районной управе! Пацан тот теперь как сыр в масле катается! А ты что, хуже?
Все последующие дни Пригарин старался быть рядом, подбадривал, как мог, утешал – и горечь обиды на Жанку нет-нет да и отступала. Но через неделю Ромку услали на полгода в сержантскую «учебку», и Иваном вновь овладела тоска.
Хотя грустить времени было мало. Оставшееся время перед распределением новобранцев по ротам их гоняли до седьмого пота, так что к концу дня сил оставалось лишь добрести до койки и тут же провалиться в сон до самой побудки.
То же самое продолжилось и после «карантина», когда бойцов распределили по ротам. Только там, кроме сержантов и офицеров, постигать мудреную ратно-милицейскую науку помогали еще и старослужащие, которым поручали опекать того или иного из новобранцев.
Шаховцеву достался вечно сосредоточенный двадцатишестилетний ефрейтор Головчак, которого даже приятели-солдаты величали не иначе, как по имени-отчеству. Да-да, так и говорили: «Ну что, Егор Иваныч, курить идешь?» Называли его так вроде бы в шутку, но с ощутимым уважением в голосе. До призыва он успел окончить у себя в Омске высшую школу милиции и два года проработать в угрозыске. За неполный год службы в роте Головчак сумел повязать несколько десятков серьезных злодеев, несколько из которых числились во всероссийском розыске, и двое из них имели при себе «волыны». А кроме того, как минимум раз в две недели он умудрялся брать с поличным то воришку, то грабителя.
У напарника на них было чутье. Так, однажды, когда они с Иваном наматывали километры на маршруте, Головчак вдруг замедлил шаг, уставившись на спешащую навстречу девушку. Барышня была совершенно приличного вида, и Шах сперва подумал, что старший наряда попросту положил на нее глаз. Но когда они остановили ее и потребовали документы, девица заметно занервничала, и Егор тут же дал знак подопечному вызывать по рации патрульную машину. А уже в отделении, при досмотре, под шубкой задержанной обнаружилась пара дорогих итальянских босоножек, которые она десять минут назад умыкнула из магазина.
− Как же ты ее вычислил? – после недоуменно спросил у наставника Шаховцев.
− Нервничала она слишком. Так обычно себя и ведут начинающие воровки в первые минуты после кражи…
За те полгода, которые Шаховцев проходил в паре с Егором, тот хорошенько натаскал подопечного, и к концу осени Иван в службе нисколечко не уступал, а кое-где и мог дать фору на «пэпээсе»3 самым матерым «дедам». Понятное дело, он не умел взять с поличным того же карманника, но почти на раз вычислял его в толпе – и тот, заметив интерес к себе со стороны стража порядка, мгновенно ретировался, так никого и не обчистив. Научился он распознавать и наркоманов, причем не просто, а определять, имеют они при себе тянущую на статью «дозу» или нет. Сходу узнавал и уличных грабителей, из числа тех же самых «торчков», которые в состоянии ломки любили выхватывать у зазевавшихся горожанок сумочки. Как правило, если такой злодей выбирал себе жертву, то все его внимание сосредоточивалось исключительно на ней, и оставалось лишь дождаться, пока он вырвет ридикюль, а потом ринуться ему наперерез и заломать.
Стоит ли говорить, что через несколько месяцев фотография Шаховцева прочно обосновалась на стенде полка под названием «Передовики службы», по соседству с портретами начальника штаба, командира первой роты и, само собой, родного учителя и наставника – ефрейтора Головчака.
Но спустя полгода, когда тому подошло время увольняться в запас, Егора, как отличника, демобилизовали в числе первых, и Шаховцева начали ставить в пару то к одному, то к другому бойцу. Вот и в тот проклятый декабрьский вечер старшим наряда с Иваном заступил один из самых противных «дедов», вертлявый, нечистый на руку Киреев, которого не любили даже сами старослужащие, презрительно называя его Крысой.
Как и других нерадивых бойцов, Киреева демобилизовывали в самую крайнюю очередь, почти под Новый год. И надо же было такому случиться, что в последнее дежурство его назначили в пару к Шаховцеву. Дурное предчувствие возникло сразу, как только Шах узнал, с кем он заступает. Лишь только после инструктажа в отделении они отправились на маршрут, напарник тут же стал высматривать среди прохожих выпивших. Причем не абы кого, а из тех, кто был одет поприличнее. Подобным промышляли некоторые из патрульных: тормознут такого – и начинают тонко намекать, мол, либо забираем тебя, либо заплатишь нам и расходимся по-хорошему.
Вот и тогда, поздним вечером, Крыса нашел-таки свою жертву. Вначале к тротуару подрулил черный «мерседес», из задней двери которого вылез высоченный тучный мужик в дорогущем кожаном пальто и нетвердой походкой потопал за здание универсама.
− Стопудово отлить пошел! Ну все, я не я буду, если с этого бобра не слуплю сотку баксов! – азартно произнес Киреев и двинулся за кожаным. Эх, зачем тогда он, Шаховцев, поперся следом?! Не пойди он – может, и обошлось бы все…
Но Иван по привычке, не желая терять напарника из виду, направился в ту же сторону. Дойдя до угла, остановился, раздраженно наблюдая, как старший наряда подошел к только-только справившему нужду кожаному и что-то сказал ему. В ответ «клиент» грубо выматерился, а когда Крыса неумело попытался заломить ему руку, то без труда сгреб хлипкого Киреева и как котенка швырнул в ближайший сугроб. И тогда на помощь бросился Шаховцев.
Кожаный был почти одного роста с Иваном, но тяжелее килограммов на двадцать, и если бы не многолетние занятия штангой вкупе с рукопашкой, Шах вряд ли бы справился с этим амбалом. Но тут, в который раз, сработали навыки, вбитые в подсознание почти десятью годами тренировок. Рука отбила по касательной летящий в голову кулак, тело инстинктивно подалось вперед и в сторону, скручиваясь вправо, а затем, подобно пружине, в обратную сторону – и противник буквально налетел затылком на стену.
«Кажись, переборщил…» − машинально подумал Шаховцев, испуганно таращась на распростертое навзничь тело.
− Классно ты его! Молоток! – выбравшийся из сугроба Киреев с опаской приблизился к лежащему без движения кожаному и от души зарядил ему тяжелым ботинком в лицо.
− Тише ты! – опомнившись, Иван успел сграбастать Крысу, намеревавшегося садануть еще раз. – И так я его приложил… «Скорую» бы, по-хорошему, надо…
− Сдурел?! Сесть хочешь? – нервно усмехнулся напарник, одновременно расстегивая пальто мужика и сноровисто запуская руку за борт дорогого черного пиджака. Вытащил увесистый бумажник и какую-то кожаную книжечку, которую сразу же передал Шаховцеву. – Ну-ка, глянь!
Иван машинально взял закатанную в пластик «корочку», поднес к глазам – и тут же ощутил, как внутри все сжалось.
«Правительство Москвы…»
− Ну-ка, что там за ксива у него? Мент, что ли? – поинтересовался Киреев, забирая документ у напарника, и тут же присвистнул: − Вот это да! Влетели…
Несколько секунд он ошарашено разглядывал удостоверение, а затем решительно вложил его в бумажник и засунул его обратно в пиджак кожаного, не забыв, правда, выгрести оттуда наличность.
− Короче, так: нас здесь не было. Быстро сдергиваем к метро. А там сразу к ментам на станции зайдем, вроде как, позвонить. Если что – алиби будет, что в это время нас тут не было…
Все еще парализованный страхом, Иван безропотно порысил вслед за Крысой, в ужасе думая, что потерпевший, если выживет, по-любому запомнит их. И пока суть да дело, Киреев успеет дембельнуться – и все спишут на него, Шаховцева…
Вернувшись в часть, он не спал всю ночь, ожидая, что в казарму придут прокурорские с особистами и арестуют его. Этот липкий страх жил в нем все последующие дни. И лишь к середине января начал потихоньку ослабевать.
В конце концов Шах решил, что кожаный очухался и не стал поднимать шум, а может, по пьяни и вовсе ничего не помнил. Так он думал до того самого вечера, в который на свою беду отправился в самоволку в родную институтскую общагу…
3
Еще раз проверив все замки и зафиксировав намертво массивную железную щеколду, Шаховцев наконец скинул рубаху и джинсы, вытащил из сумки пакет со спортивным костюмом и хотел было переодеться, но, поразмыслив, решил сперва принять душ – тело буквально зудело и чесалось, словно он провел ночь на матрасе, набитом стекловатой.
«Не хватало еще псориаз на нервной почве заработать!» − подумал он, шлепая в ванную.
Стоя под теплыми упругими струями, он остервенело елозил мочалкой, будто хотел соскрести вместе с двухдневной грязью и потом злость, отчаяние, отвращение к самому себе.
«Как же, отмоешься тут! – зло усмехнулся про себя Шаховцев. – Тут и баня не поможет!..»
При мысли о бане в памяти вдруг всплыла незабвенная деревня Войновка, где каждое лето он гостил у бабушки Анны Степановны. В «родовом имении», как иронически величала их старый бревенчатый дом мама. Сама же Ольга Григорьевна не особо жаловала свою малую родину и наезжала туда от силы раз пять за лето. И хорошо, потому что каждый ее приезд был сущей мукой для Ваньки. Родительница, старавшаяся изо всех сил воспитать единственного сына пай-мальчиком, строго-настрого запрещала ему купаться вместе с другими мальчишками, жечь с ними костры за околицей, лазать по деревьям, бегать босиком и в особенности – париться в бане у соседей Игнатовых: «Рано тебе еще! Да и какое удовольствие истязать себя в этой жаровне?»
В ответ Ваня послушно молчал и лишь изредка заговорщицки переглядывался с бабушкой. Зато когда в воскресенье мать уезжала в город, начиналось раздолье. Гоняй себе целыми днями, бултыхайся до посинения в речке, а по четвергам − айда в баню!
Этого дня Ванька с нетерпением ждал всю неделю. Кургузый бревенчатый сруб за соседским плетнем казался ему сказочной избушкой, где в раскаленном мокром тумане совершалось волшебство. Это подтверждала и бабушка, постоянно повторявшая, что «сходишь в баньку – как заново родишься». Вот потому в четверг маленький Шаховцев с самого утра просто изнывал от нетерпения, мечтая скорее «родиться заново».
В баню они ходили на пару с Пашкой, тетки-Таниным внуком. Сосед заводил Ваньку в парную, укладывал вниз лицом на нижний полок и аккуратно, но усердно обрабатывал веником. И так было приятно лежать, чувствуя, как на тебя накатывают упругие волны жара, представляя, что ты вновь появляешься на свет, а значит – никогда не умрешь, если будешь каждую неделю париться в этом волшебном домике! Вот только жаль, что Пашка не позволял ему забираться на самую верхнюю полку-ступеньку, куда лазал сам, повторяя, подобно матери: «Обожди, брат, рано тебе еще!» Но в отличие от Ольги Григорьевны произносил эти слова не высокомерно-поучительным тоном, а утешающе-дружески.
Пашка Игнатов был лучшим другом Ваньки, несмотря на то что был старше на добрых семь лет. Сколько помнил себя Шаховцев, сосед всегда нянчился с ним, играл, брал с собой на речку и за околицу, где со взрослыми ребятами они жгли костры, пекли в золе картошку или коптили пойманных карасей. Пашка даже специально приделал к раме своего велосипеда сиденье от старых детских качелей, чтобы возить Ваню.
А еще Игнатов держался с ним, как с равным по возрасту. А когда разок один из ребят на речке в шутку назвал Ваньку «мелким», то мгновенно схлопотал от Пашки звонкий щелбан. Впрочем, сосед прибегал к таким аргументам нечасто – как правило, хватало одного его слова, чтобы урезонить сверстников.
Игнатов вообще был главным заводилой среди мальчишек в деревне. Он быстрее всех гонял на велике, лучше всех плавал. А еще главенствовал над пацанами не только в играх и прочих ребячьих затеях, но и в церкви, на воскресной литургии. Да-да, именно в церкви. Каждое воскресенье в Войновке вместе со взрослыми туда шли и дети. Было забавно наблюдать, как пацаны, проказничавшие и озоровавшие шесть дней в неделю, на седьмой, нарядившись в белые рубашки и строгие брюки, чинно, под присмотром дедушек и бабушек, шествовали в местный храм, стояли притихшие, старательно и зачастую неумело крестясь. Друг за другом подходили к стоящему у аналоя священнику, что-то виновато шептали ему, а потом склоняли головы, которые пастырь накрывал своим золотистым передником.
Игнатов и тут был за старшего. Пока шла служба, он следил, чтобы остальные, особенно малышня, не шумели, не толкались, урезонивал их. А когда батюшка выносил из алтаря золотистую чашу, то Пашка самолично выстраивал ребятню к причастию – сначала самых маленьких, потом постарше, а уж под конец подходил сам.
…Уже повзрослев, Шаховцев не раз думал: а ведь все эти пацаны-девчонки были октябрятами-пионерами, которым, по идее, не полагалось ходить в церковь и тем более участвовать в таинствах! Что ж это получается: дома, в городе, с красным галстуком на груди, а на каникулах, в деревне – у иконостасов в платочках да белых сорочках? Чего ж тогда удивляться, когда вчерашние партийцы, клявшиеся в верности марксистско-ленинским идеалам, стали в одночасье верующими, красующимися перед телекамерами со свечками? Ладно Пашка – как-никак тетка Таня прислуживала старостой в храме, а эти-то?..
Впрочем, если многие дети из Войновки скорее всего не понимали смысла хождения на вечерни да литургии, то Пашка уж точно делал все осознанно. Он вообще был взрослым не по годам и порой казался не подростком, а полноценным справным мужиком. В десять- одиннадцать лет уже умел сам сготовить обед или ужин, сменить прохудившийся лист шифера на крыше и даже починить выключатель.
А кроме того, Пашка был фантастически бесстрашен. Ему ничего не стоило на спор отправиться ночью на кладбище или ввязаться в драку с парнями куда старше и сильнее себя. А дрался сосед как лев, если не сказать больше, играючи сшибая недругов с ног и разбивая в кровь физиономии.
Кстати, из-за этого виртуозного умения драться о Пашке среди ребятни ходило немало слухов. Одни говорили, что у себя, в Краснодаре, он тайно занимается запрещенным в ту пору каратэ. Другие утверждали, что Игнатов изучает какую-то хитрую заграничную борьбу вместе с курсантами военного училища, где в ту пору служил его отец. Сам же сосед до поры до времени говорил, что занимается обычным самбо, пока однажды в Войновку не приехал старший брат одного из мальчишек, дзюдоист-перворазрядник, и не попытался побороться с Игнатовым. Парень был на четыре года старше и почти в два раза крупнее, но тем не менее потерпел полное фиаско: лишь только он пытался ухватить Пашку, как оказывался на земле, и со стороны можно было подумать, что он попросту поддается сопернику. Вот только красное от усердия лицо борца, на котором застыло изумленно-непонимающее выражение, говорило о том, что все происходит всерьез.
− Значит, самбо, говоришь? – произнес разрядник после поединка. – Да ни фига, брателло. Самбо тут и не пахнет. Колись, где тренируешься?
− Где-где… У себя в Краснодаре, − нехотя отозвался Пашка, отводя глаза в сторону.
− Понятно, что не в Алабаме, − усмехнулся соперник. – Я спрашиваю, где конкретно?
− В спортивном клубе, на районе…
− И как же этот твой вид спорта называется?
− Я же сказал – самбо. С военно-прикладным уклоном…
− Ладно, не хочешь говорить – не говори, − махнул рукой борец. – Только не надо тут вешать мне лапшу, Седой. Это скорее на айкидо смахивает, да и то – именно смахивает и не более…
Седым Пашку прозвали за пепельный от рождения цвет волос. Причем каждый раз, будь то в деревне, в школе или потом в армии, его точно так же сходу окрещивали новые однокашники и сослуживцы.
А секрет, где и кто тренирует его, Пашка не только не открывал никому из приятелей, но и наотрез отказывался показать им даже самые простейшие приемы. Исключением был лишь Ванька…
Учить его Игнатов начал вскоре после того, как Шаховцева в шесть лет тайком от матери все-таки окрестили в здешней церкви. Восприемниками были тетка Таня и Пашка, которому как раз накануне стукнуло тринадцать, и батюшка разрешил ему быть крестным Ваньки. Впрочем, это отдельная история…
В то же лето Игнатов стал потихоньку посвящать крестника и в тайны своего хитроумного боевого искусства.
Как правило, для этого они уезжали на велике в лес или в дальний карьер, где Седой учил его нападать и защищаться, а кроме того, заставлял падать и кувыркаться на голой земле. Ваньке, естественно, это не нравилось. Куда интереснее было лихо сшибать с ног своего тренера или метать в дерево «всамделишный» нож, чем набивать самому себе шишки и синяки на жесткой стерне! Но Игнатов сказал, что без этого нельзя постичь все остальное. И не только рассказал, но и показал, что называется, наглядно.
В то утро они укатили на велосипеде за три километра от Войновки, за дальнюю косу, где над берегом вздымался высоченный утес. Оставив Шаховцева внизу, Седой вскарабкался на самую вершину и, крикнув оттуда: «Смотри!», неожиданно ринулся вниз…
До сих пор Шах помнил тот мгновенный, бескрайний ужас, когда Пашка кубарем летел с каменистого, почти отвесного склона!.. Ваня аж заревел от страха, решив, что друг непременно разобьется насмерть…
Он пришел в себя лишь когда его на его плечи легли чьи-то руки.
− Ты что, глупый? Вот он я!
Сквозь пелену слез он разглядел Игнатова. Крестный присел перед ним целый и невредимый, успокаивающе ероша Ванькину макушку, повторяя:
− Ну все, успокойся. Видишь, я даже не поцарапался!
Когда же страх прошел, изумлению маленького Шаховцева не было предела. А крестный еще пару раз скатился с обрыва, а потом объяснил, что если он, Ванька, будет слушаться и старательно повторять все за ним, Пашкой, то научится не только одолевать в драке почти любого, но и безболезненно прыгать и падать с любой высоты.
В то лето они протренировались неполных два месяца, но кое в чем Иван все же поднаторел. Когда к сентябрю мама привезла его в Куранск, то в первый же день в детском саду Шаховцев сумел накостылять своему давнему обидчику Витьке, с которым до сей поры никто у них в группе не мог справиться.
Но по настоящему Шаховцев оценил «Систему» (как называл то, чему учил его Пашка) после той страшной истории с Вовкой-Хлыстом – верзилой из Рябиново, успевшим к своим девятнадцати отсидеть два года в колонии за грабеж.
Случилось это в местном клубе, где по выходным неизменно крутили какое-нибудь интересное кино. Клуб был один на четыре деревни, потому каждую субботу-воскресенье туда стекался народ со всей округи. Вот и в тот вечер в Войновку вместе с компаниями из других сел подвалила ватага из Рябиново во главе с Хлыстом. Однако здешние пацаны, понятное дело, оказались в клубе раньше всех и успели занять первыми задний ряд, который почему-то считался среди ребят привилегированным. Из-за этого все и началось.
Поначалу Хлыст попытался было привычно турнуть пацанов и расположиться с верной кодлой на своем привычном месте. Но на этот раз среди войновских оказался приехавший на каникулы Игнатов, который напрочь отказался пересесть.
− Эй, фраер сопливый, ты че, меня не понял? – угрожающе надвинулся на него Хлыст.
Игнатов поспешно поднялся, что-то тихо сказав в ответ. Со стороны могло показаться, что он извиняется перед местным авторитетом. Но тот вдруг побелел от злости, резко опустил руку в карман телогрейки, и в следующую секунду в ней что-то блеснуло, устремившись к Пашкиному лицу.
Что произошло дальше, поначалу никто не понял. Шаховцев успел заметить лишь, как крестный неловко вскинул руку, будто пытаясь заслониться от удара, неуклюже качнулся в сторону – и в следующий миг Хлыст, закрутившись волчком, грохнулся на пол. Казалось, он просто поскользнулся и вот-вот вскочит на ноги, размазав противника по стенке.
Но Хлыст не вставал, а лишь со сдавленным стоном корчился между рядами. Правая рука, на которую был надет массивный металлический кастет с внушительными шипами, была неестественно вывернута и распухала прямо на глазах.
Дальнейшее Ванька помнил смутно. В клуб набежали взрослые, следом примчались местная фельдшерица и участковый. Из сельсовета к клубу подогнали «УАЗик», куда на брезенте загрузили так и не оклемавшегося после падения Хлыста.
Уже в районной больнице выяснилось, что у него, кроме сломанной в двух местах руки, серьезно поврежден позвоночник. Причем настолько серьезно, что бывший гроза окрестных сел так и остался калекой.
История эта наделала много шума в селе. Из райцентра даже приезжал следователь, опросив всех, кто был тот вечер в клубе. Но очевидцы рассказывали в основном одно и то же: пьяный Хлыст, попытавшийся садануть в лицо кастетом Игнатову, промазал и навернулся сам, без какой-либо посторонней помощи. То же самое, кстати, подтвердил и сам Вовка, сказав под протокол, что зацепился за что-то ногой. «Надо было этого щенка из зала выволочь и там урыть!..» − в бессильной злобе шипел он, недвижно распластавшись на койке.
В общем, все единодушно сошлись на том, что произошел несчастный случай, в котором виноват сам пострадавший. Поначалу на него даже завели дело по статье за особо злостное хулиганство, граничащее с разбоем. Как же: ранее судимый, с кастетом, чуть было не изувечивший несовершеннолетнего! Но все же не посадили, приняв во внимание то, что после травмы позвоночника у обвиняемого полностью отказали ноги.
Правда, некоторые недоумевали: как же это Хлыста так угораздило оступиться? Особенно удивлялся участковый дядя Коля: «Это надо же − нарочно так не навернешься!» − качал он головой, когда однажды по-соседски чаевничал у бабы Нюры. «Это Господь его наказал, − сердито отвечала Анна Степановна. – Вот те Истинный Крест!»
Постепенно страсти улеглись, история подзабылась, и жизнь в Войновке потекла своим чередом. Лишь Шаховцев заметил, что с той поры и до конца лета, Пашка, будучи в церкви, перестал причащаться во время воскресной литургии. Нет, он все так же следил за порядком во время службы, выстраивал ребят в очередь к чаше, но вот сам так ни разу и не подошел…
Лишь несколько лет спустя Игнатов рассказал крестнику всю правду:
− Никакая это не случайность. Я его специально уделал.
− Специально?
− Ага. Когда он меня начал с места выгонять, я его тихонько петушней парашной обозвал. Чтобы он разозлился и первый на меня бросился. Вот только духу не хватило его насмерть завалить. А надо было бы…
− За что?! – в ужасе вытаращил глаза пятнадцатилетний Шаховцев.
− За Светку.
− За какую Светку? Нашу, из Войновки?
− Нет, из Рябиново.
− Это глухонемую, что ли?
− Ага.
− Которая утопла в тот год?
− Да. Только не утопла, а утопилась. Из-за этого ублюдка.
− Как это?
− А так. Изнасиловал он ее. Специально выбрал ту, за которую заступиться некому: родителей нет, только бабка из ума выжившая. А девка не перенесла и руки на себя наложила…
− А ты-то откуда об этом узнал?
− Так, считай, всем в округе это было известно. Когда Светку из речки выловили, в морге экспертиза показала, что перед смертью ее избили и надругались… На Хлыста тогда сразу вышли, вот только доказать ничего не могли – наглухо в отказ ушел и все тут. Так и пришлось его выпустить за недоказанностью. Ты, Ванька, просто малой тогда еще был, всех дел не знал…
− Ничего себе дела! – только и присвистнул крестник. Ведь в душе он нет-нет да и жалел Хлыста, который, став никому не нужным инвалидом, запил и вскоре помер, отравившись самопальной, купленной у цыган водкой.
Да-а, Пашка с ранних лет отличался недетской беспощадностью к тем, кого считал врагом. А уж после армии и вовсе…
Поначалу все думали, что Седой пойдет по стопам отца, в родное Краснодарское ракетное. Даром он, что ли, с малых лет целыми днями пропадал с батей и его курсантами на полигоне да в тактическом городке! Однако Пашка решил для начала отслужить срочную, потому, несмотря на уговоры Игнатова-старшего, не стал поступать в военное училище, а, отработав неполный год в автомастерской, ушел тянуть солдатскую лямку.
Крестного определили во внутренние войска. Но не в «конвойку», а в только что сформированную оперативную бригаду под Москвой. Как раз тогда, в восемьдесят девятом, на окраинах тогдашнего СССР разразились самые настоящие войны, которые политики скромно именовали «межнациональными конфликтами» (словно какой-нибудь молдаванин заспорил до ругани с азербайджанцем, чей коньяк лучше!). Милиция оказалась бессильна против неведомо откуда взявшихся вооруженных до зубов банд. Немного оказалось толку и от армии, которая умела наступать на полчища потенциального неприятеля или обороняться от них, но была совершенно не приспособлена вычислять боевиков, замаскировавшихся среди мирных советских обывателей, и отыскивать в окрестных лесах их схроны и базы. Единственной палочкой-выручалочкой оказались «вэвэшники», натасканные еще с послевоенных годов на борьбу с бандеровцами на Украине да «лесными братьями» в Прибалтике.
В одну из таких частей и попал Пашка. Правда, поначалу его хотели зачислить в роту обеспечения, благо за год работы на сервисе он успел почти профессионально понатореть в ремонте машин. Но надо было знать Седого, который еще с десятого класса начал доканывать военкомат просьбами отправить его не куда-нибудь, а в Афганистан… И сто к одному добился бы своего, если бы за три месяца до его призыва оттуда окончательно не вывели войска.
Поэтому, еще на «карантине»4 (у тебя же раньше в тексте объяснялось, что есть «карантин») узнав, что в бригаде есть рота спецназа, Седой сделал все, чтобы попасть именно туда, решительно отказавшись от тихой, размеренной службы в пользу ежедневных многокилометровых кроссов, марш-бросков и прочих истязаний. А также для того, чтобы потом от души хлебнуть лиха в Киргизии, Молдавии, Баку, Карабахе. И еще – пройти нечеловеческие испытания, чтобы получить право носить краповый берет.
Когда позже Шах своими глазами увидел, как сдают на этот самый берет, то пришел в ужас. Особенно впечатлило, как после бешеного марш-броска в полтора десятка километров через болота и лес, особо изощренной полосы препятствий, спуска с крыши пятиэтажки на веревке – как после всего этого едва державшихся на ногах претендентов на диковинный головной убор жестоко молотили инструктора − здоровенные матерые «краповики». Причем били всерьез, словно хотели зашибить до смерти или по крайней мере сделать инвалидами. Неудивительно, что из сотни с лишним человек до финиша дошли лишь семеро.
Очевидно, после таких добровольных издевательств над собой крестный отчасти тронулся умом, поскольку, когда подошло время долгожданного для всякого солдата дембеля, Пашка подал рапорт и остался на сверхсрочную.
…А о том, кто же все-таки научил его этой мудреной «Системе», позволяющей драться против пятерых, вслепую метать ножи и прыгать с большой высоты, Игнатов поведал Шаховцеву только перед уходом в армию. Случилось это в мае, когда на праздники Ванька отправился в Войновку, куда на несколько дней прилетел и Пашка, чтобы попрощаться с бабушкой и друзьями.
Тогда Седой впервые показал крестнику несколько способов, как серьезно покалечить противника, да так, что окружающие и он сам посчитают это роковой случайностью. Правда, восприемник взял с Ваньки слово, что тот воспользуется этими навыками лишь в самом крайнем случае, когда выбор один: либо ты, либо тебя.
− Слушай, − в который раз не выдержал Шаховцев. – Так что же это все-таки за «Система» такая? Как она по-настоящему называется?
− Так и называется. Во всяком случае, дядя Леша именно так ее и зовет.
− Какой дядя Леша?
− Моего бати друг. Он у нас в училище преподает.
− А он откуда все эти хитрости знает?
− Знаешь, я в общем-то сам особо не в курсе, − замялся Пашка. – Говорят, что он в молодости в какой-то секретной разведшколе учился, где готовили диверсантов. И это вообще все не заграничное, а наше…
− В каком смысле «наше»?
− Ну, русское то есть. Дядя Леша вообще говорит, что в старину у нас был свой стиль рукопашного боя, куда круче всех этих каратэ да кунг-фу…
− Да-а? – изумленно и недоверчиво протянул Ванька.
− Именно. Он, дядя Леша, уже много лет всю эту систему по крупицам собирает…
− Да, небось крутой мужик! – уважительно покачал головой крестник. – Вот бы поглядеть на него.
− Это можно…
Игнатов полез в сервант, вытащил оттуда пачку фотографий, выбрал и протянул одну из них Шаховцеву.
Ванька был разочарован. Легендарный «сенсей» выглядел отнюдь не грозным богатырем, а, напротив, совсем не геройски: худощавый, с простоватым деревенским лицом и каким-то чересчур домашним, добродушным взглядом. Трудно было представить, что этот, похожий на сельского учителя, дяденька может сходу покалечить пяток амбалов.
…Лишь много лет спустя в одном из популярных толстых журналов Шах наткнулся на большую статью о таинственном «русском стиле» и его родоначальнике. Там же красовалась фотография легендарного рукопашника, в котором Иван с удивлением узнал того самого дядю Лешу…
4
Контрастный душ сделал свое дело – в голове прояснилось, нервная дрожь отступила, и даже тяжесть, сдавливавшая сердце, как-то отлегла. Отлегла, но не исчезла…
Растеревшись до красноты полотенцем, Шаховцев натянул спортивный костюм и прошлепал на кухню. Открыл холодильник, где его взору предстали две кастрюльки, принесенные соседкой. Машинально он приподнял крышку на одной из них и инстинктивно сглотнул слюну: отварная «картошечка» (как величала ее сама Петровна), от души пересыпанная луком и зеленью, смотрелась аппетитно. На миг возникло желание наложить ее в тарелку и сунуть в микроволновку, но, прислушавшись к себе, Шах понял, что лучше всего будет ограничиться обычным крепким кофе.
Он пошарил глазами по навесной полочке и тут же узрел початую банку с яркой наклейкой и замысловатым заграничным названием. Иван попытался было перевести мелкий убористый текст, но, помучившись с минуту, бросил эту затею. Нет, что ни говори, а способности к языкам у него отсутствовали напрочь. Да, в этом смысле уродился он явно не в мать…
Ольга Григорьевна, в ту пору просто Оля, еще в четвертом классе поразила всех в школе, да и во всей деревне, тем, что за неполный месяц самостоятельно, из чистой детской любознательности, изучила и прошла весь годовой учебник по английскому. А уж к концу шестого она с легкостью одолела весь курс, положенный за десятилетку! Неудивительно, что после получения аттестата она почти без труда поступила в столичный иняз, набрав максимальный балл. Для обычной деревенской девчонки это было делом неслыханным!
Зачисление в институт Оли Шаховцевой праздновали всей деревней. Собравшиеся в просторной зале избы Анны Степановны один за другим поднимали тосты за хозяйкину дочь, пророча ей большое будущее. Наверное, тогда каждый был уверен, что односельчанка, с блеском окончив иняз, устроится в столице на престижную работу и, конечно же, выйдет замуж за москвича из знатной семьи. Скорее всего так бы и вышло, если бы не случился тот самый казус, про который в народе говорят: «Любовь зла – полюбишь и козла».
«Казус» звался Сергеем Алексеевичем и преподавал в институте обязательную в то время историю КПСС. Несмотря на свою молодость (в ту пору ему шел всего тридцатый год), он имел кандидатскую степень, которую получил благодаря выгодной женитьбе.
Юная Оленька Шаховцева втрескалась в партийного историка с первой же лекции. Чего только не делала она, чтобы понравиться преподавателю! И в конце концов добилась своего. Случилось это спустя пять лет, когда Олю, защитившую диплом с отличием, оставили в аспирантуре. Встречались они тайком, на квартире однокурсницы Светки. Отец подруги был известным международным обозревателем и вместе с матерью практически не вылезал из заграницы, потому квартира была в полном распоряжении дочери, которая, в свою очередь, ночевала там через раз, предпочитая оставаться у жениха, обитавшего на родительской даче.
Спустя полгода Оля забеременела. Сергей Алексеевич, естественно, начал уговаривать любовницу избавиться от совершенно ненужного ему ребенка. И, в принципе, уговорил и даже подыскал знакомого врача. Но тут вмешалась Анна Степановна, материнским сердцем почувствовавшая, что с дочерью что-то не так, и примчавшаяся в Москву буквально накануне операции. Услышав про аборт, баба Нюра от души отхлестала по щекам свое великовозрастное дитя, а после заставила забрать документы из института, выписаться из общежития и почти что силой увезла домой, попутно выбив для дочери распределение в родной райцентр – Куранск.
С помощью тогдашнего председателя, воевавшего вместе с секретарем райкома, Ольгу удалось не только устроить учительницей английского в школу, но и вне всяких очередей выхлопотать ей, как молодому специалисту, квартиру. Пусть крохотную, в ветхой трехэтажке, но отдельную, с ванной, туалетом и даже газовой колонкой, что для провинциального Куранска считалось почти что шиком.
Долгое время маленький Шаховцев был уверен, что папа умер и похоронен где-то в Москве. Так говорили ему и мама, и бабушка, благоразумно не став сочинять заезженные сказки про полярного летчика или капитана дальнего плавания. Ольга Григорьевна придумала даже почти правдивую историю, что с Ваниным отцом они поженились, будучи студентами, и что у родителя было больное сердце, потому он и ушел из жизни так рано.
Поэтому Ванька, в отличие от другой безотцовщины, жил без надежды, что родитель, бороздящий небо Заполярья или Ледовитый океан, когда-нибудь вернется домой. Он даже по-товарищески сочувствовал той же Ленке Лагутиной, чей батя давным-давно ушел к другой и, встречая бывшую жену или дочь на улице, демонстративно не замечал их. Лишь потом, годам к двенадцати, до Шаховцева вдруг дошло, что он, в отличие от других ребят, носит фамилию матери. А еще через пару лет он случайно увидел свое свидетельство о рождении, где в графе «отец» стоял жирный прочерк.
Поначалу он хотел было выяснить это недоразумение у мамы, но что-то остановило его, и Иван тихо сунул документ обратно в ящик стола. Задал этот вопрос он только через год, но не Ольге Григорьевне, а бабе Нюре. Она-то и рассказала ему все, как было, взяв с внука обещание, что тот ни полсловом не обмолвится матери о том, что узнал.
Обещание Иван до поры до времени сдержал. К тому времени у него и без этого было много тайн от родительницы, и самая главная из них – Светка. Зазноба пятнадцатилетнего Шаховцева жила на соседней улице, работала в универсаме и была старше его на добрых восемь лет.
Познакомились они на дискотеке в городском доме культуры, куда Шах частенько заглядывал после тренировок. Обычно он ходил туда со своей пассией-гимнасткой, занимавшейся в соседней секции. Но в тот раз девушка уехала на соревнования, и он отправился в ДК один.
Иван появился там как раз в тот момент, когда диджей объявил белый танец. Тотчас же девицы, которых было раза в полтора больше, чем ребят, ринулись расхватывать кавалеров. Шах не успел опомниться, как его уже цепко держали за локоть, а в ухо томно прошелестело:
− Разрешите вас пригласить?
Он машинально кивнул, и тотчас же легкие руки легли ему на плечи, увлекая в плавное кружение под нестареющего Джо Дассена.
Спустя полминуты глаза привыкли к полумраку, и Шах разглядел партнершу. Лицо у нее было круглым, скуластым, с раскосыми темными глазами. На вид ей было лет восемнадцать, и Ваня, всегда робевший перед девчонками постарше, чувствовал себя неуверенно. Особенно после того, когда он, семиклассник, безумно и безответно влюбился в красавицу из десятого, долго сох, изнывал по ней, а потом случайно увидел ее в городском парке, бесстыдно обжимающуюся и целующуюся взасос с каким-то приблатненным верзилой…
Но если та давняя девчонка и не замечала втрескавшегося в нее тринадцатилетнего пацана, то теперешняя незнакомка смотрела на кавалера с явным интересом и приязнью.
− Ну, чего молчишь? Сказал бы хоть, как зовут, − насмешливо произнесла девушка.
− Иван.
− Да? А я думала – Степан.
− Это еще почему? – удивился Шаховцев.
− А ты похож на дядю Степу. Тот тоже еще та каланча был! – вновь засмеялась она. От незнакомки пахло дешевыми духами и вином.
− А-а… − Шаховцев наконец догадался, что речь идет о герое стихотворения Михалкова, и в свою очередь пошутил: – А ты случайно не отважная Ли?
− Это еще кто такая? – удивленно подняла тонкие выщипанные брови девушка.
− Белая ниндзя из «Когтя смерти». Смотрела?
− Не, я эти мордобои не люблю. Мне больше «Санта-Барбара» нравится.
− Жаль, ты так на нее похожа, − стараясь казаться развязным, лихо подмигнул Иван. Он и вправду в то время балдел от восточной героини, которая, кроме умения дубасить ногами врагов, обладала и великолепной фигурой.
− Может быть, − кокетливо пожала плечами партнерша.
− Кстати, а тебя-то как зовут?
− Света.
Они протанцевали весь вечер, болтая о разной ерунде. Кружа девушку в энный раз, Шаховцев вдруг заметил, что его рука нечаянно сползла с талии партнерши, но та не только не отстранилась, а наоборот – еще теснее прижалась к нему. Когда же он, осмелев, решил поцеловать Свету, то она с готовностью подставила в ответ свои теплые, жадные губы…
После, проводив ее, он шел домой, испытывая странное двоякое чувство. С одной стороны, Ване было стыдно перед девушкой-гимнасткой, с которой они встречались вот уже год. Шагая по темной, в желтых кляксах фонарей, улице, Шах вспоминал, как долго присматривался к этой девушке, не решаясь подойти познакомиться. И как был счастлив, когда избранница впервые согласилась сходить с ним в кино.
Но гимнастка оказалась донельзя строгой и неприступной. Она позволила поцеловать себя аж через четыре месяца свиданий, а уж о чем-то большем мечтать и не приходилось. Однажды, сидя в кино, он приобнял ее за плечи и, не рассчитав, нечаянно дотронулся… там, где нельзя. Избранница вспыхнула, резко отпрянула, едва не залепила ухажеру пощечину, ушла и не разговаривала с ним почти неделю. А Светка в первый же вечер дала понять, что кавалер может рассчитывать на многое…
С того дня он только и жил сладостным томлением предстоящей встречи. Сразу же после школы Иван с трудом дожидался вечера, чтобы встретить Светку с работы и отправиться гулять в городской парк. В тот самый, где когда-то тринадцатилетний Ваня увидел свою тогдашнюю возлюбленную с другим. С той поры, лишь только он оказывался поблизости, сердце начинало противно ныть от воспоминаний. Когда же в жизни Ивана появилась гимнастка, то эта боль стала потихоньку стихать, но окончательно так и не исчезла, время от времени напоминая о себе. Но теперь, идя по знакомым аллеям со Светой, он почувствовал, что та давняя горечь окончательно сменилась каким-то злорадным чувством, похожим на отмщение.
А в день, когда Светка была выходная, он спешил к ней сразу же после школы. Если ее мать в это время оказывалась на суточном дежурстве в больнице, они до самого вечера не покидали квартиры, целуясь до умопомрачения и не только… Вскоре это закончилось тем, чем и было должно.
Кстати, своей новой зазнобе Шах поначалу наврал, что ему восемнадцать и в июне он ждет повестку из военкомата. И лишь после их первой близости признался, что приврал себе три лишних года. Светка поначалу опешила и первое время пыталась избегать последующих свиданий, очевидно, побаиваясь, что ей может нагореть за связь с малолеткой. Но напор Ивана, вкусившего безумной страсти, каждый раз заставлял ее сдаваться. А потом ей и самой стало интересно, или, как выражалась сама девушка, «прикольно» обучать неопытного, но настырного юнца всем постельным премудростям.
А та конспирация, которую приходилось им соблюдать, еще больше добавляла жару в отношениях. В маленьком городке все у всех на виду, и каждый твой шаг фиксируется множеством любопытных глаз, а потом множество же языков долго обсуждает, по какой надобности Вася или Коля третьего дня ходил в соседний дом. То ли пить водку к приятелю Пете с первого этажа, то ли осчастливить мужским вниманием одинокую Таньку со второго. Порой это переходило в жаркие споры, похожие на сражение адвокатов в суде.
И все же шила в мешке не утаишь. Первой догадалась, что у Ивана появилась другая, подруга-гимнастка. Вернувшись с соревнований, она каким-то особым женским чутьем поняла, что в их отношениях что-то не так, и попыталась вызвать ухажера на откровенный разговор.
− Скажи честно, у тебя кто-то появился? – спрашивала она, глядя на Ваньку пытливыми, но все еще любящими глазами.
− С чего ты взяла? Никого у меня нет… Просто соревнования на носу… Ну и это… К институту надо готовиться… − бормотал он в ответ, старательно отводя взгляд.
− Странно… А ваш тренер, между прочим, сказал, что ты стал занятия пропускать, − девушка вновь уставилась на кавалера, как следователь на подозреваемого.
− Ну было пару раз… Отлеживался я… Связку потянул, когда напарник случайно на болевой взял… − как мог, увиливал Шах.
В конце концов девушка поняла, в чем дело, и перестала искать с ним встреч.
Поначалу Ваня думал, что они со Светкой поженятся, и даже убеждал себя, что сделал правильно, расставшись с гимнасткой. Шах почему-то был уверен, что и после свадьбы та будет такой же строгой и неприступной. И уж точно она никогда не снизойдет с ним до тех сокровенных нежностей, на которые была щедра Светка…
Ольга Григорьевна же пребывала в неведении про личную жизнь сына почти год и, наверное, так ничего и не узнала бы, если бы не сам Шаховцев…
Случилось это в марте, когда Иван решил прогулять первые три урока и отправиться к подруге. Добежав до ее дома, он незаметно нырнул в подъезд, благо глазастые и языкастые пенсионерки еще не успели занять свои наблюдательные посты на лавочках. Взбежав на третий этаж, позвонил в дверь, но никто не открыл. Решив, что Светка куда-то ускакала с утра пораньше, Шах вздохнул и затопал восвояси. Но лишь только он покинул двор, как что-то вдруг запоздало подсказало: любовница дома, но почему-то не хочет открывать.
Ваня осторожно вернулся, неслышно вновь поднялся на этаж и прижался ухом к двери. Сперва он не услышал ничего, но потом слух уловил до боли знакомые звуки…
Спустя полчаса в квартире послышался торопливый голос Светки и еще один, мужской. Заскрежетал замок, и на пороге возник коренастый мужик лет тридцати, в куртке-«аляске» и форменных милицейских брюках. Завидев незнакомого высоченного юношу, мужчина недоуменно уставился на него, а Светка… Светка застыла с таким выражением на лице, что Иван все понял. И от души зарядил сопернику в лоб.
Любовник подруги был тоже не из слабых, но Шах – куда сильнее и тренированнее противника, потому быстро уделал его. Драка переполошила весь подъезд, и вскоре Иван уже сидел в прокуренном кабинете инспекции по делам несовершеннолетних, отвечая на вопросы рослой мужеподобной, хоть и сравнительно молодой капитанши, оказавшейся… женой побитого Шаховцевым милиционера. Женщина общалась с задержанным с пониманием и даже по-тихому одобрила то, что Ваня начистил морду ее благоверному:
− Поделом ему, кобелю! В другой раз будет знать!
К слову сказать, узнав, за что Иван накостылял ее мужу, инспекторша чуть было не отколотила того прямо в дежурке – еле-еле коллеги оттащили. Поэтому неудивительно, что Шаховцев отделался лишь легким испугом – на него даже протокола не составили. Но все же, поскольку задержанному не было восемнадцати, вызвали в отделение мать: передать с рук на руки набедокурившее великовозрастное чадо.
Ольгу Григорьевну чуть было не хватил удар, когда ей позвонили из милиции. А уж узнав, что сын отколошматил милиционера, не поделив с ним какую-то девку, она вовсе вышла из себя и попыталась отхлестать отпрыска по щекам прямо в милицейском кабинете. Причем мать больше всего была возмущена не тем, что он спал с женщиной намного старше себя, а тем, что обманывал, говоря, что пропадает на тренировках.
В ответ Ваня вспылил и, не сдержавшись, прямо при капитанше высказал матери про то, как та сама обманывала его все эти годы, рассказывая о якобы рано умершем отце. Ольгу Григорьевну пришлось отпаивать корвалолом, а Ивану хорошенько досталось от инспекторши, вмиг сменившей милость на гнев:
− Ты как с матерью разговариваешь, сопляк? Его тут, понимаете ли, от уголовного дела отмазали, а он… Или все-таки закрыть тебя на пару лет за хулиганство?
Начав за упокой, капитанша все-таки закончила за здравие и на прощание посоветовала Ване:
− Мой тебе совет: завязывай ты с этой своей шалавой. Вон, уже чуть было не влип из-за нее…
Впрочем, Иван уже и сам понимал, что со Светкой все кончено. Да и та теперь обходила его стороной: на следующий день после памятной драки капитанша заявилась к ней и выдала по первое число, пообещав вырвать ноги, если та будет и дальше водить шашни с ее супругом, а кроме того – привлечь за связь с несовершеннолетним. Тут милиционерша, конечно, лукавила. К тому времени думские законодатели, берущие пример с заграничных коллег, снизили возраст растлеваемых (фраза построена плохо, ты хотел выразить своё «фе», но исказил смысл, формально-то они снизили «возраст согласия» с 16 до 14, потом-то обратно вернули).
А с мамой Ваня помирился в тот же вечер. Ольга Григорьевна уже не ругала его, а повторила слова женщины-инспектора:
− Пойми, сынок, не доведет тебя до добра эта Света. Или втянет в историю, навроде сегодняшней, или заразит какой-нибудь гадостью! Ее же весь район знает… Нашел бы ты себе девушку помоложе и не такую, как эта…
Шаховцев последовал совету родительницы и быстро утешился, найдя себе пассию из медучилища. Девушка была пусть и не красавица, но и не страдающая целомудрием, как та гимнастка. Впрочем, встречались они неполных три месяца, пока Иван не уехал в Москву учиться «на писателя».
5
Шаховцев отошел от плиты, где грелся, готовясь закипеть, чайник, – и тут же слух уловил непонятный шорох за входной дверью. Словно кто-то осторожно крался по тамбуру.
Сердце тревожно забилось. Он осторожно глянул в глазок, но за дверью никого не было, лишь странный звук:
«Шарк! Шарк!»
Первой мыслью было затихнуть и просидеть так до тех пор, покуда неведомый соглядатай не уберется восвояси. Но разум все же взял верх над страхом, и Иван осторожно отпер замки и вышел в коридор.
Шарканье доносилось с площадки у лифта. Подойдя к общей двери, Шах приоткрыл ее, выглянул и мысленно чертыхнулся: окно было приоткрыто, и залетевший в него ветер гонял по полу обрывок бумаги.
Он запер фрамугу, выбросил клочок в мусоропровод и вернулся в квартиру. Тревога улеглась, но не пропала, а словно затаилась, выжидая следующего удобного момента.
Чайник на плите уже бурлил, жалобно дребезжа эмалированной крышкой. «Закипает душа на дне. Как на адовом на огне…», − срифмовалось в голове само собой. Да, раньше, помнится, не такие стихи складывались. И уж точно не про преисподнюю…
Впервые способности к сочинительству обнаружились у Шаховцева еще в семь лет. Их вожатая Люся, премиленькая девчушка с аккуратными косичками и всегда безупречно повязанным алым галстуком, придумала для подопечной малышни очередной конкурс. Не в пример другим пионерам, которых в те годы закрепляли за младшеклассниками, Люся исполняла свою общественную нагрузку не для галочки, а с душой и неутомимым детским энтузиазмом. Почти каждый день, на большой перемене или в конце последнего урока, она являлась к подшефным октябрятам то с увлекательным рассказом про мальчишку, помогавшего партизанам в годы войны, то просто организовывала какие-нибудь игры или конкурсы.
Вот и в тот раз вожатая, явившись к ним на большой перемене, предложила устроить конкурс на лучшего поэта-октябренка. Попытать счастья в стихотворчестве вызвались несколько ребятишек, в том числе и Ваня, который еще в деревне, лет с четырех, наловчился забавно рифмовать, навроде: «Пашка – белая рубашка» и «Мы поймали карасей больше всех в деревне всей!»
Придя после уроков домой, Ванька долго ломал голову, что бы такое сочинить. Неожиданно, стоило только бросить взгляд за окно, где на горке копошилась ребятня и с ними в снегу барахтался чей-то лохматый барбос, оглашая двор заливистым лаем, как в голове Шаховцева вдруг сами собой застучали строчки: «Ребята пошли во двор… Кататься со снежных гор… И Тузик с ними катался… Он с санок в снег кувыркался…»
…− Это ты сам сочинил? – изумленно вытаращилась на него вожатая, когда на следующий день Ваня принес ей листочек с коряво нацарапанным четверостишием.
− Сам, − подтвердил мальчик.
− Вот это да!
Восхищению Люси не было предела. Она тут же бросилась показывать стишок в совет дружины, и в субботу награждать Ваньку явилась целая делегация во главе со школьной вожатой и председателем совета пионерской дружины. Маленькому поэту торжественно вручили красочную самодельную грамоту и дефицитный по тем временам набор переводных картинок.
С той поры Шаховцев сделался местной знаменитостью. К праздникам и торжественным датам в школьной стенгазете почти всегда появлялись его неизменные четверостишия, навроде:
В великий праздник Октября
Алеют гордо, как заря,
Торжественно знамена
И шествуют колонны!
Понятное дело, сразу после написания все выглядело далеко не так складно, это Люся помогала Ваньке довести до приличного состояния его рифмоплетство, и лишь потом стихи переписывались фломастером и помещались на огромный лист ватмана, висевший на стенде в коридоре возле пионерской комнаты.
Ей же, Люсе, Шаховцев был обязан и знакомству с самим Петром Веселецким, известным писателем и героем Соцтруда, родившимся и выросшим в Куранске.
Это случилось лет шесть спустя, когда Люся уже готовилась к выпускным, а Шаховцев из забавного малыша превратился в симпатичного подростка, кроме праздничных виршей тайно сочинявшего и любовные рифмоплетства. В тот год Веселецкий в очередной раз навестил свою малую родину. Как правило, он приезжал в Куранск на две-три недели, перед тем, как отбыть на лето в какой-нибудь закрытый санаторий или дом отдыха. Вот и этой весной, когда знаменитый прозаик почтил своим присутствием город детства, его пригласили в школу выступить перед учениками.
Когда творческий вечер закончился и писателю вручили положенные цветы, Люся сумела пробиться к Веселецкому и сунуть ему листки с отобранными загодя стихотворениями Шаховцева.
Петр Алексеевич с заметным интересом просмотрел строчки, выведенные каллиграфическим Люсиным почерком, а затем подозвал к себе донельзя смущенного Ваню.
− Скажи-ка, брат, − писатель доверительно наклонился к нему, дружески обняв за плечи. – А кроме этих датских виршей у тебя что-нибудь есть?
− Датских… чего? – Шаховцев непонимающе уставился на именитого земляка.
− Ну, я имею виду, кроме стихов к праздничным датам и тому подобное…
− Ну так…
− Что «ну так»? Писал или нет? К примеру, лирику? Ты ведь наверняка уже влюблялся в какую-нибудь здешнюю Дульсинею? – Веселецкий заговорщицки подмигнул.
− Ну да…
− И небось посвятил что-нибудь, ведь так?
− Так, − став окончательно пунцовым, признался мальчик.
− Вот и ладненько. Тогда в субботу, в четыре, жду в гости. С любовными виршами, − Веселецкий достал из кармана авторучку, блокнот, черкнул адрес.
Дома, когда Иван рассказал о приглашении матери, та долго не могла опомниться от радости и даже позвонила в Москву тете Наташе, своей институтской подруге. Та ахнула и разразилась кучей советов и нравоучений: как одеться, что взять с собой… и обязательно отпечатать стихи на машинке. С этим и возникла проблема: Ольга Григорьевна была знакома только с «датскими виршами» сына, а зарифмованные любовные переживания он принципиально не показывал никому. В результате в субботу Шаховцев отправился в гости с солидной «взрослой» папкой под мышкой, где на строгих листах темнели набранные строки, посвященные Седьмому ноября да дню Советской армии, и разные пионерские приветствия. А в кармане, тщательно спрятанные от глаз родительницы, покоились тетрадные странички с самым сокровенным:
Зачем я иду за тобою,
Как тайный соглядатай?
С чего же так сердце ноет,
Когда на дворе месяц май?
От боли становится жарко,
И сердце рыдает, скорбя,
Как вижу на лавочке, в парке,
В объятьях другого, тебя…
Поначалу Ольга Григорьевна хотела пойти к писателю вместе с сыном, но тот убедил ее, что Веселецкий приглашал лишь его одного, для серьезного мужского разговора. И в конце концов ему, Ване, уже целых тринадцать лет! Кончилось все тем, что мама нехотя, но все же осталась дома, зато заставила отпрыска надеть парадную белую рубашку, отутюженные черные брюки и новые, тесные и жутко неудобные, ботинки.
Дом в частном секторе, где жил Веселецкий, поразил Шаховцева тем, что в отличие от теснящихся по соседству деревянных хибар он был полностью кирпичным и имел второй этаж, переделанный из чердака. А еще тем, что внутри этого жилища было все, как в городской квартире, и даже ванная с туалетом.
Сам же писатель встретил гостя отнюдь не при пиджаке-галстуке, каким приходил в школу, а этаким плейбоем − в безумно дефицитных в ту пору заграничных джинсах-«варенках», такой же моднючей рубашке с карманчиками и новеньких замшевых «мокасинах». Вначале был обед, где Иван отведал настоящей красной икры и копченой колбасы, которую пробовал до этого лишь несколько раз, когда бывал в Москве у тети Наташи. Ну а за кофе писатель наконец снизошел до виршей гостя.
− Что ж, − произнес он, изучив любовные творения Шаховцева. – Способности у тебя, друг мой, есть. Но, − он насмешливо и в то же время пытливо глянул на застывшего в нервном ожидании юного автора, – скажу тебе сразу: ни Есенина, ни Рубцова, ни, на худой конец, Твардовского из тебя не выйдет. Уж извиняй – не те задатки.
Иван почувствовал, как сердце тоскливо сжалось, точь-в-точь как когда он увидел свою тайную любовь из десятого класса, обжимающуюся с каким-то верзилой.
− Нет-нет, − поспешил его утешить Веселецкий. – В компании ты, безусловно, будешь блистать, да и многих девиц своими виршами очаруешь… Но серьезным поэтом тебе не стать, уж поверь мне на слово.
− Верю… − едва сдерживая слезы, прошептал раскритикованный Иван.
− Я тебе посоветовал бы вот что, − писатель вновь пытливо взглянул на него, а затем выудил из стопки листочков тот самый, про возлюбленную в парке на лавочке. – Это ведь на самом деле было, так?
Мальчик кивнул.
− Так вот, друг мой, попробуй-ка об этом не стихотворение, а что-то типа рассказа написать. В общем, то же самое, но только прозой. Возьмешься?
Иван снова кивнул, на этот раз почти машинально.
− Ну вот и договорились, − покровительственно улыбнулся Веселецкий. – Сроку тебе две недели: второго июня я отчаливаю в Дагомыс. Постарайся хоть что-нибудь за это время накропать…
Промучившись почти целую неделю, он наконец дождался приступа вдохновения и накатал, как ему показалось, удачный любовный рассказ, списанный почти с натуры. Переписав начисто, тем же вечером помчался к кирпичному особняку писателя, уверенный, что тот обязательно восхитится творением.
Но вышло иначе. Петр Алексеевич не прочел, а пробежал две куцые странички сначала равнодушно, а после и вовсе сморщился так, будто бы вместо любовной зарисовки ему подсунули какую-то отвратительную непотребщину, из тех, что десять лет спустя начнет ваять скандальный Сорокин.
− Да, друг мой, такой белиберды я давненько не читывал, − наконец произнес писатель. – И где ты только этого нахватался: «летящая фигурка», «облако волос», которое к тому же гонится «за их обладательницей»… Ты что, этой, как ее теперь называют, попсы наслушался? Ты бы еще сюда девочку синеглазую приплел в назло надетой мини-юбке… А это уж вообще полный… − он произнес емкое непечатное слово и поднеся к глазам творение юного земляка, зачитал: – «…руки долговязого нагло пробирались по ее шее и плечам, пока не проникли под кофточку, отчего Вера ахнула и еще крепче вцепилась в шею кавалера…» Скажи мне, друг мой: ты хоть дал этой своей вещице вылежаться? Перечитывал ее на свежую голову, а?
В ответ пристыженный автор лишь едва заметно покачал головой.
− Так зачем же ты мне этот сырец тащишь? Ты, небось, все так делаешь: тяп-ляп, а дальше хоть трава не расти?
Иван молчал, чувствуя, как лицо все больше и больше заливает краска.
− Нет, друг мой, так дело не пойдет, − писатель вздохнул и сменил насмешливо-грубоватый тон на некое подобие добродушия. – К собственным текстам надо относиться бережно и аккуратно. Каждую мусоринку, каждую пылинку счищать… Ну, что приуныл? – добавил он, сочувственно разглядывая окончательно сникшего Шаховцева. – Небось, думаешь, вот, мол, индюк старый, жестоко тебя раскритиковал? Нет, друг мой, это еще даже не цветочки. Знал бы ты, как в Литинституте на семинарах студенты друг друга разносят! Трудится вот такой вот бедолага полгода, сюжет изо всех сил выписывает, каждую фразу вылизывает… А на обсуждении его же сотоварищи, с коими не один стакан выпит, налетают на него как коршуны и клюют, клюют: это, дескать, канцеляризм, а это вообще выражение избитое, и в целом весь рассказ – бред сивой кобылы… За первый год больше половины не выдерживают и сбегают. Так что, друг мой, − он неожиданно дружески потрепал мальчишку по плечу, – коли решил в литературе счастья попытать – все свои амбиции и обиды засунь в одно место и учись пахать, да перепахивать по десять раз кряду…
В тот вечер Иван уходил от Веселецкого одновременно раздавленный и окрыленный, унося в папке свой раскритикованный опус, изборожденный бесчисленными пометками, и наказ довести до ума его к сентябрю, когда Петр Алексеевич вернется в столицу из Крыма. Московский адрес писателя был записан на отдельном листочке.
С той поры почти каждый вечер Шаховцев до поздней ночи корпел над очередным творением, по десять раз переписывая каждый абзац. Готовые сочинения отсылались в Москву, откуда возвращались испещренными пометками, с обязательно прилагавшимся письмом, где Петр Алексеевич усердно разносил текст в пух и прах. Когда же юный литератор, тщательно исправив все свои недочеты и ляпы, высылал казавшийся безупречным вариант рассказа, то вновь получал в ответ массу едких замечаний. Обычно так продолжалось полгода, пока наконец после двадцатой − двадцать пятой попытки, Веселецкий не отписывал ему долгожданное: «Что ж, теперь сойдет. Как говорится, третий сорт – не брак».
Иной похвалы Иван удостаивался крайне редко.
6
Кофе оказался не из лучших, но все же куда приятнее той бурды, которую он пил с час назад в уличной забегаловке. Прикончив подряд пару чашек, Шаховцев почувствовал знакомый зуд под ложечкой и наконец достал из холодильника кастрюльку с «борщиком» Петровны. Плюхнул на плиту, повернув до упора конфорку, наблюдая, как темно-бордовая жидкость начинает медленно пениться, покрываясь белесой россыпью пузырей.
Точно так же когда-то он подогревал себе обед в институтском общежитии на Добролюбова. Только там плита была не электрической, а газовой, которую к тому же удавалось зажечь только со второго-третьего раза.
В знаменитую общагу, через которую прошло не одно поколение будущих литераторов, абитуриентов заселили сразу же по приезде в Москву накануне экзаменов. Вместе с Шаховцевым в комнате оказался шустрый подвижный питерец Влад Коротков, поступавший на отделение критики
Влад как-то сходу пришёлся Шаховцеву по душе. Компанейский и добродушный, он мог мастерски гасить все конфликты и ссоры, сводя дело к шутке. Еще одним ценным качеством соседа по комнате была способность договориться с кем угодно и, как теперь говорят, «решать вопросы». Едва заселившись на Добролюбова, Коротков сумел уломать коменданта, и тот достал откуда-то из закромов списанный холодильник, который они поставили в свою комнату. Вообще-то на этаже имелся подобный агрегат, но продукты из него постоянно тырили голодные сокурсники.
А еще Влад мастерски мог изобразить голоса, преподавателей или просто знакомых, куда лучше именитых пародистов из телевизора. Однажды, перед самой сессией, он даже позвонил преподу по русской литературе и, один в один скопировав мягкий тенорок ректора, попросил его не мурыжить первокурсников на экзамене. И тот, кстати, выполнил просьбу, отпустив весь курс с миром, без единого «хвоста».
Коротков здорово выручил приятеля и накануне вступительных экзаменов перед историей и устной литературой, где-то раздобыв распечатанные на ротапринте и порезанные на мелкие квадратики шпаргалки. Хотя, как выяснилось потом, подобные перестраховки были лишними. Всех, кто прошел творческий конкурс и был отобран руководителями семинаров (которых здесь почему-то звали мастерами), на экзаменах вытягивали. Да и главным испытанием на самом деле были не изложение и не история с русским, а маленький рассказик-этюд на заданную тему. В первую очередь тут ценились способности и талант будущих литераторов, а не знания даты восстания Разина или особенностей наречий.
На первом же семинаре, где разбирали «Дом на углу» − лучший на тот момент рассказ Шаховцева, который больше всего понравился ректору, – сотоварищи-студенты не оставили от опуса новичка камня на камне. Поначалу Ваня даже опешил: с какой язвительной дотошностью все эти старшекурсники придирались к каждому слову, к каждой фразе! А уж как прошлись по сюжету!.. Шах уже было совсем сник, когда наконец слово взял Веселецкий. Взяв со стола шаховцевский «Дом…», мастер нацепил модные в ту пору очки в тонкой металлической оправе и начал неспешно разбирать абзац за абзацем.
− Говоришь, этот кусок нужно выкинуть? – обратился он к одному из студентов, невысокому белобрысому парню, который больше всех громил рассказ новичка. – А откуда тогда мы узнаем, где и как главный герой познакомился с девушкой? Да, можно было бы и лучше ее образ подать, как, к примеру, Гончаров в «Обрыве» описал Марфиньку… Но тем не менее картинка-то получилась! А насчет того, что в рассказе слишком заметен сам автор – это ты прав. Не надо считать читателя глупцом и все ему по сто раз разжевывать…
Когда же семинар закончился и возбужденный народ, продолжая бурно спорить, устремился на волю из душной, переполненной аудитории, Веселецкий сделал знак Шаховцеву задержаться. Вместе они зашли на кафедру литературного мастерства – в две смежные комнатушки, уставленные одинаковыми шкафами, забитыми папками с творениями студентов. Мастер по-хозяйски расположился за одним из столов, пошарил в приставной тумбе и, вытащив початую бутылку «Белого аиста», щедро плеснул прямо в стоявшую сбоку кофейную чашку:
− Ну-ка, махни, друг мой! Давай-давай, − подбодрил он, видя смущение подопечного. – Приди-ка в себя, а то на тебе лица нет!
Душистый терпкий коньяк легко обжег горло, разлившись по телу приятным теплом, вытеснив противный мандраж, охвативший Ивана с самого начала семинара.
− А ты молодец, удар держишь! – неожиданно подмигнул ему Веселецкий, и на его массивном, словно вытесанном из глыбы, лице появилась улыбка, похожая на трещину в камне. – Другие в истерику впадают после таких разносов на семинаре, а ты и виду не подал!
− А это… Оно всегда так на обсуждениях?
− А как же! Сначала одного пропесочат, он, в свою очередь, обиды затаит – и потом в ответ тоже начинает разносить на чем свет стоит!
− Так это… Выходит, тут все как пауки в банке?
− Можно и так сказать. Только ведь иначе ни хрена не научишься.
− В смысле?
− А ты, друг мой, пораскинь мозгами: для чего эти семинары вообще тут нужны? Чтобы друг перед дружкой выделываться? Э нет, дудки! Да, вас на творческом конкурсе отобрали, самых способных. Но все равно все вы пока еще – заготовки и не более! Ну вроде как кусок породистой глины, из которой можно добротную вещицу вылепить, а можно и шиш с маслом. Вот потому на семинарах вас и обтесывают, заставляют видеть свои ляпы да слабые места! Кто поупорней, тот начинает работать над собой. А кто послабее – тот с дистанции сходит, и все.
− Что значит «все»?
− Вылетает из литературы, так в нее и не войдя. Естественный отбор, так сказать…
И вправду, разбор своих творений стоически выдержали немногие из новичков. Большинство ребят после первых же семинаров возвращались на Добролюбова совершенно разбитые и удрученные. Девицы рыдали, парни угрюмо глушили водку, а один из первокурсников и вовсе пытался выброситься с шестого этажа. Спас его приятель, случайно зашедший к нему в комнату и поймавший однокурсника прямо на подоконнике.
− Псих конкретный, − высказался по этому поводу Шаховцев Владу. – Как его в институт-то приняли?
− Обыкновенно, − пожал плечами рассудительный Коротков. – Тут же запрос в психдиспансер не делают, иначе бы половина сюда не попала. Творческие личности, они ведь все не от мира сего!
Людей со странностями в Литинституте и впрямь хватало. Особенно это было заметно в день стипендии, когда по меньшей мере пол-общаги напивались до потери пульса и пускались кто во что горазд.
Впрочем, большинство литинститутских ребят и девчонок были абсолютно нормальными. К тому же барышень училось здесь значительно больше, а добрая половина их потенциальных кавалеров были, как теперь говорят, «ботаниками». Само собой, при таком раскладе Шаховцев стал, как говорили в старину, первым парнем на деревне. Тем более что женским вниманием он не был обделен еще с детства, а уж в старших классах по Ивану сохла не одна красавица. И было отчего сохнуть − уже в пятнадцать он выглядел по меньше мере двадцатилетним и с лицом и фигурой юного Жан-Клода Ван Дамма – киноактера и тогдашнего кумира молодежи.
Кстати, одна из обитательниц общаги, юная цыганистая поэтесса, сходу окрестила Шаховцева на французский лад Жаном, в честь голливудской звезды. Она же первая сумела охмурить первокурсника, а затем растрезвонила по всему институту, что тезка Ван Дамма хорош и могуч не только внешне…
Понятное дело, что вскоре за Иваном начала бегать почти добрая половина однокурсниц и обитательниц общаги. Особенно любили они украдкой наблюдать, как Шаховцев вечерами таскает штангу. Он же, в свою очередь, отправляясь в спортзал, специально стаскивал майку, дабы подглядывающие за ним барышни могли насладиться созерцанием его мускулистого торса и внушительных бицепсов.
Особенно забавно было наблюдать, когда девицы начинали соперничать из-за него и выяснять отношения. Чего стоила одна история с той же поэтессой, которая, затащив Жана в койку, стала считать его своей собственностью. Девчонка была самонадеянная и глупая и уже в первый месяц их романа буквально извела кавалера ревностью. Стоило Шаху хотя бы заговорить в курилке с какой-нибудь из студенток, как тут же, откуда ни возьмись, за спиной появлялась вездесущая подруга, сверля любовника и его случайную собеседницу злыми глазами.
Поначалу это веселило Ивана, но вскоре надоело. Многие из студенток перестали заигрывать с ним и строить глазки, опасаясь крутого нрава его пассии. В конце концов, после очередной сцены, устроенной ему поэтессой, Шах бросил ее.
Поэтесса поначалу молча дулась, а когда бывший любовник спустя неполную неделю закрутил роман с другой, устроила истерику, грозилась вскрыть себе вены… До этого, слава Богу, не дошло, но впредь Шаховцев стал осмотрительней и старался не связываться с подобными неуравновешенными особами. Там паче что в Литинституте хватало девиц, предпочитающих так называемую «свободную любовь». Они не требовали от кавалера верности и, естественно, не хранили ее сами. Условие таких отношений было лишь одно – не притащить партнеру заразу.
Потому Жан выбрал себе двух подобных девчонок и ночевал попеременно то у одной, то у другой. Первую разбитную однокурсницу они делили напополам с Владом, пока тот не познакомился с Ленкой, жившей в соседнем доме с общагой, и не женился на ней в конце второго курса. Вторая же пассия Шаха была на три года старше и училась на отделении художественного перевода. У нее имелся жених-москвич из небедной семейки, которого девушка вот уже который год окучивала в надежде выскочить замуж и осесть в Первопрестольной. Ивана же она держала, как выражалась сама, «для души и тела», поскольку ее столичный избранник, опять же по собственному признанию студентки, был полным тюфяком во всех отношениях.
В конце концов ей удалось окольцевать его, и переводчица с шиком перебралась из общежития в просторную «трешку» на Ленинском. Шаховцев не раз навещал ее там в отсутствие мужа.
Однако вскоре их отношения прекратились. Когда в жизни Шаха появилась Жанка.
Впрочем, это случилось позже. А покуда Иван жил, наслаждаясь свободой, без опостылевших материнских нотаций и обязаловки являться домой не позже десяти вечера. Можно было напиться с друзьями до зеленых соплей, зная, что наутро никто не закатит ему скандал. Не возникало проблем и с ночевкой вне общежития. Хотя куролесить с девушками было удобнее как раз на Добролюбова. Между его обитателями существовала негласная договоренность: если влюбленная парочка собиралась уединиться на ночь, кто-то обязательно предоставлял им свою комнату, перебираясь до утра к соседям.
И, конечно же, самым главным было то, что теперь Иван жил в Москве, с которой не шел ни в какое сравнение захолустный Куранск. Здесь была совсем другая жизнь, манившая огнями ночных клубов и ресторанов, роскошным блеском витрин, мерцающими сполохами реклам.
Но со временем Шаховцев вновь стал ощущать себя не в своей тарелке. Он по-прежнему чувствовал себя человеком второго сорта. Подобное Иван впервые испытал на втором месяце жизни в Первопрестольной, когда оказался дома у одного из сокурсников. Квартира, где жил новый знакомец, выглядела просто дворцом по сравнению с материнской убогой халупой. Это потом, пообвыкнувшись в Москве и побывав в других домах, Шах понял, что хата приятеля была стандартной «двушкой» в обычном, далеко не престижном доме… Но тогда аж сердце заныло от того, что у его ровесника есть своя, отдельная комната! И еще от того, что после занятий тот едет не в общагу, с общим душем и туалетом, а сюда, в домашний уют, к вкусным маминым обедам и ужинам. И поневоле становилось обидно оттого, что ему, Ивану, подсуропило родиться не здесь, а в каком-то занюханном городишке!
Еще одним обстоятельством, отравлявшим жизнь, была постоянная нехватка денег. Первый год они с Владом как-то перебивались. Ленка, невеста приятеля, оказалась барышней неизбалованной и не требовала от любимого ни дорогих подарков, ни тому подобного. А потом у приятелей неожиданно появился собственный бизнес.
Все началось с того, что Иван, получив очередные деньги от матери, решил съездить на какой-нибудь из вещевых рынков и купить себе новые джинсы. Сосед по комнате, узнав об этом, сообщил, что самые дешевые цены (вообще это грубая речевая ошибка, тем более тут не прямая речь, цены бывают только низкими) сейчас на Покровском, и вызвался составить компанию.
Коротков не только сопроводил друга на рынок, но и своим наметанным взглядом мигом определил явную туфту, которую пытались впаривать покупателям жуликоватые торговцы. А потом, пройдясь вдоль рядов, отыскал довольно качественные и вполне приемлемые по деньгам штаны. Мало того, Влад умудрился уговорить продавца уступить чуть ли не четверть от первоначальной суммы, обозначенной на самодельном ценнике.
Всю обратную дорогу Ивана буквально распирало от счастья, а вот однокашник, напротив, был задумчив и озабочен.
− Ты чего? – спросил его Шах. – Проблемы, что ль, какие?
− Да как тебе сказать, − отозвался Коротков. – Просто я тут прошелся по рядам – и вот что заметил: никто звенигородскими носками не торгует.
− А на кой тебе они сдались? Другие, что ли, нельзя купить?
− Да я не об этом. Просто на тамошней фабрике их шьют больно хорошо и из ткани классной – носить не сносить. Плюс стоят они копейки. Причем не где-нибудь, а в универмаге. Представляешь, какая на них отпускная цена на производстве?
− Ну представляю… И что?
− А то, что если начать их там закупать, а на Покровке сбывать – представляешь, какой навар можно с этого поиметь?
− Хрен его знает… − пожал плечами Иван.
− А я уже прикинул: в два раза как минимум. И пойдут они хорошо. Носки не дубленки, они каждому по карману…
Загоревшись этой идеей, Влад буквально на следующий же день смотался в Звенигород и вернулся оттуда сам не свой от счастья: товар на фабрике продавался просто за смешные деньги, а кроме того, тем, кто брал большие партии, полагалась солидная скидка. А вдобавок ко всему Коротков выяснил, что не обязательно арендовать дорогой прилавок или ларек внутри рынка. Можно запросто торговать снаружи и платить за место пусть неофициально, но в несколько раз меньше.
На том и порешили. Правда, поначалу возникла проблема: как быть с институтом? Но тут приятелей выручила коротковская невеста. В НИИ, где Ленка трудилась лаборанткой, случилось очередное сокращение, сотрудников отправили в бессрочный отпуск за свой счет, и девушка сама напросилась помочь возлюбленному и его компаньону.
Дело пошло сходу. Мало кто проходил мимо юной приветливой продавщицы, а узнав цену за носки, народ сразу же доставал кошельки. Иван и Влад только и успевали мотаться в Звенигород за очередной партией товара.
За какие-то семь месяцев они солидно поднялись по деньгам, приоделись в дорогие импортные шмотки. Вдобавок Иван смог купить себе пусть подержанный, но компьютер-«тройку», безумную роскошь по тем временам, а приятель с подругой и вовсе обзавелись стареньким, но исправным «жигуленком». Правда, в институте друзья появлялись все реже и реже, особенно когда перешли на второй курс. Если Влад еще как-то старался по возможности вырваться на лекции или договориться, чтобы его отметил кто-то из группы, то Шах даже не удосуживался доехать до родного вуза.
Расплата наступила к весне. В один из дней Ивана вызвала замдекана, прозванная Железной Светой за болезненную принципиальность и суровый нрав. Она предъявила ему полный счет за все прогулы, заявив, что он будет отчислен. Ошеломленный Шаховцев пытался что-то бормотать в оправдание и даже обещал задним числом оформить у врача справку. В конце концов, решив, что его дело труба, он признался в том, что подрабатывает на рынке.
Как ни странно, узнав правду, замдекана неожиданно сменила гнев на милость.
− Это другое дело, − понимающе произнесла она. – Правильно, надо самому на ноги становиться, а не сидеть на шее у матери. А то, понимаешь, устроились некоторые тут на халяву, да еще плачутся: стипендия маленькая, денег не хватает… А на самих пахать можно!
− Да, это не дело… − осторожно согласился Шаховцев.
− Вот и я о том говорю. Мужик должен самостоятельным быть, а не маменькиным сынком… Эх, была бы моя воля – отчислила бы отсюда половину. Ничего из себя не представляют, а гонору, словно каждый – Достоевский, или Чехов, на худой конец… А вот у тебя и в самом деле способности есть. Твой «Дом на углу» я как взялась читать, так оторваться не могла. Даже всплакнула, когда в конце парень девушку обманывает и бросает…
Иван оторопело смотрел на замдекана. Как и все, он был уверен, что ее не интересует ничего, кроме студенческой успеваемости и посещаемости лекций. А тут – на тебе…
− Чего? Думал, небось, что Светлане Викторовне вы все по барабану, лишь бы занятия не прогуливали? – губы Железной Светы тронула какая-то совсем добродушная, почти дружеская улыбка. − Ошибаешься. Я на кафедре творчества постоянно ваши папки просматриваю и в курсе, кто чего стоит. Если бы ты и вправду был как все эти графоманы, я бы с тобой сейчас не миндальничала.
«Кажись, пронесло…» − с облегчением подумал Шаховцев.
− А что касается твоих пропусков, то давай решим по-честному, − замдекана испытующе посмотрела на него. – К тебе, в принципе, со стороны преподавателей особых претензий нет. Разве что по зарубежной литературе да по истории… Ну тут я договорюсь. А ты, уж будь так добр, напиши заявление о переводе.
− В смысле это куда?
− На заочное отделение. Как раз за второй курс сессию сдашь и с третьего переведешься…
Шах тут же написал заявление и был отпущен с миром. Вот только ближе к сессии ему неожиданно пришла депеша из военкомата: очевидно, между районным комиссариатом и институтом имелась договоренность, и начальство Лита мгновенно сообщало военным о каждом студенте, лишившемся права на отсрочку…
Повестку прислали не по почте, а принесли прямо в общежитие немолодой прапорщик на пару с участковым. Вручили под роспись, заодно предупредив, какие неприятности ждут Шаховцева, если тот в означенный день не явится куда положено.
Пришлось собираться и идти отдавать ратный долг. А куда было деваться?
7
«Да-а, а кто знает, как всё сложилось, если бы я остался на дневном? – Шаховцев отхлебнул остывающий пресный чай и усмехнулся. – Так бы и прозябал в нищете на степуху (а не «стИпуху»? Ведь «стИпендия»). А «срочка»5 ведь по правде во многом на пользу пошла. Тем более, что было там кому меня опекать…»
…Едва прибыв со сборного пункта в часть, Иван сразу же ощутил, что попал сюда неслучайно. Впервые подобная мысль зародилась у него после разговора в каптерке с Пригариным. Потом − за несколько дней до присяги, когда неожиданно заметил, как их «карантинный» взводный что-то говорит зашедшему в расположение незнакомому, кавказистого вида прапорщику. Судя по тому, как они оба смотрели на Шаха, разговор шел о нем.
В другой раз они встретились в роте, куда его и еще десяток молодых бойцов распределили после КМБ. Пополнение встречал тот самый чернявый прапорщик по фамилии Костоев. Выстроив новоприбывших, он неспешно произвел перекличку. Когда очередь дошла до Шаховцева, старшина задержал на нем взгляд чуть дольше, чем на остальных…
Впрочем, кроме этого момента Иван бы не сказал, что удостаивался какого-то особого внимания Костоева. Прапорщика одинаково заботили все солдаты, поскольку он по сути и командовал ротой. Из троих взводных в наличие был только один: остальные, едва прибыв в часть после училища, сразу же накатали рапорта об увольнении и на службе не появлялись. Ротный же с заместителем сторожили какой-то круглосуточный магазин и ходили вечно квелые.
Исправно нес службу только холостой бездетный старшина, живший прямо в роте, в отгороженном ширмой углу каптерки. Он же составлял наряды на службу и маршруты патрулирования, вел занятия, контролировал подъем и вечернюю поверку. А кроме того, знал по имени и фамилии каждого из почти сотни бойцов, помнил, кто откуда родом и даже когда у чьей матери и отца день рождения. Причем зачастую сам напоминал об этом забывчивому чаду и лично вел его на переговорный пункт, дабы тот поздравил родителя. Помнится, один из бойцов, вернувшись с почты, куда ходил с Костоевым, с восторгом рассказывал:
− Прикинь, пацаны − я только-только батю поздравил, так старшина у меня трубку забрал, и говорит моему пахану: мол, так и так, спасибо вам, Павел Тимофеевич, за сына. Достойного вы солдата воспитали…
Понятное дело, прапорщик был у солдат куда в большем авторитете, нежели офицеры. И не только потому, что дневал и ночевал в казарме. Что ротный, что его зам, не говоря уже о взводном-первогодке, были немногим старше своих подчиненных-срочников и опыта имели мало. Старшина же, прежде чем попасть сюда, отслужил десять лет в спецназе, воевал в Карабахе и Чечне, имел орден Мужества, а самое главное – краповый берет. Таковых во всей дивизии насчитывалось от силы два-три человека.
А еще прапорщика уважали за то, что тот хоть был и строг, но не лютовал, без нужды не гоняя подчиненных. Сам отслуживший два года срочной, он никогда не перегибал палку, умел понять солдата, когда надо – приструнить, а когда наоборот – чуть ослабить вожжи.
Однажды к Шаховцеву приехали Коротков с Ленкой. Иван подошел к старшине отпроситься на часок, дабы поболтать с друзьями в комнате посетителей. Прапорщик вызвался проводить его. А на КПП, бросив беглый взгляд на Влада и его супругу, неожиданно отпустил Шаха к ним в гости до вечера.
Учтивый Коротков попытался было всучить Костоеву бутылку коньяка, но тот наотрез отказался.
− Мы же от души, товарищ прапорщик… − начал было бывший однокурсник, но старшина вновь решительно покачал головой:
− Не надо, я сказал. Вы лучше ему дома рюмку налейте, только чуть-чуть, чтобы он нормальный в часть вернулся.
Но даже после этого Иван не был до конца уверен, что прапорщик относится к нему как-то иначе, чем ко всем остальным. Костоев так же отпускал за пределы части и других солдат, порой неофициально, под свою ответственность. Хотя Шаховцев чувствовал, что старшина все-таки выделяет его из общей массы.
Но домыслы есть домыслы. Правда открылась лишь спустя восемь месяцев.
В тот февральский вечер бойцы, как обычно, вернулись с ППС. После построения Шаховцев хотел было сбегать до отбоя к Пригарину, попавшему после сержантской учебки в соседнюю роту, но на пороге его окликнул дежурный:
− Шах! А ну давай бегом к старшине!
Досадливо ругнувшись про себя, Иван без особой охоты побрел к каптерке. Постучал, приоткрыл дверь, привычно козырнул:
− Разрешите, товарищ прапорщик?
− Вообще-то здесь офицер находится, − ворчливо отозвался из полумрака Костоев. – Так что разрешения надо не у меня спрашивать, а у товарища старшего лейтенанта!
− Ладно, Руслан, я ведь тоже не так уж давно в прапорщиках ходил, − раздался из глубины помещения знакомый голос.
Из-за стола поднялась плечистая фигура в камуфляже. Офицер шагнул навстречу, повернувшись лицом к свету, и Шаховцев узнал в нем крестного.
− Ну, здорово, что ли?
Они обнялись. В полутьме Иван не смог как следует рассмотреть Игнатова, но заметил, как тот чем-то неуловимо изменился. В вечно стремительном, порывистом Пашке появилось какое-то едва ощутимое умиротворение. А после, приглядевшись, Шаховцев заметил новенькое обручальное кольцо на пальце восприемника.
− Ну что, так я забираю его? – тем временем обратился крестный к Костоеву.
− Естественно. Какой разговор!
− До воскресенья или, может, нам пораньше вернуться?
− Я же сказал: как договаривались. Послезавтра привезешь.
− Что ж, спасибо, командир! – произнес Игнатов с каким-то странным почтением, словно это не он, а Костоев был старше по чину.
− Не за что! − отмахнулся старшина и следом с напускной суровостью бросил Шаховцеву: – Ну, чего встал? На выход шагом марш!
Пока они шли по коридору к выходу, вся рота с откровенной завистью провожала сослуживца, идущего рядом с незнакомым офицером-спецназовцем в краповом берете.
Костоев проводил их за КПП и, обнявшись на прощание с Пашкой, повернул обратно.
− Ну что, сидай, − приглашающе кивнул крестнику Игнатов, отпирая дверцу припаркованной возле части «волги»-пикапа. Машина на вид была старой и весьма потрепанной, но когда крестный завел ее, стало ясно, что двигатель недавно капитально перебирали и он исправно прослужит еще лет пять.
– Твоя? – спросил Шах, постучав по приборной доске.
– Моя. Полгода назад купил, а до ума довел только-только. Четыре месяца из-под нее не вылезал, зато сейчас – сам видишь.
– Вижу, – кивнул крестник и, опомнившись, удивленно спросил: – Кстати, а откуда ты нашего старшину знаешь?
− Руслана? Он у нас в роте инструктором по спецподготовке был, когда я был еще таким, как ты, салабоном.
− Так он твой бывший командир?
− Ага. И им для меня останется по гроб жизни.
Проскочив перекресток, Игнатов вырулил на Дмитровку и погнал в сторону центра.
− Мы куда сейчас? – непонимающе спросил Иван, думавший, что они двинут в бригаду, где служил Пашка.
− Ко мне домой.
− Это в Софрино, что ли? А почему мы не на МКАД едем? Там же ближе всего на Ярославку выскочить.
− Нет, я там уже не служу. Я с лета здесь, в Москве. И обитаю теперь тоже тут.
− В общаге?
− Зачем? В отдельной квартире. Четырехкомнатной, притом.
− Откуда она у тебя? – вытаращил глаза Иван.
− В приданое досталась, − подмигнул в ответ крестный.
− Ах, да… − Шах вновь покосился на золотой ободок, блестевший на безымянном пальце восприемника. – Я вижу, ты женился?
− Угадал. В сентябре.
− Однако везучий ты, Пашка! – завистливо протянул крестник. – Москвичку себе отхватил, да еще с такой суперской хатой! Вы что, в этих хоромах вдвоем живете?
− Ну, это уж ты хватил! Что мы с Верой, единоличники, что ли? У нас семейство ого-го!
«Суперская хата» оказалась в Марьино, на четвертом этаже типовой шестнадцатиэтажной новостройки. Едва они с Пашкой ступили в прихожую, как встречать их высыпала вся семья.
− Ну что, знакомься, Иван Сергеич: это Вера, супруга моя, – представил Игнатов совсем юную светловолосую девушку, которую Шах запросто бы принял за школьницу, если бы не обручальное кольцо и уже очевидный наметившийся живот.
«Ну, Седой! Уже и киндера успел заделать!» − только и подумал Шаховцев.
− А это Любовь Петровна, ее матушка.
Теща крестного оказалась невысокой начавшей седеть женщиной с простодушным округлым лицом.
− Николай Матвеевич, мой тесть, − Шах обменялся рукопожатием с болезненно-худым мужчиной, чем-то напоминавшего дореволюционного сельского учителя.
− Катя, − темноволосая девушка лет шестнадцати сдержанно поклонилась Ивану, улыбнувшись просто и светло.
− Наша средняя сестрица, − добавил Пашка таким тоном, словно барышня приходилась сестрой ему, а не жене. – Ну, а это младшая, Даша, − добавил он, указывая на не замеченную Шаховцевым в первый момент худенькую голенастую девочку лет восьми-девяти с длинными тонкими косичками, увенчанными тяжелыми бантами. Та в ответ тихо произнесла «Здравствуйте» и вновь замолчала, разглядывая гостя.
− Ну чего ты стесняешься? Разоблачайся давай, − восприемник хлопнул его по плечу.
Иван вдруг испытал неловкость, представив, как начнет стаскивать с себя берцы, являя на всеобщее обозрение несвежие носки, снимать бушлат, под которым надета мятая залоснившаяся «пэпээска»…
На выручку неожиданно пришла Пашкина теща.
− Так, ну чего столпились? Человеку не развернуться! – ласково пристыдила она домочадцев. – Давайте стол пока накроем. Вера, Катя, Даша, пошли! – Любовь Петровна двинулась в сторону кухни, увлекая за собой дочерей.
Оказавшись один, Шах спешно скинул бушлат, стянул ботинки, запихав внутрь носки, нырнул в мягкие домашние шлепанцы. Тотчас же рядом возник крестный с объемным полиэтиленовым пакетом:
− Держи и дуй в ванную. Сполоснешься, пока мои на стол соберут…
В пакете оказались большое банное полотенце, смена белья, нераспечатанная импортная футболка, совершенно новый адидасовский костюм, бритвенный станок, зубная щетка.
Он с наслаждением мылся под душем, тщательно соскребая мочалкой грязь, пот и въевшийся в тело кислый казарменный запах. Натирал голову душистым шампунем, елозил щеткой во рту, словно хотел стереть зубы до корней… Постепенно преображался из замученного службой солдата в обычного двадцатилетнего парня.
Когда же распаренный, в модном «Адидасе», оказавшемся на удивление впору, Иван появился на кухне, его взору предстал обильно накрытый стол. Посередине исходила паром свежеотваренная, пересыпанная зеленью молодая картошка. Рядом дымился, источая пряный запах, небольшой чугунный казан с тушеной телятиной. На тарелках были разложены сыр, колбаса, окорок, а кроме того – бутерброды с дорогущей в ту пору красной икрой.
− Присаживайся давай, − скомандовал крестный, одновременно доставая из холодильника запотевший графинчик, в котором плавали дольки лимона.
Шах вдруг заметил, что на столе стоит всего пара тарелок и рюмок и за стол, кроме него, усаживается лишь Игнатов.
− Мы уже поужинали, − заметив недоуменный взгляд гостя, произнесла Пашкина жена.
− В общем, кушайте с Богом, − добавила теща, и следом все покинули кухню.
− Ну чего, со свиданьицем? – восприемник наполнил пузатые хрустальные стопки.
Водка несильно обожгла желудок, и без того мучительное чувство голода стало уж совсем невыносимым. Иван с остервенением впился зубами в толстый кусок мяса и, почти не разжевывая, проглотил. В два приема расправился с салатом, запихнул в рот несколько ломтей буженины, опрокинул вдогонку большой, в четверть литра, стакан клубничного морса. Игнатов добродушно наблюдал за ним, лениво цепляя на вилку маринованный гриб.
− Ну как, заморил червячка? – подмигнул он крестнику. – Ешь-ешь, сколько влезет. Специально для тебя весь день готовили.
− Однако… − только и протянул тот, изумившись по себя: чего это вдруг родня Пашкиной жены так расстаралась ради какого-то постороннего человека? Да еще деликатно убралась с кухни, чтобы не смущать голодного, истосковавшегося по домашней еде солдата?
− Ну чего, еще по чуть-чуть? – Седой вновь наполнил стопки.
В дверях кухни неслышно появилась Вера. Тихо, стараясь не мешать, убрала лишнюю посуду в раковину. Подошла к столу, положив ладонь на грубоватую пятерню мужа. Посмотрела на него с нежностью и какой-то безмолвной ненавязчивой просьбой.
− Я помню, − кивнул в ответ Пашка. – Мне завтра с утра за руль. И что Ваньку может с устатку развезти больше чем надо… Короче, все под контролем. Вопросы есть?
− Никак нет, товарищ старший лейтенант, − шутливо, в тон мужу, по-военному откликнулась Вера. – Спокойной ночи, − улыбнулась она Ивану и так же неслышно исчезла.
Они с Пашкой опрокинули еще по паре стопок, отчего глаза начали неумолимо слипаться, а тело налилось приятной тяжестью. Потом Игнатов отвел крестника в одну из комнат, где уже белел пахнущими свежестью простынями разложенный диван. Лишь только Иван коснулся лицом подушки, как тут же провалился в сон.
…Когда же он открыл глаза, за окном уже сияло солнце, а старинные часы на секретере показывали полдень. Комната, где находился Шах, по виду была гостиной. В углу, у окна, золотился резными окладами солидный иконостас из множества образов. Внизу крепилась полочка с рубиновой, мерцающей огоньком лампадкой.
Выбравшись из-под одеяла, он натянул спортивный костюм и вышел в коридор. В квартире стояла тишина. Лишь на кухне едва слышно потрескивал радиоприемник.
Шаховцев прошелся по дому, с любопытством заглядывая в каждую комнату. Почти везде висели иконы, тлели зажженные лампадки. Тут же на стенах крепились полочки, на которых теснились Евангелие, молитвословы, жития святых. В угловой комнатушке, где, судя по всему, обитали Катя и Даша, над столом, в рамке, алела причудливыми буквицами молитва Оптинских старцев – точно такая же, как и в деревне у бабушки.
«А семейка-то тут, оказывается, религиозная! Причем конкретно!» − со снисходительной насмешкой подумал Шах.
Дом и впрямь напоминал то ли церковную лавку, то ли монашескую келью, где живут тихие, смиренные богомольцы. Из общей картины выпадали лишь железная шведская стенка в коридоре, мощный, сваренный из толстых труб турник и подвешенный там же тяжелый боксерский мешок. Внизу, у самодельной спортивной скамьи, громоздилась штанга и несколько сборных гантелей.
«И вломился Седой в смиренную обитель, словно слон в посудную лавку! − неожиданно родилось в голове Шаховцева. – Да, неплохо сочинил. Веселецкому бы точно понравилось!»
Раздумья прервал заскрежетавший замок в прихожей.
− Ой, вы уже проснулись? Давно? – раскрасневшаяся с мороза Катя виновато уставилась на Ивана.
− Нет-нет, минут пять назад… − пробормотал Шах, испытав странное волнение от ее мягкого, с извиняющимися нотками голоса и чистого, проникновенного взгляда. – Я даже не умылся еще…
− Слава Богу! Что ж, идите, а я пока завтрак подогрею, − Пашкина свояченица спешно скинула пальто, разулась и поспешила на кухню.
В ванной Шаховцев тщательно соскреб едва отросшую за ночь щетину, спрыснулся одеколоном. Подумал, стащил с себя олимпийку, оставшись в обтягивающей мускулистый торс футболке.
На кухне уже дымилась в тарелке яичница с ветчиной, желтели вчерашние маринованные грузди, розовела аккуратно нарезанная буженина. Лишь только Иван присел за стол, девушка тут же засуетилась вокруг него:
− Вы кефир будете? Нет? А мяса погреть? Вам чай заварить или кофе?
− Да… Чай, если можно… − Шаха смущала такая забота и одновременно льстила ему.
Поглощая завтрак, он осторожно рассматривал сестру Веры. Девушка была одета просто, без всяких модных изысков: шерстяная, под горло, блузка, длинная, из плотной ткани, юбка. Густые каштановые волосы были заплетены в красивую толстую косу. На тонких пальцах не было ни маникюра, ни каких-то других украшений, кроме простенького серебряного колечка, на котором причудливыми старинными буквами было начертано: «Спаси и Сохрани».
Но больше всего Шаховцева волновали глаза Кати – большие и бездонные. Казалось, из их глубины сходит какой-то необычайный свет, от которого уютно теплело в груди. И почему-то по сравнению с этим юным созданием блекли все прежние знакомые девицы.
− Наелись? – голос девушки заставил его очнуться.
− Да-да… Спасибо…
− Слава Богу. А то я, пока домой ехала, все боялась, что вы давно проснулись и сидите тут голодный…
− Нет, все нормально… − смущенно повторил он. – Кстати, а где все остальные? Ну Пашка, Вера…
− Паша Веру к врачу в консультацию повез. Даша в школе, а мама с папой в храме. Я и сама оттуда, просто чуть раньше со спевки ушла.
− С чего?
− Со спевки. Я же там в хоре пою вместе с Верой. А мама регент у нас.
− Понятно… − пряча усмешку, кивнул Шах.
«Не семья, а прямо монастырь какой-то!»
Он вновь начал прихлебывать чай, не зная, как продолжить разговор. Некоторое время на кухне царило молчание. Катя дорезала остатки яблочного пирога, искоса бросая взгляды куда-то на грудь гостя. Заметив это, он незаметно вдохнул, напружинив мышцы, давая девушке полюбоваться, оценить его стать и мощь.
− Иван, можно у вас спросить? − наконец решилась она.
− Конечно! Любой вопрос! – широко и даже покровительственно улыбнулся он, уверенный, что собеседницу интересует, где и как он накачал такую мускулатуру.
− Скажите… − Катя вновь немного замешкалась. – А вы что, крест не носите?
− Крест?.. – опешив, переспросил он.
− Ну да, нательный крестик. Вы же крещеный…
− Да знаете… − окончательно смешался Шах. – Как-то не привык. Крестильный у бабки в деревне остался, а больше вроде нет…
− Жаль… − девушка заметно погрустнела.
− Да просто как-то руки не доходили… – неожиданно для самого себя начал оправдываться он.
− Ничего. Я сегодня в храме специально для вас купила. Вчера еще заметила, что на вас его нет, и на всякий случай…
− Спасибо… − окончательно сбитый с толку, пробормотал Иван.
− Значит, возьмете?
− Что? Ах да, конечно…
Девушка буквально просияла и поспешила в прихожую. Вернулась, подавая гостю красивый серебряный крестик на крепком плетеном шнурке.
− Спасибо… − повторил он, надевая на шею подарок. – Мне даже неудобно… Вы вроде как потратились…
− Ерунда… − улыбнулась она. – Нам как раз вчера в училище стипендию дали.
− А где вы учитесь?
− В Свято-Димитриевском.
− Где?
− В Свято-Димитриевском училище сестер милосердия.
В этот момент в прихожей заскрежетал замок, и квартира тотчас же наполнилась возгласами Пашки:
− Так! Сколько у нас там натикало? Зашибись! Как раз к приходу бати с матушкой обед сготовить успеем!
Он проявился в дверях радостно-возбужденный и сияющий. Следом на кухню вошла улыбающаяся Вера.
− Угу, − кивнула она на немой вопрос сестры. – Он самый.
− Мальчик? – радостно переспросила та.
− Да. Не видишь, что ли? – она кивнула на ликующего мужа.
− Вере сегодня ультразвук делали, − пояснила Катя ничего не понимающему Шаховцеву. – Определили, что мальчик будет!
− Наследник! – радостно добавил Пашка. – Короче, в мае счет будет три-четыре.
– Точнее, четыре-три в пользу Кропочевых, – шутливо поддела его Катя.
– Это пока, – отпарировал крестный. – Даст Бог, со временем Игнатовы захватят первенство в доме сем!
– Дай Бог, – не стала спорить свояченица.
После обеда, необыкновенно вкусного и душевного, Иван с крестным выбрались покурить на лоджию.
– А вы в какую церковь ходите? Вон в ту? – поинтересовался Шах, кивнув на блестевший куполами большой пятиглавый храм через дорогу.
− Нет, наша церковь аж за кольцевой, в Свирелино. Туда надо на пригородном автобусе минут сорок ехать…
− А зачем в такую даль то?
− Потому что это наш храм, − восприемник намеренно сделал упор на предпоследнем слове. – Тем более что там я Веру встретил.
– А попал туда каким макаром?
– А таким. В девяносто пятом, когда мы из Грозного прилетели, поехал я в госпиталь бойца своего навестить. Крепко его тогда зацепило. Сначала, когда во Владикавказе его выхаживали, вроде ожил. А потом, когда в Реутово переправили, то опять хуже стало. Сколько наши войсковые доктора ни бились – без толку. А пацан этот сам местный, с Подмосковья был. Вот за день до смерти ему мать священника привезла, у которого они всей семьей окормлялись. Он его соборовал, исповедовал, причастил. А ночью тот солдат умер.
Седой замолчал, добивая сигарету резкими длинными затяжками. Выщелкнул далеко вниз, проследив, как окурок ударился о крышу подъезда, брызнув колючими искрами.
− Потом мы с батюшкой разговорились. Он все расспрашивал про тот бой, где этого парня зацепило. Оказывается, пацан у него сызмальства в храме окормлялся. То-то я все удивлялся: теперешние москвичи в основном от армии косят вовсю, а этот не только не бегал от военкомата, но и в спецроту сам напросился. И, когда в Чечню нас отправляли, ему сам ротный предложил остаться: как-никак единственный сын у матери… Так нет, аж обиделся: дескать, ребята на войну полетят, а я тут буду в наряде прохлаждаться? Нет уж! Мы тогда все с него обалдели, а ротный парня так и прозвал – Уникум. Только в последний день, когда он уже душу Богу отдавал, понятно все стало – он, оказывается, наш, православный…
− А что, разве у верующих положено в армии служить? – скрывая усмешку, поинтересовался Иван.
− А что, нет, что ли?
− Ну, насчет мусульман там или буддистов не скажу, а у христиан точно нельзя. Ни оружия в руки брать, ни государству служить, поскольку все правительства – от дьявола!
− Это откуда ты эту бредятину взял? – в свою очередь вытаращился на него крестный.
− Так у нас, в Лите, в общаге один такой религиозный жил. Все звал Библию изучать, типа, приобщаться к истинному христианству. И журналы разные подсовывал, где про это все говорилось. Я как-то от нечего делать полистал, так там вроде специально древние письмена исследовали и выяснили, что Христа оказывается, не на кресте распяли, а к столбу прибили. Просто на древнееврейском слово «столб» звучало как «крест».
− Этот твой придурок никакой не христианин, а иеговист! – Игнатов приглушенно выругался. – Сектант, короче. Ты, брат, держался бы от таких подальше!
− Да я с ним и не связывался, нужен он мне!
− А журнальчики да книжонки его все-таки почитывал! И ереси оттуда поднабрался!
− Не набирался я ничего, просто запомнилась эта лабуда…
− Вот именно что лабуда! Верно говорят: чем меньше мозг, тем больше дури туда вмещается… Ты, видно, совсем забыл, как мы с тобой в деревне Евангелие читали и что там написано было. И проповеди батюшкины тоже позабыл.
− Есть такое дело, − нарочито виновато согласился Шах и, желая соскользнуть с неприятной темы, спросил вроде как с интересом: − Ты, кстати, так и не дорассказал про свой храм…
− А чего там дорассказывать… Когда того парнишку хоронили, отпевали в той самой церкви, в Свирелино. Маленькая такая церквушка, сельская, меньше нашей в Войновке. Я как зашел туда, так сразу такую благодать ощутил!.. А еще там народ оказался – не то что в городских храмах… Короче, там, у отца Александра, все друг друга знают, весь приход как одна семья. Все, кто в то утро на заупокойной был, молились за нашего бойца, как за родного. А потом сами в трапезной поминальный стол накрыли и нас приветили, будто мы им самые близкие люди. А на прощание батюшка пригласил нас, если будет время и желание, приезжать к ним в храм. Ну, в следующий выходной я и приехал. И остался там по сей день. И, как видишь, семью там обрел.
− Кстати, а что это с твоим тестем? – чуть помолчав, поинтересовался Иван. – Вид у него какой-то нездоровый…
− Рак, − вздохнул Пашка. – Когда у него эту гадость обнаружили, врачи сказали, что от силы год-полтора проживет, а он уж пятый год держится.
− Как это так? Опухоль, что ли, рассосалась?
− Не рассосалась, конечно. Просто прогрессировать перестала, вроде как затаилась. Батюшка наш за него молится. Наверно, по его молитвам и отступила костлявая…
− Крутой у вас, видно, батюшка, − изумленно протянул Иван. – Я тоже слышал, что некоторые попы и людей излечивали, и даже сумасшедшие нормальными становились…
− Не попы, а Господь Бог по их молитвам, − сердито поправил его Игнатов. Очевидно, развязное выражение «попы» сильно задело его. – А батюшка у нас и вправду, как ты говоришь, крутой. Кстати, если хочешь, поехали с нами завтра на литургию, заодно и познакомишься с ним.
− Можно, − согласился Шаховцев.
…Но назавтра попасть в храм не получилось. За ужином, пытаясь не отставать от крестного, он умудрился перебрать водки, да так, что уснул прямо за столом, и Пашка буквально отволок его спать. Утром, терзаясь похмельной сухостью во рту, он слышал сквозь мутную полудрему, как Кропочевы-Игнатовы собирались в церковь, и Любовь Петровна наказывала дочерям оставить банку с рассолом на кухне, чтобы гость мог прийти в себя. А Иван, лежа в кровати, ощутил жгучий стыд перед восприемником и его домашними.
Но когда к часу Пашкино семейство вернулось из церкви, никто из них даже косо не посмотрел в сторону Шаховцева, а, наоборот, быстренько накормив гостя обедом, женщины бросились стряпать, чтобы собрать ему с собой еды. Любовь Петровна принялась месить тесто для пирогов, а Вера с Катей взялись вертеть фарш для котлет. Даже девятилетняя Даша – и та усердно разминала в молоке мякиши белого хлеба и старательно чистила лук, пока у нее не покраснели не только глаза, но и все лицо и она не начала часто хлюпать носом, словно в одночасье загрипповала.
− Это что, все мне?! – удивился Иван, когда ему на прощание вручили два огромных пакета с гостинцами.
− Конечно, − ответила Любовь Петровна.
− Да я ж столько не съем!
− Так не тебе одному. Поделишься с другими у себя в роте. Они, поди, тоже по домашней пище истосковались.
…В роте, куда он явился с двумя здоровенными сумками еды, пацаны аж ахнули от изумления. А в довершение всего старшина позволил после ужина до отбоя устроить личному составу чаепитие и даже сам пожертвовал из своей заначки пару коробок «Липтона».
А уж Ромка Пригарин, которого он встретил, топая от КПП к казарме, даже присвистнул, увидев приятеля, тащившего столько аппетитной поклажи:
− Ты чего, Вано, никак фабрику-кухню грабанул?
− Ага, − довольно кивнул в ответ Иван. – Только не фабрику, а просто кухню. И не грабанул, а сами всучили…
8
Воспоминание о Пригарине отозвалось в груди болезненным чувством запоздалой вины. В тот вечер, принимая возле казармы от приятеля сверток с домашними вкусностями, Ромка не догадывался о том, что Шах вот уже месяц ведет с ним двойную игру… Нет, не догадывался, а лишь изумленно рассматривал гостинцы Кропочевых.
− Так кем они тебе приходятся? – в который раз спрашивал он.
− Я же говорил: родня жены моего крестного.
− А крестный тебе кто? Брат или дядька?
− Нет, просто сосед по деревне.
− Тогда ни фига не понял: с какой радости они ради тебя так расщедрились? Им чего, деньги девать некуда? Они чего, типа это, новые русские?
− Какой там! Пашкины тесть с тещей в церкви работают за гроши, жена его в детском саду воспиталкой, а сам он, ну крестный, тут в Москве служит.
− Не генералом часом?
− Не, старлеем. В спецназе.
− Да-а, − обескуражено протянул Ромка. – Бывают люди не от мира сего… Мало того, что дочь отдали за немосквича, да еще за нищего вояку. Хата-то у них хоть нормальная? В престижном районе?
− В Марьино. Четырехкомнатная, в новом доме.
− Да-а, райончик, конечно, отстойный, но хоть квартирка для четверых нормальная.
− На шестерых. Точнее, уже почти на семерых.
− Это как?
− Там кроме жены родоков еще две ее младшие сестры. Ну и у Пашки с Веркой тоже скоро свой спиногрыз родится.
− Да, не фонтан. А крестный твой, небось, специально киндера ей заделал, чтобы окрутить, да?
− Нет. Они до этого поженились. Это уж потом.
− Совсем чокнутые, − подытожил Пригарин. – На фиг вообще эти киндеры нужны? Тут для себя хрен поживешь… Хотя, ты говоришь, они религиозные?
− Ага.
− Тогда все ясно. Это не лечится. Ну ладно, бывай, а то меня в роте уже заждались… Ты, кстати, заходи после отбоя, − бросил он напоследок приятелю. −Мы сегодня на службе у одного бобра «Бренди» отжали. Как раз твой закусон кстати будет…
Больше всего Ивану хотелось скорее дождаться вечерней поверки, завалиться на койку, чтобы в темноте еще раз вспомнить лицо Кати, ее ясные васильковые глаза и спокойную улыбку. Но после того, как в расположении погас свет, а старшина удалился в каптерку, Шах тихо оделся и, предупредив дежурного сержанта, отправился в соседнюю роту… А как он мог не пойти?
…Эх, сколько он потом корил себя за то, что в тот предновогодний вечер пошел на поводу у Крысы, а потом еще вступился за него и приложил мужика, оказавшегося шишкой из мэрии!.. Кирееву-то что: не сегодня-завтра на дембель, а там ищи-свищи его на краю света в какой-нибудь деревеньке под названием Нижние Попыхи!.. А ему, Шаховцеву, еще полтора года трубить…
Да, рано он тогда успокоился, рано решил, что его не найдут, что все быльем поросло… Нашли! Да притом выпасли не где-нибудь, а в самоволке!
В тот день он остался в наряде по роте, а поскольку дежурным оказался земляк из Пинаево, поселка в сорока километрах от Куранска, то Ивану не составило труда отпроситься у него до вечера в обмен на магарыч.
Поход удался на славу. На Добролюбова оказались не только Влад с Ленкой, которые снабдили солдата бутылкой водки и домашними бутербродами, но и одна из давних пассий, поэтесса, сочинявшая песни под гитару под Веронику Долину. Ее, кстати, и звали точно так же, как и знаменитую певицу-барда.
Пробезумствовав с Вероникой добрых два часа, Иван, уставший и довольный, вышел из общежития, раздумывая, доехать ли до метро на троллейбусе или же пробежаться пешком, когда припаркованный у тротуара неприметный «жигуленок» неожиданно бибикнул и мигнул фарами. Поначалу Шаховцев решил, что сигналят не ему, но следом из машины раздался незнакомый мужской голос:
− Шах!
Он обернулся, недоуменно всматриваясь в темную фигуру, высунувшуюся из салона.
− Шах! – повторил неизвестный. – Чего, не признал что ли? Садись, подброшу до части!
Решив, что это кто-то из былых собутыльников по Добролюбова, Иван подошел к распахнутой дверце и машинально уселся рядом с водителем – молодым светловолосым мужчиной в потертой турецкой дубленке. По привычке пожал протянутую ладонь, всматриваясь в странно знакомое лицо шофера.
− Поехали, а то опоздаешь, − белобрысый, перегнувшись, захлопнул дверь со стороны пассажира и врубил зажигание.
− Да вроде пока время есть… − совершенно сбитый с толку, пробормотал Шах, припоминая, где он мог видеть водителя раньше.
− Да как сказать, − усмехнулся тот, выруливая на перекресток и сворачивая в один из неприметных, прилегающих к улице Руставели переулков. – Костоев вот-вот должен с проверки вернуться. Неровен час раньше приедет – и тебе влетит, и земляку твоему.
Шаховцев вздрогнул. Фамилию ротного старшины не знали даже Влад с Ленкой, не говоря уже о других обитателях общаги.
– Что, не узнал? – владелец «жигуленка» притормозил, зажег свет в салоне, и Иван наконец понял, что незнакомец не кто иной, как Петраков из особого отдела дивизии.
– Ну вот и ладненько, – контрразведчик вновь щелкнул выключателем. – Вижу, признал… Ну что, Иван Сергеевич, как в общаге, все в ажуре?
Шаховцев машинально кивнул, ошалело таращась на особиста.
− Смотрю, тебе и бакшиш для дежурного по роте собрали, − капитан бесцеремонно заглянул в пакет пассажира. – Ого! Водяра не какая-нибудь, а кристалловская! Классные у тебя кореша! Небось, еще и с подругой какой-нибудь успел покувыркаться, так? Да вижу, не отнекивайся! Дело-то нужное, против природы не попрешь… Вот только неужто тебе так приспичило, что ты даже у Костоева не отпросился, а втихую из наряда свалил?
Иван подавленно молчал. Попасться в самоволке, причем не кому-нибудь, а особисту – это было куда страшнее, чем если бы его заловил комендантский патруль. Неделя гауптвахты была обеспечена…
− Впрочем, самоволка – это полбеды. Максимум на «губе» отсидишь, − контрразведчик словно читал его мысли. – А вот то, что ты двадцать пятого декабря на маршруте человека покалечил и вдобавок обчистил его – это уже куда серьезнее!
«Все… Попал…» − Шах почувствовал, как бешено стучавшее сердце вдруг замерло, оборвалось и рухнуло куда-то в бездонную пропасть.
− Да-а-а, дружище, встрял ты по полной, − сочувственно протянул капитан. – И притом еще не кого попало грабанул, а завсектором мэрии! Сам Лужков распорядился кровь из носу найти тех, кто это сделал! А ты к тому же наследил там будь здоров: «пальчики» твои и на удостоверении потерпевшего остались, и на бумажнике.
− И что теперь? – Иван произнес эти слова машинально, все еще находясь в шоке от услышанного.
− А то, что судить тебя будут. Тем более что тот дядя из мэрии запомнил что тебя, что Киреева, да и шофер его видел, как вы за ним увязались. Сперва грешили на местных ментов, пока «терпила» не вспомнил, что у тех, кто его накрячил, на рукаве шеврон с соколом был. А остальное уже было делом техники: сначала мы проверили тех бойцов, кто на том маршруте службу нес, но не в цвет оказалось: пацаны, что там были, под описание никак не подходили. Вот тогда прикинули, кто на соседнем патрулировал, и все сошлось: один плюгавый, рожей на хорька похож, а второй этакий громила под два метра! То бишь, Киреев и ты.
В салоне повисло молчание.
− Эх, Иван-Иван, − Петраков вздохнул. – Ладно Киреев, он по жизни гнилой, только и норовил, как кого обобрать да денег стрясти, а ты-то?
– Я не хотел…
– Да знаю, что не хотел! Небось, когда тот мужик сдачи Крысе отвесил, по привычке на выручку кинулся да силу не рассчитал?
Шах едва заметно кивнул.
− Вот только это теперь не докажешь, − продолжал капитан. – Тем более, когда ты увидел, что напарник твой бумажник у него вытащил, не пресек же ты этого? Не пресек, а вместе с Киреевым драпанул во все лопатки. Выходит, ты не меньше него виноват. И что теперь с тобой делать, а, Иван Сергеевич?
− Что-что – арестовывайте уж, чего волынку тянуть! – глухо и отчаянно отозвался Иван.
− Да это легко. Доказательств полно, хоть сразу дело в суд направляй. Прокурорские в восторге будут, вот только… − контрразведчик сделал паузу. – Только не хотелось бы мне, чтоб ты зону топтал. Ты же не гнида какая, типа Киреева, а нормальный пацан. Ну, влип по глупости, неужели из-за этого себе всю жизнь портить? Моя бы воля – не давал бы делу ход, но…
− Товарищ капитан, вы бы уж заканчивали, что ли! – выпалил Шаховцев, который уже почти смирился с неизбежным и теперь больше всего хотел, чтобы все это скорее завершилось. Пускай наручники, пускай камера − только бы не сидеть тут, рядом с переодетым в штатское особистом, не слушать его сочувственные слова, от которых хотелось лезть в петлю.
− Закончить мы всегда успеем, – все тем же миролюбивым, почти дружеским тоном отозвался собеседник. – Что, неужто так в камеру охота?
− А что, есть какой-то еще выбор?
− Да, в принципе, нет…
− Тогда давайте, действуйте! Что там от меня надо? «Чистуху» написать?
− А ты крепкий парень, − с неподдельным уважением в голосе произнес Петраков. – Другой бы скулил, в ногах валялся, а ты… Редко таких в наше гадское время встретишь! А касаемо выбора, про который ты спрашивал, то можно чего-нибудь придумать… Не хочется мне тебя сажать, Ваня. Честное слово, не хочется. Потому и отловил я тебя здесь, где ни посторонних глаз, ни ушей…
Шаховцев с удивлением уставился на особиста. Дружеский тон, сочувственные слова, звучавшие, как ни странно, вполне правдиво и откровенно – все это напрочь сбивало с толку.
− Так вот, Иван Сергеич, − тем временем повторил капитан. – Есть шанс тебя вытащить. Сразу скажу: дело это трудное, но не безнадежное. Сам я этого не смогу, разве если только наше начальство подключить. Но, сам понимаешь, и ты должен в свою очередь нам помочь…
Шах вздрогнул, обожженный страшной и простой до безобразия догадкой. Очевидно, все чувства настолько отразились на его лице, что контрразведчик мгновенно упредил его:
− Тихо, тихо… Небось, думаешь, вербует тебя нехороший Евгений Алексеевич доносить на товарищей? Да нет, друже, таких стукачей у нас хватает. Да и что я, без тебя не знаю про все, что в вашей роте творится? Думаешь, мы не в курсе, что у вас офицеры ночами сторожами калымят, а за всех них один Костоев пашет? Или что он вас втихую отпускает из части, а это, считай, те же самоволки… Нет, это все известно. И захотели – давно бы всех их прищучили: как ни крути, а по закону подрабатывать военным запрещено! Но ведь мы, Ваня, тоже люди и понимаем, что на те гроши, что государство им платит, хрен проживешь!
− Так что от меня-то требуется? – осторожно нарушил молчание Иван.
− Вот скажи, − капитан словно не услышал его вопроса. – Как ты относишься к тому, что некоторые бойцы на маршруте с людей деньги вымогают? К примеру, выпил слегка какой-нибудь работяга в получку, а наши его тормознут и оберут подчистую?
− Как-как… Плохо, естественно.
− А если, скажем, они не по собственной воле это делают, а их командиры заставляют?
− Это как?
− А так, что командир роты через сержантов с «дедами» требует, чтобы каждый наряд ему после дежурства нехилую сумму в клювике принес. А коли не притащит, запрессует бедолаг так, что те белого света не увидят… Что молчишь? Да, совсем забыл сказать: если этих бойцов прихватят за вымогательство, то они в тюрьму пойдут. А тот, ради кого они шакалили, как бы не при делах останется. Будет по-прежнему чужими руками жар загребать…
− Подождите…− перебил его вконец сбитый с толку Шаховцев. – Вы хотите сказать, что наш ротный этим занимается?
− Ваш – нет. Он как раз честно пытается себе на хлеб заработать: вон, магазин сторожит ночами. И все равно впроголодь живет. А соседний нигде не калымит, а тем не менее машину себе купил, по кабакам гуляет… Понял, о ком я говорю?
− Понял, − кивнул Иван, вспомнив холеного командира соседней роты, смотревшего на солдат по-барски презрительно и брезгливо, как на каких-нибудь навозных жуков. Его, кстати, так и звали между собой – Барин.
− Вот эта-то гнида нам и нужна.
− А я-то как вам могу помочь? Я же не у него служу и про тамошние дела не в теме…
− Можешь, Ваня, можешь. У тебя же там приятель имеется.
− Вы Пригарина, что ли, имеете в виду?
− Да, его.
− Так вы предлагаете мне у Ромки обо всем этом поинтересоваться? – вновь насупился Шах.
− Ты что, упаси Боже! Мало того: Пригарин, по идее, тебе и не должен обмолвиться, что они бабки с людей трясут не для себя, а для Барина.
− А что же тогда делать? И как?
− Все просто. Пригласи как-нибудь своего Пригарина посидеть за рюмкой чаю. А потом наведи его на разговор о том, как и где можно на маршруте деньжат раздобыть. Только не напрямую. Сделай так, чтобы он сам тебе рассказал. Справишься?
− Не знаю.
− Ты уж постарайся. И еще раз запомни: ни в коем разе сам не интересуйся про то, как в их роте бойцы прохожих обирают. Он сам тебе должен об этом брякнуть. А дальше, как разговор зайдет, аккуратненько выясни, какое место на их маршрутах самое хлебное. Ну, то есть где по-любому за смену без хороших денег не останешься. Уразумел?
Иван кивнул.
− Что ж, тогда начинаем работать, − Петраков взглянул на часы и резко тронул с места.
Весь путь до части занял от силы пять минут – особист свернул с Дмитровки чуть раньше, не доезжая Савеловского, и подвез Шаховцева аккурат к замаскированному лазу в заборе части.
− Что, − заметив удивленное лицо пассажира, насмешливо произнес он, – думаешь, мы не в курсе, откуда вы в самоволки сваливаете? Ладно, смотри там осторожнее, не попадись!
Однако контрразведчик опасался напрасно: Иван не только не попался, но и успел в роту за целых полчаса до возвращения старшины.
Земляк-дежурный несказанно обрадовался «бакшишу» и даже не стал ставить Шаховцева «на тумбочку», хотя тот уже дважды пропустил свою очередь. Сержант даже хотел налить Ивану стопку из принесенной им бутылки, но самовольщик отказался и поспешил уединиться в курилке.
На душе было противно и гадливо. Хоть он давно на дух не переносил командира соседней роты, а тем более когда сегодня узнал про него всю подноготную – все равно Шаха воротило от сознания, что теперь он вынужден быть доносчиком у особистов. Пусть даже стучать придется не на своих, а на этого ублюдочного Барина… А самое главное – надо будет использовать втемную Ромку… Однако делать было нечего.
На предложение друга как-нибудь смотаться в общежитие попить водки и потусоваться с девушками Пригарин согласился с радостью. Тем более что он уже давно намекал приятелю познакомить его с какой-нибудь симпатичной и не обремененной моралью студенткой.
Такой случай вскоре представился. Ивану посчастливилось задержать не кого-нибудь, а квартирных воров, причем с поличным. Зайдя с напарником по нужде за гаражи в одном из дворов, они неожиданно заметили троих молодых мужиков, по виду приезжих, выносивших из подъезда завернутый в одеяло телевизор, пару женских шуб и видеомагнитофон. При этом они вели себя довольно нервно, постоянно озираясь. Шах, сообразив, в чем дело, тут же сообщил по рации в местное отделение, и буквально через пару минут на место примчалась оказавшаяся поблизости патрульная машина…
Через день на общеполковом разводе Шаховцеву была объявлена благодарность лично от комполка, а ротный, в свою очередь, пожаловал солдату внеочередное увольнение. Вдобавок ко всему командир позволил виновнику торжества вернуться в часть не к отбою, а утром.
Сразу же после построения Иван разыскал Пригарина и предложил ему составить компанию, пообещав, что обязательно сводит его в общежитие и постарается познакомить его с какой-нибудь из тамошних девиц. В душе Шах не особо верил, что Ромка сможет выбить себе увольнительную, но приятель на удивление быстро решил вопрос, и на следующий день поутру они уже шагали вдвоем в сторону метро.
− С телкой точно облома не будет? – в который раз спрашивал сержант.
− Расслабься, все нормально, − уверенно и покровительственно отвечал Шаховцев. На этаже, где обитали слушатели высших литературных курсов, который год нелегально жила девица из Молдавии, отчисленная еще пару лет назад. Экс-студентка была безотказной в постельном плане и даже вполне сносной внешне. Во всяком случае, для оголодавшего без женской ласки солдата.
− Тогда надо затариться, как положено, − азартно произнес Пригарин, сворачивая к солидному магазину.
К удивлению Ивана, он купил не какого-нибудь дешевого вина, а целых две бутылки хорошего заграничного коньяка и даже маленькую баночку красной икры.
«Да, а Ромка-то наш действительно жирует будь здоров! − подумал Шах, переполняясь к приятелю завистью. – Интересно, откуда дровишки?»
Молдаванка, завидев все эти яства, и вовсе пришла в неописуемый восторг и сама уволокла к себе в комнату Ромку – «отблагодарить».
Сослуживец выбрался от девушки лишь ближе к вечеру, вконец разомлевший от выпивки и ласк.
− Ну, брат, считай – я твой должник по гроб жизни! – он буквально стиснул Ивана в объятьях, обдав терпким перегаром, перемешанным с запахом дешевых духов. – Уж думал, все, помру – с самого призыва с лялькой не кувыркался!
− Чего, правда, что ли? – удивился Шах.
− Ага. К москвичке хрен подкатишь, а проститутки дорогие, заразы!
− Ну, ты, я смотрю, тоже не бедствуешь! – осторожно, как бы в шутку поддел сослуживца Шаховцев.
− Да это фигня! Так, кручусь помаленьку… Если бы еще кое с кем делиться не приходилось, то жить бы можно было, − хмуро произнес Ромка.
− А я вот, честно, стремаюсь народ трясти, − с напускной неуверенностью отозвался Иван. – Ну было там пару раз, когда клиент вообще вусмерть пьяный валялся.
− Ну, волков бояться – в лес не ходить, − пьяно усмехнулся сержант. – Как говорится, кто не рискует… Хотя отчасти ты прав – знать надо, кого можно трясануть, а кого лучше за километр обойти.
− Вот-вот. Помнишь, как в октябре двоих повязали? Да еще по году дисбата вкатили…
− Помню. Попались, потому что лохи. Тоже мне место нашли – у кабака дорогущего. Там же кто попало не гуляет! Хитрее надо быть и места знать…
− Места – это хорошо, только я пока ни одного такого не приметил. Видать, и вправду лох…
− Не парься, я тоже сначала не в теме был, пока не подсказали. Зато теперь навар стабильный. Главное, в нужное время там оказаться…
− Это где, если не секрет?
− Ни в жизнь не догадаешься – возле автобусного парка. Особенно – числа так двадцать пятого или восьмого. Когда им деньги дают.
− И что, хочешь сказать, они легко доятся?
− А то! Там же сейчас одни нелегалы работают, в основном с Молдавии или Хохляндии. Начальство решило сэкономить и приезжих туда набирает. Живут они недалеко, в бывшей пэтэушной общаге на птичьих правах. Вот там по вечерам их пасти самое милое дело. Они обычно бухают в день получки, а потом, когда водяра кончается, сбрасываются и гонца засылают за добавкой. Вот их-то мы и берем тепленькими. А куда денешься? Пьяный, да еще без регистрации – сразу все бабки отдает!
В этот момент на лестницу выглянула пригаринская пассия и томно уставилась на кавалера.
− Ладно, пошел я на второй круг, − подмигнул Ромка другу и поспешил вверх.
А Шаховцев, дождавшись, пока тот скроется в комнате, осторожно спустился вниз и, получив разрешение у сонного вахтера, набрал номер.
− Алло… − отозвался на том конце провода звонкий женский голосок.
− Здравствуйте… Мне бы Яну…
− Яны пока нет. Что-то передать?
− Скажите, что звонил Иван и что я пока в увольнении до утра…
− Хорошо, передам. Знаете что, − собеседница сделала паузу. – Перезвоните где-нибудь минут через двадцать. Яна где-то в девять объявиться должна…
…Спустя полчаса тот же молодой девичий голосок сообщил Шаху:
− Яночка только что звонила. Просила передать, что будет к десяти.
Ровно в двадцать два ноль-ноль Шаховцев выскочил из общаги, свернул в соседний двор, где возле подъезда негромко урчал мотором знакомый «жигуленок».
− Ну что, удалось? – поинтересовался Петраков, когда Иван нырнул в салон.
− Вроде бы.
− Что ж, посмотрим. Кстати, где сейчас твой Пригарин?
− Как положено, у бабы в койке.
− Видишь, а ты все сомневался … Ладно, выкладывай, что надыбал?
− Насчет места? Трясут они, как правило, водил с какого-то автопарка. Там, с его слов, одни приезжие, без регистрации. Особенно прибыльно, мол, в день получки или аванса. Вот только где это конкретно находится, он не сказал…
− Ну это фигня, выясним, − махнул рукой особист. – Больше ничего не говорил?
− Обмолвился только, что денег имел бы больше, если бы кое-кому отстегивать не приходилось…
− Это понятно, − усмехнулся контрразведчик и тут же, спохватившись, спросил: − У тебя, надеюсь, хватило ума не интересоваться, с кем конкретно он делится?
− Не… Я даже вид сделал, что мимо ушей это пропустил.
− Что ж, молодец. Видишь, я в тебе не ошибся. Считай, выполнил ты задание, Иван Сергеич, − капитан довольно улыбнулся.
− Знаете… − наконец решился Шах. – Я бы…
− Хотел попросить, чтобы дружка твоего не трогали? – угадал Петраков.
− Ну, в общем, да…
− Что ж, думаю, и это удастся… Хотя Пригарин тот еще гусь. И вообще мой тебе совет: поменьше бы ты с ним дело имел…
Шаховцев промолчал в ответ.
− Ладно, − нарушил молчание особист. – Давай, возвращайся, пока тебя не хватились.
Он пожал на прощание руку агенту и, дождавшись, пока тот выберется, резко стартовал с места, исчезая в зимних сиреневых сумерках. А Иван, терзаемый мерзким, гадливым чувством, прошмыгнул обратно в общежитие и всю ночь топил в водке муки совести.
…Командира соседней роты взяли спустя месяц, аккурат перед Пасхой. Подставные гастарбайтеры сунули промышляющим у автопарка бойцам меченые деньги, а вечером, лишь только те вернулись со службы и передали часть суммы командиру, тут же, прямо в канцелярию, нагрянули особисты и арестовали Барина.
Узнав о делах капитана, многие в части возмущались и крыли его на чем свет стоит. Особенно негодовал Костоев. «Вот сука, − цедил сквозь зубы старшина. – Мало того, что сам шакалил, так еще и пацанов подставлял!» – «Отшакалился уже, − успокаивал его ротный. – На зоне ему быстро рога обломают!» – «Да, не зря особисты свой хлеб едят, − подхватывал замполит. – Классно сработали, четко!»
И все же, несмотря на то, что почти все одобряли акцию контрразведчиков, Иван по-прежнему чувствовал непомерный стыд, словно сотворил что-то мерзкое, непристойное. «Стукач… − непрестанно пульсировало в мозгу. – Стукач… Доносчик…» Кроме того, в голову постоянно лезли тягостные мысли о том, что теперь он до конца жизни будет на крючке у чекистов, а значит, ему вновь и вновь придется выполнять их проклятые «задания» и «поручения».
Но больше всего он мучился от того, что некому было поведать о случившемся, выговориться, излить душу. И все же однажды он рассказал об этом. Причем человеку, которого видел впервые…
Случилось это на следующей неделе после Пасхи, когда Игнатов с разрешения Костоева вновь увез Шаха на два дня к себе. Тогда-то, на пути в Марьино, восприемник неожиданно поинтересовался:
− Кстати, ты когда в последний раз причащался?
− Причащался? – опешил Иван. – Ну ты спросил! Кажись, это еще в деревне было. В конце лета, перед шестым классом… А что?
− Ничего. Я так и думал.
Разговор возобновился уже дома, после того как его радостно встретило Пашкино семейство и накормило ужином. Правда, почему-то на столе, как прежде, не было ни выпивки, ни мяса, ни даже традиционных пасхальных разноцветных яиц. Только рис с овощами, пусть и невероятно вкусный, да квашеная капуста. Поначалу Иван решил, что богомольцы – как снисходительно называл он про себя родню крестного – совсем обнищали, пока ему не объяснили истинную причину всей этой скудности…
− Ну что, идешь завтра с нами в храм? – как бы невзначай поинтересовался за чаем Игнатов у крестника.
− Не знаю… − опешил тот.
− Ты же вроде в прошлый раз собирался с нами – или забыл?
− Да вроде помню…
− Естественно, что «вроде»! Наклюкался тогда как поросенок, вот и не попал. Ну ничего, мы сегодня этот вариант предусмотрели. Видишь, крепче чая ничего не выставили.
− Вижу…
− Кстати, ты не удивляйся, что ужин сегодня постный, хоть и Светлая седмица на дворе. Просто мы завтра причащаться собираемся. И, кстати, по поводу тебя благословение взяли у батюшки.
Иван промолчал в ответ. Больше всего на свете ему хотелось выспаться как следует, а не тащиться ни свет ни заря в церковь. Но не только Пашка с женой, но и все семейство Кропочевых замерли в таком трогательном ожидании, что было просто неудобно отказать им.
− Впрочем, это твое дело, − философски произнес восприемник. – Мне просто жалко тебя: ты уж восемь с лишним лет без Божьей благодати живешь…
− Нет-нет, я согласен, − торопливо произнес Шах и тут же заметил, как счастливо просияла Катя.
Но оказалось, что к принятию Святых Христовых Тайн надо было готовиться. Во-первых, ничего не есть, не пить и даже не курить после полуночи, а во-вторых, читать множество молитв. Впрочем, Ивану этого непосредственно делать не пришлось, а лишь креститься вместе со всеми да рассеянно слушать, как деловито, с расстановкой басит малопонятные слова Пашкин тесть Николай Матвеевич, а все остальные время от времени подхватывают хором: «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ!.. Воскресение Христово видивше, поклонимся Святому Господу Иисусу!..»
Вдобавок ко всему перед причастием надо было обязательно покаяться в грехах перед священником. Это повергло Шаховцева в ступор, хотя в детстве ему приходилось исповедоваться. Обычно в деревне накануне воскресенья они с бабой Нюрой шли к Игнатовым, где все вместе читали какие-то бесконечные молитвы, а потом Ваня под присмотром Пашки выводил на листке бумаги про то, как не слушался бабушку, сквернословил в компании сверстников и про прочие шалости. Местный священник, отец Иоанн, добродушно-укоризненно качал головой, изредка делал ласковое внушение, а затем накрывал голову мальчишки своим золотистым передником и, проговорив какие-то слова, из которых запомнилось лишь: «…Прощаю и разрешаю…», крестил через ткань макушку исповедника и отпускал с миром причащаться. Это продолжалось до самого Пашкиного ухода в армию. А после, повзрослев, Иван почувствовал, что все его естество противится этим исповедям! С чего это он должен выкладывать о себе всю подноготную какому-то попу?! Да и зачем вообще это все нужно?
В этом его поддерживала и мать, считая, что все священники и прочий церковный люд просто-напросто дурят людям головы, втюхивая втридорога недалеким простакам свечи, картонные иконки, книжки и остальную никому не нужную утварь, наживаясь на этом. «Видишь, я же в церковь не хожу – и ничего, жива-здорова!» − внушала сыну Ольга Григорьевна. Все это вкупе с обостренной подростковой гордыней помогло Шаховцеву одолеть непонятную робость и боязнь перед каким-то неведомым, а возможно, и не существующим Богом и, приехав в деревню на каникулы, наотрез отказаться ходить в храм. Тем более что вечный Ванькин наставник Игнатов, с кем на пару они посещали литургии, вот уже год тянул солдатскую лямку, а бабушка лишь сокрушенно вздохнула и отступилась.
Но сегодня Шах понимал, что своим отказом он запросто может огорчить всю эту странную, не от мира сего, семью, которая опекает его и заботится о нем, как о родном. Да к тому же они не требуют ничего взамен, лишь ненавязчиво просят дойти с ними утром до церкви, исповедаться и причаститься. Как тут не пойти навстречу этим прекраснодушным чудакам?
Без десяти двенадцать он по совету крестного выкурил три сигареты подряд, чтобы потом не тянуло, и лег спать уже на привычном месте в гостиной. При этом перед тем, как нырнуть под одеяло, Иван, неожиданно для самого себя, машинально перекрестился на висевшие в противоположной стене иконы…
Утром хотелось спать, несмотря на то, что Игнатов растолкал его на полчаса позже ежедневной побудки в роте. Наскоро умывшись, Шаховцев вернулся на кухню, где все семейство собралось перед тамошним иконостасом.
Молитва на этот раз длилась от силы минут десять, что удивило Ивана. Впрочем, Пашка тут же все объяснил:
− Сейчас же Светлая седмица. В ней не только постных дней нету, но и к причастию подготовка в несколько раз легче. Вместо трех канонов надо всего один вычитать, ну, который мы вчера вечером перед Часами читали.
− Перед какими Часами?
− Пасхальными. Их на этой неделе читают вместо утреннего и вечернего Правила. Видишь, мы специально у батюшки благословение взяли на тебя на Светлой седмице, чтобы тебе готовиться к принятию Святых Даров было проще. А то с непривычки можно и не осилить…
«Ну и слава Богу!» − облегченно подумал Шаховцев.
Храм оказался небольшой деревенской церковью, чем-то похожей на ту, что стояла в родной Войновке. Поскольку день был будним, народу внутри собралось немного, зато служили целых два священника – молодой, по виду вчерашний семинарист, и пожилой, седовласый, с пышной, но аккуратной белой бородой, чем-то походивший на Николая-Угодника.
− Ого! Отец Михаил сегодня на подмоге! – завидев молодого иерея, тихо произнес крестный. – Слава Богу, батюшке сегодня служить полегче будет.
− В каком смысле полегче? – спросил Иван.
− А в таком, что не в одиночку. Этот молодой батюшка, он не здешний. В Москве, в Сокольниках служит. Вот выбирается иногда подсобить нашему отцу Александру. Он же один у нас тут.
− Как один?
− А так. У нас даже дьякона до последнего времени не было, пока Петровича, нашего старшего алтарника, не рукоположили. Ну то есть отца Павла – это я его по старой привычке все мирским именем норовлю назвать, − пояснил Игнатов, кивком указав на чернобородого плечистого мужчину в красном стихаре. Дьякон явно был в прошлом военным – выправку и четкие, отточенные движения не могли скрыть даже просторные церковные одеяния.
Пока восприемник вводил крестника в курс здешних дел, Любовь Петровна с дочерьми быстренько подошли к старшему из священников. Поздоровались с ним, сложив перед ним ладони, и, дождавшись благословения, поспешили на правый клирос, присоседившись к еще нескольким девушкам и женщинам. И через несколько минут оттуда протяжно зазвучало: «Христос Воскресе из мертвых!..»
Батюшка же, завидев Пашку с Иваном, направился к ним.
− Ну, давай, брат, готовься – сейчас на исповедь пойдешь! – быстро прошептал Игнатов и поклонился подошедшему настоятелю: − Христос Воскресе, батюшка!
− Воистину Воскресе! − откликнулся тот и тут же просто и добродушно поприветствовал Шаховцева. – Здравствуй, Иван!
Тот кивнул, смущенно пробормотав в ответ «Здрасьте…» Его изумило, что иерей обратился к нему, словно знал его давным-давно.
Поначалу Шах думал, что священник будет требовать от него признания в разнообразных грехах. Но вместо этого тот начал участливо расспрашивать Шаха о службе, о солдатском житье-бытье. Мало того, отец Александр сам, с улыбкой, поведал, как тридцать с лишним лет назад, отдавая ратный долг в артиллерии, тайком сбегал в самоволки в соседнюю деревню, где бойцов подкармливали сердобольные колхозники.
Священник держался абсолютно просто и открыто, словно это была не исповедь, а дружеская беседа любящего отца с взрослым, приехавшим на побывку сыном. И Иван вдруг испытал к стоящему перед ним человеку какое-то безграничное доверие и неожиданно для себя, решился и выложил батюшке все, что мучило его последнее время. Про историю с шишкой из мэрии, в которую он влип из-за Киреева. Про то, как попал на крючок к особистам и стал стукачом. О том, как исподволь выведывал у Пригарина все, что требовали контрразведчики. И естественно, про арест Барина…
− Знаешь, − выслушав исповедника, задумчиво произнес отец Александр, – конечно, человека калечить – грех. Но ведь, ты говоришь, этот чиновник сам драться полез, хоть и видел, что ты в форме, при исполнении, так? И ведь ты не хотел его зашибить, все нечаянно ведь вышло? Выходит, в первую очередь виноват он сам. Да, грабить – это великий грех, и плохо, что ты своего сослуживца не остановил, но ведь все это было не по злому умыслу, а просто ты растерялся, так?
− Угу, − понурив голову, подтвердил Шах.
− Значит, хоть ты грешен, но не беспредельно. Тем более ведь ты в душе давным-давно пожалел об этом, раскаялся, так?
Иван вновь молча кивнул.
− И тем более ты нашел в себе мужество открыть все мне, по сути, незнакомому человеку… Это говорит о том, что совесть в тебе не умерла и в душе Бог остался. А то, что ты про особистов рассказывал… Да, доносчиком быть нехорошо, но ведь смотри: говоришь, этот офицер заставлял своих солдат прохожих обирать, на большой грех их толкал, пользуясь своей властью? А если бы кого-нибудь из них поймали за этим делом и арестовали? И пошли бы эти бедные парни в тюрьму, а командир их как бы ни при чем остался… − священник почти слово в слово повторял то, что говорил Петраков. – Выходит, Ваня, ты большое зло предотвратил. Не невиновного оговорил, а помог преступника к ответу призвать. Который вместо того, чтобы по долгу службы со злом бороться, сам подобное творил. И подчиненных на это толкал, вместо того, чтобы наставлять честно службу нести. Так ведь?
− Да… Так…
− Ну вот видишь! А остальное… Будем молить Господа о прощении…
Батюшка накрыл склоненную голову солдата епитрахилью6 и начал что-то негромко говорить. Шаховцев разобрал лишь: «…Господь и Бог наш Иисус Христос… Щедротами своего человеколюбия…» и, в завершение, знакомое с детства − «Прощаю и разрешаю…»
Когда, приложившись к лежащим на аналое Кресту и Евангелию, он вернулся туда, где неподалеку от распятия его поджидал восприемник, Иван вдруг ощутил, как с души словно свалился камень. Мало того: витавший в храме приторный запах ладана перестал раздражать его, а пение хора, прежде показавшееся заунывно-тягучим, теперь звучало совсем иначе − радостно и торжественно.
Очевидно, пока он беседовал с настоятелем, Игнатов уже успел оповестить прихожан, кто такой приехавший с семейством Кропочевых высоченный стриженый парень, потому что все, кто был в храме, смотрели на Шаха ободряюще, словно радуясь, что Пашкин крестник нашел время и желание выбраться в церковь. А когда отец Александр, в сопровождении дьякона и еще одного помощника в ярко-алом стихаре, вынес из алтаря золотистую Чашу, то народ расступился, пропуская Ивана к ней первым.
Когда же он отведал Святые Дары и, подойдя к стоящему у окна столику, запил их сладковатой, по вкусу отдаленно напоминающей разведенный в воде сироп жидкостью, то ощутил, как внутри начало разливаться приятное согревающее тепло, словно в душу проник ласковый солнечный луч. Рассеял зябкую тьму, вместе с которой исчезли все прежние страхи, тревоги, сомнения. Даже недавние тягостные мысли про то, что от него до конца жизни не отстанут коварные особисты, теперь казались какой-то мелкой ерундой.
Но самое удивительное, что все действительно вышло именно так. После ареста Барина ни Петраков, ни другие офицеры из особого отдела ни разу, до самого дембеля, не тревожили Шаховцева, будто забыли о его существовании.
9
Шаховцев вздрогнул, почувствовав едва ощутимое прикосновение к своей руке. Сознание мгновенно обожгло: «Все – явились!»
Это длилось мгновение. В следующую секунду он уже пришел в себя и медленно обернулся. За спиной был Маркиз. Приподнявшись на задних лапах, он осторожно обнюхивал гостя.
«Фу-у… Напугал, котозаврище этакий!»
Котозаврами именовала котов Вера, жена крестного. У нее вообще была привычка приставлять это «завровое» окончание ко многим словечкам. Так, явившегося на рогах супруга она укоризненно именовала «жуткозавром», а наутро, когда тот мучился похмельем и стыдом за вчерашнее, утешительно звала «беднозавриком».
У Игнатовых вообще существовал свой межличный, особенный язык – чудаковатый, смешной и удивительно заразный. Даже Иван, поначалу насмехавшийся над всеми этими словесными проказами, незаметно для себя перенял некоторые подобные выражения…
Шах протянул руку к коту, желая погладить, но тот предусмотрительно отпрянул назад, не сводя с постояльца настороженных желтоватых глаз.
− Маркиз! – позвал его Иван. – Ну иди сюда, познакомимся наконец.
Сибиряк едва заметно шевельнул ухом, а затем двинулся по кухне в обход. Остановился у холодильника и, обернувшись к Шаховцеву, коротко мяукнул.
− Ну и что это значит?
Зверь подал голос еще раз, но уже протяжнее и требовательнее. Потом поскреб лапой дверцу большого двухкамерного «Стинола» и вновь повернул к гостю свою серую, с белыми подусниками морду.
− Мя-а-ау!
«Есть хочет», − догадался Шах и, поднявшись, шагнул к холодильнику. Открыл и тут же увидел на нижней полке едва початую банку кошачьих консервов. Тут же зеленел вскрытый пакет с сухим кормом.
− Ну и чего ты будешь? Сухарики или из банки? – шутливо обратился Шаховцев к коту, в ответ на что тот вновь требовательно замяукал.
Немного подумав, Иван решил смешать оба корма – так, кажется, потчевали жившую в общаге приблудную кошку сердобольные студентки…
Едва он вернул наполненную плошку на пол у раковины, Маркиз с урчанием набросился на еду. За минуту ухряпав всю ту солидную порцию, что наложил ему постоялец, он облизнулся и благодарно потершись об ноги гостя, неспешно направился прочь из кухни.
Иван невольно улыбнулся. Маркиз неожиданно напомнил ему писаря-тыловика из управления, такого же лоснящегося и важного. Тот интендант, несмотря на погоны старшего прапорщика, держался так, словно был как минимум генералом…
В управление регионального командования внутренних войск, в ту пору именовавшееся округом, Шах попал служить незадолго до дембеля. Намечавшегося, но несостоявшегося…
Все началось в первых числах двухтысячного, когда двое бойцов из роты, где служил Шаховцев, умудрились повязать вооруженного бандюгана. По приказу комдива на парней подали представление к медали, а в штабе соединения, в отделении по работе с личным составом (как теперь именовались прежние политотделы), решили тоже прославить солдат, написав о них статью в войсковую газету. Причем сами, не приглашая специально обученного журналиста.
Вот только выяснилось, что среди бывших политработников никто не владеет, так сказать, эпистолярным жанром, и, посовещавшись, они спихнули эту задачу на нижестоящих коллег в полку. Те, в свою очередь, переложили это на заместителя командира роты, где служили отличившиеся бойцы. Офицер, получив подобный приказ, сперва впал в панику, поскольку умел сочинять лишь рапорта и редкие письма домой, а потом неожиданно вспомнил про студента Литературного института, дослуживавшего в подразделении последние месяцы.
− Шаховцев! Ты, помнится, у нас на писателя до призыва учился? – поинтересовался он, вызвав солдата к себе, и, получив утвердительный ответ, сразу же воспрял духом. – Отлично! Вот и напишешь в газету, как наши повязали этого отморозка со стволом! Если все как положено сделаешь, то мы тебя в первую партию дембельнем!
Естественно, Иван согласился. Что-что, а описать в красках случившееся ему не составляло труда. Тем более что сам рассказ о задержании он не раз слышал в мельчайших подробностях, а вдобавок ко всему командование освободило его от выхода на патрулирование и нарядов на целых три дня. И это не говоря уже об обещании уволить его в запас в числе первых – главной мечте каждого солдата!
Очерк был написан меньше чем за сутки. Еще полдня ушло на то, чтобы вычитать текст и исправить мелкие огрехи и шероховатости. В назначенный срок творение Шаха было предоставлено в политотдел, а затем переправлено в редакцию. Спустя две недели в окружной «вэвэшной» газете за фамилией замкомроты вышла огромная статья на две страницы. А еще через несколько дней Ивана неожиданно вызвали к заместителю командира дивизии.
В кабинете, кроме хозяина – немолодого важного полковника, находился незнакомый подполковник с широким улыбчивым лицом.
− Вот и он, автор! Как говорится, собственной персоной, – шутливо представил солдата замкомдив.
– Ну здорово! – как-то по-свойски, без присущих офицерам повелительно-командных ноток в голосе, обратился к Шаховцеву улыбчивый, протягивая свою крупную, широкую ладонь. – Так это ты, значит, этот очерк написал? – он кивнул на лежащий перед ним на столе свежий номер газеты.
– Так точно, – настороженно отозвался Иван. Подобным приятельским тоном с ним за всю службу беседовал лишь приснопамятный особист Петраков.
– Ничего себе! И где же ты этому всему выучился?
– В Литературном институте. Целых два курса закончил, – ответил за солдата замкомдив, очевидно, не поленившийся ознакомиться с личным делом Шаховцева.
– Однако! – уважительно покачал подполковник. – А в армию как попал? У нас же студентов вроде уже лет десять как не призывают. За «хвосты», что ли, отчислили?
– На заочное перевелся и сразу загремел под фанфары, – вновь проявил осведомленность заместитель командира дивизии.
– Так точно, – подтвердил Шах.
– И давно ты уже служишь?
– Без малого два года. В мае уже увольняется, – опять опередил Шаховцева полковник.
– Ничего себе! – вновь повторил улыбчивый и, обернувшись к замкомдиву, бросил с заметным упреком в голосе: – Что ж ты, скрывал от меня, что у тебя такие люди служат?
– Да я сам только-только узнал о нем… – смущенно начал оправдываться замкомдив, но подполковник перебил его:
– Ладно, знаю я вас! Удавиться готовы за лишнего бойца!
Слова эти были сказаны вроде как бы шутливо, но замкомдив почему-то виновато опустил глаза.
– Жмоты, одно слово! – с нарочитой обидой в голосе подытожил улыбчивый и заговорщицки подмигнул Шаху. – Верно я говорю, Вань?
Иван деликатно промолчал в ответ, мучительно соображая, зачем он понадобился этому непонятному подполковнику.
– Кстати, чего ты стоишь, как неродной? – спохватился улыбчивый. – Давай присаживайся, не стесняйся! – по-хозяйски скомандовал он солдату.
– Да-да, – поспешно подхватил заместитель командира дивизии. – Садись, Шаховцев.
Шах осторожно присел на краешек стула. Поведение подполковника все больше убеждало, что он принадлежит явно к кому-то из «небожителей». А таковыми, в понятии Ивана, были лишь особисты да офицеры из военной прокуратуры…
Впрочем, спустя несколько минут ситуация разъяснилась. Незнакомый офицер оказался начальником пресс-службы из управления, читавшим шаховцевский очерк. Очевидно, этот опус произвел на него впечатление, потому как Кочубей – так была фамилия подполковника − после дежурных расспросов начал сватать Ивана к себе на службу.
– Смотри, – проникновенно говорил он. – Ну, дембельнешься ты через месяц, а дальше что? Небось, неохота домой возвращаться? Неохота, вижу! Ты ж стопудово уже к Москве привык…
Кочубей бил в точку. При одной мысли о том, что ему когда-нибудь придется вернуться в Куранск, Шаха бросало в дрожь. Даже полгода назад, когда командование пожаловало ему месячный отпуск, он сумел вытерпеть в родном городе от силы дней пять. Не блиставшая цивилизацией и в благополучные советские годы, теперь малая родина выглядела заброшенной деревней, заселенной нищим убогим сбродом. Оборонный завод, где в прежние времена трудились большинство горожан, закрылся. В здании бывшего дома пионеров теперь размещался ночной клуб, по виду напоминавший третьесортную пивнушку, где вдобавок к самопальной водке почти в открытую продавалась наркота.
Половина одноклассников успели спиться, остальные разъехались кто куда в поисках лучшей доли. Относительно неплохо устроилась лишь Ленка Лагутина, считавшаяся первой красавицей в школе, – подалась в наложницы к некоронованному хозяину городка, бандиту по кличке Череп.
Вот потому теперь, сидя в кабинете замкомдива и слушая усатого подполковника-редактора, Иван вновь с отвращением подумал, что если ему не удастся зацепиться в Москве, то придется уезжать в родной, осточертевший городишко. Что его ждет в этой дыре, официально именуемой райцентром, с бестолковым названием Куранск? Идти в ментовку или пожарку, ежедневно рискуя погибнуть или сделаться калекой, чтобы к сорока годам выслужить нищенскую пенсию? Или торговать на рынке?
– Вижу, что неохота из Москвы уезжать, – Кочубей словно читал его мысли. – По-хорошему, здесь надо работу искать… Ну это ладно, при желании можно найти, а вот жить-то где будешь? Сейчас самый захудалый угол снять таких деньжищ стоит!
Подполковник снова расчетливо ткнул по больному. Перспектива с жильем если и светила, то только если бы Шаховцев вновь вернулся в Лит на дневное. Можно было, конечно, временно обосноваться у крестного. Но – а дальше-то куда? Не станешь же жить там вечно!
– В общем, дружище, есть к тебе предложение, – выждав паузу, продолжил Кочубей. – Не желаешь у нас послужить?
– У вас – это где? – не понял Иван.
– В пресс-службе. Нас только-только сформировали и под тебя у нас должность прапорщика имеется.
– А делать-то что надо будет?
– Много чего, в том числе и писать. Зарисовки и очерки. А то у нас как в поговорке: патронов до фига, а бойцов не хватает. Короче, решай, дружище, – заключил подполковник. – Златых гор тебе не обещаю, но служба у нас не самая плохая. Плюс койко-местом тебя обеспечим. И не в казарме, а в общежитии, со всеми удобствами.
– И какими же это удобствами? – позволил себе поиронизировать Шах, вспомнив, как офицеры в части зачастую ютились где попало: кто в медпункте, а кто и вовсе в казарме, поставив койку в ротной канцелярии.
– А то, что там хоть и душ с сортиром общий, но зато комната всего на двоих. А самое главное – до работы тебе будет ровно сто метров ходьбы. От дверей до дверей.
Шаховцев задумался. Положа руку на сердце, ему больше всего хотелось как можно скорее уйти на «гражданку» и забыть весь этот армейский дурдом. И уж точно до сей поры у него не возникало и мысли, чтобы остаться на сверхсрочную. Даже ради Москвы, где до призыва прожил два года, оброс друзьями и знакомыми, не говоря уже о Литинституте, который надо было закончить кровь из носу.
– Тем более что ты наверняка будешь в институте на заочном восстанавливаться, – в который раз угадал Кочубей раздумья собеседника. – Значит, тебе по-любому надо будет для сессий время освобождать. Если ты в какую-нибудь частную лавочку устроишься, то хрен тебя на экзамены отпустят. А у нас все по закону: учебный отпуск, причем оплачиваемый.
Казалось, не этот улыбчивый подполковник, а сама судьба не оставляет Ивану никакого другого шанса. И в конце концов без пяти минут демобилизованный воин сдался, написав рапорт на имя генерала, заместителя командующего округом, с просьбой рассмотреть его, Шаховцева, кандидатуру на означенную должность. А заодно и еще один – о переходе на контракт.
Поначалу Шах долго мучился мыслью, правильно ли он поступил. В солдатской среде откровенно потешались над теми, кто вместо того, чтобы увольняться, оставался служить. Даже песню-дразнилку сочинили, на мотив «Прощания славянки»:
Остаюсь на сверхсрочную службу,
На фига мне гражданская жизнь?
Не нужны мне кроссовки и куртка –
Сапоги и шинель зашибись!..
Вот потому первое время Иван тщательно скрывал от сослуживцев, что решил остаться в войсках. Он поведал об этом лишь закадычному другу Ромке, но тот, вопреки ожиданиям, не только не стал крутить пальцем у виска, а наоборот, в ответ поведал приятелю, что сам решил податься на контракт.
− А чего у нас там на Тамбовщине делать? – философски рассуждал Пригарин, презрительно оттопырив губу. − Колхоз давно развалился, мужики бухают, а кто помоложе да попрошаренней, давно лыжи навострили куда получше. Так что для начала можно и тут послужить.
− А потом?
− А потом видно будет. Может, хату от этих войск какую-никакую урвать удастся или москвичку из солидной семейки охмурить…
Через пару дней Пригарин переехал из ротной казармы в соседнее здание, где на втором этаже жили бесквартирные и холостые сверхсрочники. А Шаховцев куковал еще месяц, исправно выходя на маршруты или стоя в оцеплении на футболе. И лишь к середине мая его вызвали в штаб и вручили предписание следующим утром явиться к новому месту службы.
Назавтра новоиспеченного контрактника встречал на КПП сам Петр Петрович Кочубей. Он же провел его по множеству мест, успев за день поставить Ивана на все виды довольствия, выписать ему пропуск и специальный вкладыш в военный билет для бесплатного проезда, а кроме того подселить его в комнату в офицерской гостинице, к какому-то вечно отсутствующему капитану. За все время тутошнего житья Шах видел своего соседа от силы пару раз.
Кроме того, новый начальник заранее выбил для нового подчиненного вполне приличный компьютер. Поначалу Шаховцев недоумевал: с какой это радости начальство так расщедрилось для него, простого контрактника? Но Кочубей в ответ лишь хитро улыбнулся:
− Не переживай, это временно. Как говорится, на период выполнения особо важной задачи…
− Какой еще задачи? – еще больше опешил Иван.
− Узнаешь. Всему свое время…
10
«Всему свое время… Что ж, верно. И каждому тоже – свое!»
Шаховцев вдруг подумал о том, что, возможно, и прав был тот древний восточный мудрец, утверждавший, что судьба любого человека давным-давно предопределена свыше. Ведь если рассудить философски, то вся жизнь – это цепь случайностей и совпадений. Не влюбись мать вопреки всякому здравому смыслу в Сергея Алексеевича − его, Ивана, попросту не было бы на свете. Не приедь той весной в Куранск Веселецкий, никогда бы Шах и не познакомился с ним и не поступил в Литинститут. А дальше опять та же цепочка случайностей: не поддайся он на уговоры замдеканши перевестись на заочку, не загремел бы в армию. Не случись в их роте того громкого задержания, о котором Шаховцева заставили писать в войсковую газету, – не заметил бы, не взял бы его под свое крыло Кочубей. Он же познакомил его с Сан Санычем, бывшим замначальника политотдела, а ныне директором издательства «Багратион».
Случилось это на второй день службы Ивана в управлении. Весь первый он пробегал по различным кабинетам, становясь на разные виды довольствия, писал рапорта о принятии должности и даже успел получить на складе два комплекта формы: зеленой и серой, милицейской, на случай если ему придется по разнарядке дежурить где-нибудь на усилении.
Когда же к вечеру следующего дня, закончив все кадрово-штабные формальности и наладив выделенный для работы древний компьютер-«тройку», свежеиспеченный контрактник явился в кабинет своего нового начальника доложить об окончании всех бюрократических перипетий, он обнаружил там накрытый стол, за которым, кроме Петра Петровича, находился и крутоплечий скуластый живчик средних лет.
Иван было собрался по-тихому прикрыть дверь, чтобы не мешать, но Кочубей, заметив, дружески окликнул подчиненного:
− О, как раз кстати! Заходи, чего стесняешься?
− Заходи-заходи! – подхватил живчик и, обернувшись к Кочубейу, поинтересовался: – Это и есть тот самый Иван?
− А кто же еще? Он самый!
− Присаживайся, брат! – добавил кочубеевский гость, пододвигая стул и выставляя на стол третью рюмку, в которую Петр Петрович тотчас же от души налил душистого «Арарата».
Ошалев от такого приема, Шах неуверенно опустился на краешек стула.
− Ну давай, что ли, за знакомство! – живчик поднял пузатую стопку-бокал.
Иван машинально опрокинул в себя коньяк и лишь потом сообразил, что сидящий перед ним человек и есть директор «Багратиона», о котором новые сослуживцы успели поведать с нескрываемым почтением к отставному полковнику: «Мужик крутой, серьезный… У самого командующего желанный гость…»
Наслушавшись подобных славословий, Шаховцев представлял себе Сан Саныча этаким небожителем. Но сейчас перед ним сидел обычный, еще сравнительно молодой мужик, в котором не было ни грамма надменности.
− Так чей ты избранник? – между тем продолжал расспрашивать новый знакомец. – У кого из мастеров подвизаешься?
− У Веселецкого.
− У Петра Алексеевича? Знаю! Ладно, давай, что ли, еще по одной за знакомство?
− Давно уж пора! – поддержал Кочубей, в очередной раз до краев наполняя все три рюмки. – А ты, Иван, давай, не меньжуйся.
Опрокинув в себя очередную порцию «Арарата», Шах ощутил, что голова вовсю идет кругом. И не столько от выпитого, столько от осознания того невозможного по его представлению факта, что он, еще несколько дней назад бывший простым солдатом, вынужденным вытягиваться в струнку перед самым захудалым лейтенантиком, сегодня вот так вот запросто пьет наравне со старшими офицерами.
А тут еще Сан Саныч, словно прочтя его мысли, напустился на него:
– Что это ты, брат, берешь, будто крадешь? Накладывай себе по полной! – и, положив ему на тарелку внушительный кусок семги, тут же следом от души намазал бутерброд икрой.
Тогда же между делом он объяснил Шаху смысл его будущей работы, точнее, подработки, на ближайшие полгода. Ивану предстояло писать маленькие рассказики из разных этапов жизни будущего депутата – отставного «вэвэшного» генерала.
Над первым рассказом Иван трудился восемь вечеров подряд. Прочтя его, Сан Саныч восторженно присвистнул:
– Молодец, друг! Не ошибся я в тебе!
Правда, потом он подверг шаховцевское творение самому детальному разбору, тыча носом в каждую неточность, в каждую неловкую фразу.
– В общем, Ваня, не обижайся, но тебе еще учиться и учиться, – сказал он в заключение. – И вообще, займись серьезно языком. У тебя такой сиротский синтаксис, что аж сердце плачет!
Затем он тщательно выправил текст, собственноручно переписав начисто несколько особо неудачных абзацев, попутно поясняя подопечному все его огрехи и ляпы.
Следующие творения Шаховцева директор «Багратиона» разбирал уже более придирчиво, заставляя переписывать по нескольку раз, покуда вещь не «оживала» и читатель, ради любопытства пробежав первые строки, уже не смог бы оторваться.
Эта муштра не прошла даром. За неполные пять месяцев качество шаховцевских текстов выросло во много раз больше, чем за два года в Литинституте. Понятное дело: Веселецкий хоть и был строг, но все же щадил самолюбие учеников. Да и очередь на обсуждение своих творений была солидная – хорошо, если раз в полгода выставить на семинар свой очередной опус! Сан Саныч же навещал подопечного не реже раза в неделю и снимал стружку от души.
Кстати, один рассказ из генеральской жизни Шаховцев осенью принес на семинар, где его восторженно приняли даже самые придирчивые из однокашников.
− Мне, что ли, в армию сходить? – грустно пошутила одна из заочниц – дама бальзаковского возраста, прежде не оставлявшая от шаховцевских текстов камня на камне. – Глядишь, тоже из графомана в писателя вырасту.
А Петр Алексеевич, с удовольствием листая творение своего юного земляка, пошутил:
− Можно подумать, что тебя два года не сержанты с офицерами муштровали, а Бунин с Куприным!
Услышав это, Иван улыбнулся – в лице Сан Саныча и вправду было что-то от автора «Белого пуделя» и «Олеси».
Еще одним плюсом работы под началом Сан Саныча было то, что директор «Багратиона» использовал контрактника отнюдь не бесплатно. Ближе к осени, когда начала выходить газета, специально организованная под выборы генерала, отставной полковник презентовал подопечному два увесистых конверта. В одном обнаружилась сумма, равная тогдашней двухмесячной генеральской зарплате. А заглянув во второй, Шах и вовсе опешил, увидев солидную пачку стодолларовых купюр.
− Это вроде как аванс, − пояснил обалдевшему подмастерью полковник. – После выборов, ясное дело, побольше получишь.
После ухода директора «Багратиона» Иван еще раз пересчитал баксы – на эти деньги в в ту пору можно было прикупить подержанный «жигуль»…
«Вот это пруха!»
Спрятав нежданный заработок в сейф, он в который раз похвалил себя за то, что согласился на предложение Кочубея остаться на контракт.
…Кстати сказать, выбор Ивана одобрили почти все друзья, и в первую очередь, естественно, Игнатов:
− Правильно сделал! А то дембельнулся бы и ломал голову – куда податься без прописки да без специальности… А тут тебе и крыша над головой, и как-никак Родине служишь, а не на какого-нибудь буржуя ишачишь! Да вообще на «гражданке» сейчас бардак полнейший!
Поддержали однокашника и Влад с Ленкой.
− Это же замечательно! – говорила подруга приятеля. – Работа интересная, плюс на сессию отпускают с сохранением зарплаты.
− Это еще не все, − уважительно качал головой Коротков. – Там со временем есть шанс хату от войск получить. Причем бесплатно. А через восемнадцать лет ваще на пенсию можно идти!
Известие о том, что Иван остался на сверхсрочную, приняла в штыки лишь мать.
− Кошмар! – причитала она, примчавшись в Москву на выходные и зайдя в офицерскую гостиницу, где квартировал сын. – Один душ на весь этаж! И туалет тоже общий!
− Так в литинститутской общаге то же самое, только народу раза в три больше и грязи соответственно. А тут каждый день бойцы все с мылом и хлоркой драят, − пытался успокоить Ольгу Григорьевну сын.
− Зато там народ интеллигентный, не то, что здешние… пеньки!
Иван промолчал в ответ. Прежде он и сам считал военных, милиционеров и всю остальную служивую братию недалекими туповатыми людьми. И лишь потом, став одним из них, понял, что многие из сослуживцев мало чем уступают тем же будущим литераторам по интеллекту. Но доказывать все это родительнице было делом бесполезным.
– Ну и кто ты сейчас? – продолжала родительница, кивнув на висевший на стуле мундир сына.
– По должности ответственный исполнитель. А по званию младший сержант контрактной службы. Пока.
– А потом кем будешь?
– А потом, через полгода, прапорщика обещали присвоить.
– О Боже! – всплеснула руками мать. – Этого еще не хватало! Это ж кому сказать, со стыда сгоришь!
– А что в этом плохого? – насупился сын.
– А то! В страшном сне себе не представляла, что родной сын прапорщиком будет!
− Ладно, мам, − примиряюще произнес Шаховцев. – Зато крыша над головой, и притом бесплатная. Опять же зарплата стабильная и учебные отпуска полностью оплачивают. А так бы…
− Что – так бы? Восстановился бы в институте не на заочном, а на дневном! А деньги я бы для тебя нашла! Главное – учись! А ты, оказывается, в эти… В прапорщики собрался!..
Иван только вздохнул в ответ. Переспорить мать было делом безнадежным.
А между тем прапорщиком Иван так и не стал, а через год сходу выбился в офицеры. Получилось это благодаря опять же начальнику и покровителю Петру Петровичу Кочубею, который пробил специально для Ивана капитанскую должность. А поскольку Иван к тому времени уже учился на четвертом курсе и считался человеком с неполным высшим образованием, что, в свою очередь, позволяло начальству подать на него представление о присвоении контрактнику воинского звания «младший лейтенант». В ту пору в войсках катастрофически не хватало офицеров: часть выбило на войне, а еще больше попросту сбежали со службы, устав впахивать круглые сутки за гроши. Вот тогда наверху и разрешили в виде исключения производить в чин лейтенантов тех, кто стоял на офицерской должности и имел институтский диплом, а с «неполным верхним» − давать «мамлея».
Так, совершенно неожиданно, Шах стал офицером. Через положенный срок, спустя год, он заполучил вторую звездочку на погоны и с виду перестал отличаться от других лейтенантов, прошедших пять лет училищной муштры.
Кроме Ивана и Кочубея в пресс-службе тянули лямку прапорщик-оператор и капитан, переведенный в управление из оперативной бригады. Капитан носил фамилию Чапенко и был тезкой Шаховцева, правда, отчество имел не Сергеевич, а Максимович. Офицер он был весьма толковый, и, скорее всего, его ожидала бы неплохая карьера на командирском поприще, если бы не безудержная страсть к фотографии. Всю свою невеликую зарплату капитан тратил на профессиональные камеры, объективы к ним и прочие съемочные прибамбасы.
Кстати, Чапенко, как оказалось, прекрасно знал крестный – несколько лет они вместе тянули лямку в соседних ротах.
− А-а, вот, значит, куда Кэнон перебрался! – протянул Пашка, когда Иван рассказал ему про своего нового соседа по кабинету.
− А почему Кэнон?
− А ты что, еще не просек за ним этот прикол? Тезка твой любит всех Кэнонами нарекать, наверное, в честь своего любимого фотика. Помню, вечно как зайдет ко мне в роту, так с порога: «Слыш, Кэнон-разрушитель, на обед идешь?»
− Да, водится такое за ним, − засмеялся крестник.
− Вот потому его так и прозвали. Есть у него, правда, еще одна кликуха, только длинная.
− Это какая еще?
− «Начальник базы торпедных катеров имени Бальтерманца».
− А-а, ну это-то ясно, с чего…
Дело в том, что на столике Ивана-старшего стоял портрет Бальтерманца, считавшегося в свое время лучшим фотографом Советского Союза. По словам капитана, сей гений объектива был для него вершиной мастерства, к которой он, Иван Максимович Чапенко, как говорил он сам, будет «карабкаться по мере сил и возможностей».
Чапенко оказался ценен для Шаховцева и тем, что благодаря нему Иван так ни разу и не попал «за речку».
«За речку» – так в войсках именовали поездки в Чечню. Тогда как раз вовсю гремела вторая чеченская компания, и почти все, кто служил в округе, стали мотаться в командировки. К концу двухтысячного за Тереком побывали почти все. Каждые три месяца туда улетала новая группа. Вот только возвращались порой не в полном составе. Кто-то выбывал из строя, надолго обосновываясь в госпитале, а кого-то привозили домой и в цинковом ящике…
Иван, как мог, старался отвертеться от этих опасных вояжей. Отлынивал под любыми предлогами, несмотря на презрительные насмешки сослуживцев, к тому времени по разу, а то и по два побывавших на передовой. В глубине души он понимал, что празднует труса самым подлым и бесчестным образом, но ничего не мог с собой поделать: при слове «Чечня» перед глазами вставали ужасающие кадры невзоровского «Чистилища», где беззащитных бойцов играючи расстреливали супермены-боевики, а арабские наемники лихо отрезали головы пленным… Да к тому же не для того он оставался на сверхсрочную, чтобы рисковать жизнью в совершенно чужих для него краях, неизвестно во имя чего!
К счастью, его состояние прекрасно понял Кочубей.
– Насчет Чечни не беспокойся, отмажу, – пообещал начальник. – Если чувствуешь, что не в состоянии туда ехать, – значит, не фиг тебе там делать. Тем более что кое-кто туда рвется постоянно, видимо, не навоевался еще…
Под кое-кем подполковник подразумевал, естественно, тезку Шаховцева. Чапенко терпеть не мог сидеть в Москве и постоянно стремился смотаться в командировку, причем туда, где было всего опасней и горячее. Оттуда он привозил уникальные снимки, которые впоследствии приносили капитану известность и различные премии на выставках.
Кстати, насчет командировок в Чечню Кэнон сам предложил Шаховцеву определенный бартер: капитан летает туда за себя и за него, а он, Иван-младший, берет на себя львиную долю писанины и, разумеется, работу на войсковых мероприятиях на Большой Земле. В том числе и взаимодействие с гражданскими журналистами, которых Чапенко не переносил на дух.
На том и порешили. Тем более, что и здесь работы хватало с избытком. И не только в виде пиара родимых войск и других и других «эмвэдэшных» контор. Офицеров пресс-службы, как и остальной служивый люд, припрягали на различные дежурства и усиления.
12
Кот вновь неслышно возник посреди кухни и требовательно мяукнул. Решив, что тот опять просит еды, Шаховцев поднялся и шагнул было к холодильнику, но кот развернулся в сторону двери и опять издал протяжное «Мя-яу!», словно приглашая следовать за собой.
Дойдя до приоткрытой двери туалета, Маркиз встал на пороге:
– Мрря-я-яу!
– Ну и что тебе еще надо?
– Мр-р-р!
Недовольно махнув пышным хвостом, зверь ступил внутрь, к пластмассовому лотку.
«Ясно! Покушал, сходил куда надо, теперь извольте его светлости наполнитель сменить!»
Иван вздохнул, вытряхнул содержимое в унитаз, а затем из стоявшего рядом пакета от души насыпал свежего силикагеля.
– Сделано, ваше величество! – шутливо обратился он к коту.
Тот подошел, тщательно обнюхал свой обновленный туалет и, кажется, остался доволен: мурлыкнув, благодарно потерся о ноги гостя и даже позволил погладить себя. Но когда Шах попытался взять зверя на руки, Маркиз изящно вывернулся и с показной независимостью слинял в коридор.
«Надо же, фон-барон какой! Как обслуживать его светлость, так это будь добр, а потискать – фигушки! Верно говорят, что преданны только собаки, а кошки лишь позволяют себя любить. Вот только почему тогда церковь собак не жалует, а всем этим усатым-полосатым можно в храме шляться? Да, в Писании вроде сказано: «…не давайте святыни псам…» А вот про котозавров ничего ни в Ветхом, ни в Новом Завете не значится… Может, поэтому? Типа, что не запрещено, то разрешено?»
Кстати, вопрос на эту тему он до сих пор не додумался задать ни одному священнику. А зря. Пусть бы объяснили внятно. Или у Катьки бы поинтересовался в свое время. А то про Причастие спросил, а про зверье так и не сподобился…
С Катей, Пашкиной свояченицей, он частенько заводил разговоры о церкви и тамошних обрядах. Особенно после того, как причастился тогда, в девяносто восьмом…
Иван долго не мог понять, что произошло тогда с ним, когда он отведал из золотистой длинной ложечки с крестиком на конце пару грамм вина и размоченный в нем кусочек хлеба. Откуда в груди возникло, разливаясь по всему телу, неведомое тепло, от которого хотелось одновременно радоваться и плакать. Но не горькими, а чистыми благодарными слезами.
Он помнил, как после той литургии они все вместе пошли в трапезную при храме, обедать. Как его, Шаховцева, усаживали на почетное место, и местные женщины, прислуживающие при церкви, накладывали ему разнообразную еду, причем лучшие куски. Несколько здешних мужиков, отнюдь не чудных, а вполне нормальных на вид, от души подливали ему терпкого ароматного «Кагора». А батюшка лично поднял тост за «воина Иоанна», сказав, что лишь тот верен Христу, кто не прячется от армии, а по-мужски, «смирив страх и гордыню, несет нелегкий солдатский крест».
Все это было произнесено хоть и с некоторым пафосом, но одновременно просто и искренне. Иван сидел, донельзя смущенный таким вниманием к себе. А в душе продолжал разгораться, разливаться тот самый теплый свет…
Когда они вернулись домой, Шаховцев ушел на балкон и долго стоял, пытаясь понять, что произошло с ним в церкви. Почему его охватило такое чувство необъяснимого счастья. Счастья, от которого не было желания пуститься в пляс или сотворить еще что подобное, как бывало после сдачи сложного экзамена в Лите или когда удавалось добиться какой-нибудь неприступной красавицы… Нет, ему было просто хорошо стоять на балконе под свежим апрельским ветерком и тихо радоваться непонятно чему.
Его не тревожили. Все семейство Кропочевых, словно сговорившись, дало гостю вдоволь побыть наедине с самим собой, осмыслить и понять случившееся утром в храме…
Об этом он размышлял не один день, прислушиваясь к тому, что творилось на душе. А там все затихало. Но не в одночасье, а постепенно, день за днем. Так гаснет огонь, когда догорают поленья, а новых не подкладывают.
Поначалу Шаховцеву хотелось вновь обрести это ощущение благодатного покоя. Но для того было необходимо выбраться за пределы части, а потом почти два часа кряду читать малопонятные слова из молитвослова. Опять рассказывать священнику про грехи, отстоять утреннюю службу в переполненном душном храме. А стоит ли оно таких жертв?
Но все же Ивану было интересно: где же был источник той таинственной благодати? Неужели все дело в капле вина и крошке хлеба? Эта мысль долго не давала ему покоя, и, дождавшись, когда после майских праздников крестный вновь забрал его к себе на выходные, он решился и спросил об этом у Кати:
– Слушай, а каким вином у вас в церкви поят… ну то есть причащают?
– Каким? «Кагором», – без тени удивления отозвалась та.
– А каким конкретно «Кагором»? Их же много, – допытывался Шах.
– Ну если конкретно, то молдавским. Нам его папин армейский друг привозит. А что, хочешь попробовать?
− А что, есть чего?
− Ну да. Мы в основном все в храм отдаем, а себе чуть-чуть оставляем, чтобы по рюмочке, на Пасху или на Успение…
Катя вышла из кухни и вернулась с большой початой бутылью. Достала из буфета маленькую рюмочку, наполнила.
Вино и впрямь оказалось восхитительным.
− Слушай, а хлеб откуда берут? – продолжил он осторожно расспрашивать Пашкину свояченицу.
− Который в чаше со Святыми Дарами? Это же частицы просфор.
− Тех самых, что в церкви после утренней службы дают?
− Да, те самые.
− А эту, ну, запивку из чего делают?
− Ты тепло имеешь виду? Ну, это где как. Обычно в чайник с кипятком добавляют пару ложек того же вина. А у нас еще к тому же и немного клубничного варенья разводят.
Выведав «рецепт» Святых Даров и следующим утром, дождавшись, когда все семейство отправится на воскресную литургию, Иван поднялся с кровати и пошлепал к серванту, где хранилась емкость с тем самым молдавским вином. Затем принес просфору – они всегда водились у Кропочевых в красном углу на полке под иконостасом – и отрезал оттуда маленький кусочек.
Проделав все эти приготовления, он осторожно наполнил «Кагором» чайную ложку, положил туда частичку от просфоры. Проглотил. Выждав несколько секунд, запил. Долго прислушивался к себе, но не почувствовал ничего, кроме все того же вкуса вина и размоченного в нем хлеба.
«Надо же! Неужели все дело в церкви и этих особенных молитвах в алтаре?»
То, что в этом таинстве, называемом по церковному «Евхаристией», было что-то особенное, Иван понял еще в детстве, когда каждое воскресенье ходил с бабушкой в тамошнюю церковь и множество раз испытал на себе действие Святых Даров.
Началось все это в предпоследнее лето перед школой, когда шестилетнего Ваньку все-таки окрестили, вопреки протестам матери.
Ольга Григорьевна с самого начала была категорически против этой задумки, принадлежавшей, естественно, бабе Нюре. И не только потому, что мать была непримиримой атеисткой, выросшей в хрущевские времена, когда церковь начали гнобить куда сильнее, чем в лихие тридцатые. Родительница панически боялась: если кто-нибудь узнает, что Ваня крещеный, то сынишкина биография будет безнадежно испорчена.
Анна Степановна на это только усмехалась и отвечала, что в таком случае вся деревня давно уже была бы сослана в Сибирь, поскольку ее жители, от старой полуслепой бабки Ермолаихи до председателя совхоза, ходили в местный храм.
И это было правдой. Каждое воскресенье все село, от старых до малых, одевшись понарядней, шествовало на окраину деревни, где у кладбища притулилась старенькая, но еще крепкая церквушка. И там, внутри, среди золоченых окладов и мерцания лампад, можно было встретить и самых набожных из здешних стариков, и молодежь, приехавшую на выходные из города, и даже кое-кого из районного начальства. А уж тутошний участковый дядя Коля если не был занят по службе, то неизменно бывал на литургии и, стоя подле иконы Николая-Чудотворца, степенно осенял себя крестным знамением.
Как четверг был связан в сознании маленького Вани с баней, так и при слове «воскресенье» в мыслях тут же возникало строгое и торжественное убранство деревенского храма, стоящая за конторкой свечного ящика тетка Таня, а подле левого клироса – замершая ребятня во главе с Пашкой. Тогда большинство детей, приехав на каникулы, ходили в церковь вместе с дедушками-бабушками, и мало кто из родителей препятствовал этому. Это было удивительно, поскольку дома, в Куранске, на вечерни да литургии ходили в основном старики.
Впрочем, здешний храм сам по себе был особенным. Службы в нем не прекращались даже после революции, когда дорвавшиеся до власти троцкисты взялись за «поповщину» не на жизнь, а на смерть, разрушая церкви и монастыри и пуская в расход их обитателей. Но войновская церковь чудом уцелела и перед войной, и в войну, и после. Все эти годы в ней тайно венчали молодых, отпевали стариков, крестили младенцев, в том числе и новорожденную Олю Шаховцеву. И он, Иван, тоже был крещен в этом древнем храме…
Как рассказывала баба Нюра, поначалу она собиралась покрестить внука в первое же лето, когда дочь привезла годовалого Шаховцева в деревню, но Ольга Григорьевна и слышать об этом не хотела. Когда же бабушка пошла на хитрость и, сговорившись со священником, тайком понесла Ваньку в храм, то мать, почуяв неладное, бросилась следом и прямо в церкви устроила скандал. Утихомирить ее удалось лишь батюшке, отцу Иоанну.
Поначалу настоятель пытался объяснить ей, что ничего плохого в крещении нет, а даже наоборот, и даже пообещал, что не запишет, вопреки правилам, имя новообращенного в церковную книгу, дабы никто из властей не узнал о свершенном над ее сыном обряде. Но Ольга Григорьевна и слушать не хотела. В конце концов и отец Иоанн, и бабушка вынуждены были дать слово, что не будут больше пытаться тайно крестить Ваню. Во всяком случае, пока тот не подрастет и сам не захочет этого. На том и сошлись.
Скорее всего, мать была уверена, что она, подобно ночной кукушке, обязательно перекукует дневную – бабушку, с которой Ванька был лишь летом, а все остальное время проводил в городе, без воскресных походов в церковь и россказнях о каком-то мифическом Боге. Тем более что родительница постоянно твердила сынишке, что Его не существует. А, кроме того, тщательно высмеивала все, что было связано с религией. К примеру, специально привезя от бабушки старый церковный календарь, она выбирала фотографию самого неказистого на вид из служителей культа и показывала ее сыну со словами навроде: «Посмотри: борода как метла, а пузо, будто арбуз проглотил! Смешно, правда?» «Ага!» – хихикал в ответ Ванька, глядя на смешного дяденьку с картинки. «А ты посмотри, в чем он одет, – снова тыкала пальцем в книжицу Ольга Григорьевна. – Это же платье! А ведь платья только тети носят, правильно? Так что этот дядя даже на дядю не похож, а скорее на тетю с бородой!» «Ха-ха-ха! Тетя с бородой!» – заливался смехом маленький Шаховцев.
А еще она не уставала рассказывать всякие страсти о том, что происходит в церкви. Как тех, кто туда ходит, заставляют целовать грязный железный крест, на котором миллионы микробов, и люди потом болеют и даже умирают.
Четырехлетний Шаховцев, конечно же, верил маме, повторял за ней про «плохих бородатых дядек в юбках» и говорил, что никогда-никогда и близко не подойдет к церкви. Но наступало лето, и он отправлялся в деревню к бабе Нюре и Пашке, за которым ходил хвостом и на речку, и в лес, и в храм. Стоял среди других мальчишек, вслушиваясь в причудливые малопонятные слова речитатива священника и тягучее пение теток на клиросе, завороженно разглядывал красивые обрамления икон, под которыми мерцали разноцветные огоньки, и не чувствовал ничего плохого и страшного.
Кроме того после каждой воскресной литургии в приземистом доме рядом с храмом, который бабушка называла «трапезной», почти все село собиралось на праздничный обед. Ведь, как объяснил однажды Пашка, в конце любой недели по церковным правилам обязательно бывает какой-нибудь праздник. Потому каждую субботу местные тетки и бабули вовсю стругали салаты, варили супы, жарили мясо, пекли разнообразные вкусности, а следующим утром несли их на трапезу.
Наверное, это был самый приятный момент в хождении в церковь. Все от мала до велика рассаживались за длинным, во всю комнату столом, во главе которого усаживался священник со своей женой – ее все величали «матушкой». Все женщины наперебой предлагали друг другу и остальным приготовленные собственноручно кушанья, словно состязались друг с другом в умении стряпать. Наверное, нигде больше в детстве Ванька не ел столько разной вкуснятины!..
На фоне всего этого как-то сразу забывались рассказываемые мамой страшилки про церковь и ее обитателей. Тем более что здешний настоятель ну никак не походил на глупую и нехорошую тетку с бородой, а вовсе даже на умного и вполне добродушного дядьку, чем-то напоминающего воеводу из мультфильма. Да и вообще, там, где был его главный друг и защитник Пашка, Ваньке всегда было радостно и хорошо.
А креститься Шаховцев захотел в предпоследнее лето перед школой. Как-то он приметил, что незадолго до конца службы из узорчатых ворот выходит батюшка с красивой золотистой чашей, черпает длинной желтой ложкой и чем-то потчует сначала детей, а потом и взрослых. Когда же Ванька попытался вместе со всеми подойти и отведать этого неизвестного угощения, то его перехватила баба Нюра и мягко отвела внука в сторону.
− Я тоже хочу! – запротестовал было тот, но бабушка покачала головой.
− Нет, милый, тебе это нельзя.
− Почему? А они? – Ваня ткнул пальчиком туда, где к священнику выстроились в очередь остальные дети. – Им можно?
− Им можно. Они крещеные, а ты нет.
− А чего это они едят?
− Не едят, а причащаются. Святых Христовых Тайн.
Услышав про какие-то тайны, которых ему, единственному из всех, нельзя было узнать, Ваня разревелся так, что бабушке пришлось вывести его на улицу. Туда же, заслышав этот безутешный плач, выскочил встревоженный Пашка. Когда же баба Нюра объяснила, в чем дело, он озадаченно, по-взрослому наморщил лоб, а потом, о чем-то пошептавшись с Анной Степановной, присел перед рыдающим соседом и быстро утешил его, пообещав, что после обеда возьмет с собой Шаховцева на рыбалку на дальнюю косу.
Услышав это, Ванька тут же перестал плакать. Дальняя коса была в трех километрах от Войновки, среди лесной глуши, и туда взрослые не пускали даже старших мальчишек. Некоторые, правда, на свой страх и риск гоняли туда на велосипедах, но что был за смысл приезжать туда от силы на час, пока тебя не хватились домашние? А там водились не только пескари да прочая мелочь, как под берегом у деревни, но и плотва, голавль, а самое главное – уйма окуней и щук. Вот потому все пацаны дико завидовали Пашке, единственному, которому тетка Таня разрешала отправляться туда на целый день. А уж что говорить о Ванькиных ровесниках-шестилетках!.. Ему даже не верилось, что бабушка вот так просто отпустит его в такую даль, но та, к изумлению внука, позволила ему отправиться туда с Игнатовым, и не на пару часиков, а до вечера.
Наверное, этот день был каким-то по особенному счастливым: на выставленную Пашкой со вчерашнего донку попалась здоровенная щука, а Иван умудрился поймать солидного красноперого голавля. Потом они бултыхались в теплой, как парное молоко, воде и болтали обо всем на свете. В том числе и о тех самых «тайнах» из церковной чаши.
− Ну почему мне нельзя?– как и утром, канючил Ванька. − Это нечестно!
− Нет, Ванюха, все честно. Если человек крещеный и в Бога верит, это одно, − совсем как взрослый, отвечал Игнатов. – А если нет, то это ему только повредит.
− А можно мне, как и тебе, это… ну покрещаться?
− Не покрещаться, а креститься. Можно, но зачем? Ты же сам говорил, что Бога нет.
− Это не я, это мама говорила. А что, Он по правде есть?
− Конечно. Сам подумай: кто все это создал? Небо, землю, речку, солнце? Не могло же это само все появиться? Вот смотри, − Пашка кивнул на удочку, которую собственноручно соорудил для Ваньки. – Она же не сама сделалась. Помнишь, как мы эту палку в лесу выломали, потом стругали, леску, крючок привязывали?
− Конечно. Я тогда еще этим крючком укололся.
− Ну вот. А теперь представь: разве могло само небо, солнце появиться? Ведь это тоже должен был кто-то очень большой и сильный создать… Ну, то есть, сделать. Правда ведь?
− Ага, − чуть подумав, согласился Ваня.
− Так вот, все это сделал Бог. А те, кто говорят, что Его нет, они врут, потому что не хотят, чтобы все люди жили хорошо.
− Значит, и моя мама тоже врет?
− Нет-нет… − спохватившись, как-то быстро заговорил Пашка. – Тетя Оля, конечно же, хорошая. Просто ее плохие люди обманули. А если ты покрестишься, то сможешь ей помочь и ее защитить от этих плохих людей. Потому что тебе будет помогать сам Бог.
− А крестоваться – это больно?
− Нет, нисколечки. Ты же нырял сегодня со мною в речке?
− Ага…
− Не больно было?
− Нет…
− Ну вот, а тут тебя батюшка тоже в воду окунет, а потом помажет тебя миром – и все.
− Каким миром?
− Ну, это такая мазь…
− А она щиплется, эта мазь?
− Конечно же, нет.
− Ну тогда я хочу это… крестоваться… Давай меня быстрее покрестуем, а?
− Я же говорил тебе: не покрестуем, а окрестим. Конечно, можно. Только надо будет, чтобы батюшка, ну, то есть, наш отец Иоанн, разрешил.
Когда они вернулись домой и Ванька с порога заявил бабушке, что хочет сейчас же креститься, то Анна Степановна переглянулась с теткой Таней и сказала, что прямо сейчас не получится, потому что, во-первых, церковь уже закрыта, а во-вторых, к этому надо готовиться.
− Как готовиться? – бросился расспрашивать ее внук.
− Серьезно, Ванюшка. Для начала надо крестных найти. В первый черед – крестного отца.
− Отца? – удивился Ванька. – Папу то есть? Он же умер и его закопали…
− Это другой отец, милый. Новый.
− И как же его искать? Где он прячется?
− Надо его выбрать. Самого хорошего, умного и сильного.
− Сильного и хорошего? – переспросил внук. – Слушай, а давай Пашу тогда возьмем в эти… крестные папы. Он самый хороший и сильный!
− Павлика? – бабушка от неожиданности даже растерялась. – Ой, не знаю, внучек, благословит ли батюшка…
− Что это – «благословит»?
− Ну разрешит, значит… А может и не позволить − мал ведь он еще, Павлик…
− А давай мы его, батюшку, попросим! Сильно-сильно!..
Однако напрасно баба Нюра сомневалась. Когда на следующий день они все вчетвером – Ваня, бабушка и тетка Таня с Пашкой – пришли домой к батюшке, тот разрешил Игнатову быть крестным. Правда, перед этим священник что-то долго говорил ему, и сосед, став донельзя серьезным, внимательно слушал его, кивал в ответ, иногда о чем-то переспрашивая. А потом отец Иоанн подозвал к себе Шаховцева и очень строго спросил:
− Так ты серьезно хочешь принять Святое Крещение? Подумай еще раз.
− Ага, конечно… − Ванька аж удивился: батюшка разговаривал с ним, как со взрослым.
− Что ж, тогда запомни: с того дня с тебя спрос будет особый. Ведь принять Крещение – это как заново родиться.
− Родиться снова? – изумленно вытаращил глаза Ваня.
− Да, дружок. Потому что ты будешь уже не обычным мальчиком, а воином Христовым. А значит, ты должен стараться быть добрым, сильным, справедливым.
− Как Паша?
− Ну, в общем… − священник на миг задумался, а потом улыбнулся и закивал: − Да-да. Как Павел.
Ванька аж подпрыгнул от радости – стать таким, как лучший друг, он мечтал больше всего.
Крестили Шаховцева в субботу. Восприемниками – так по-церковному именовались крестные – были Пашка с теткой Таней. В памяти осталось, как сначала батюшка что-то долго читал нараспев, потом, повернувшись к выходу, все, кто был в храме, дули и плевали в невидимого сатану (это тоже объяснила потом внуку баба Нюра), а затем Пашка отчеканил наизусть длиннющую молитву. А после помог Ваньке раздеться и передал его священнику, который со словами «Крещается раб Божий…» поднял его на руки и трижды окунул с головой в купель – железный чан, похожий на огромный-преогромный бокал.
Вода была совсем не горячей, а даже чуть прохладной, но Шаховцеву показалось, что она обожгла все тело, снаружи и изнутри. На миг заложило уши, ослепило глаза, сперло дыхание. Он очнулся только тогда, когда вновь оказался в крепких руках Пашки, обернутый мохнатым полотенцем. На шее неведомым путем оказался крестик на тесемочке, следом Ваньку обрядили в длинную, до колен, сорочку.
Потом отец Иоанн мазал ему кисточкой лицо, грудь, руки и ноги. Затем ходили вокруг купели со свечками в руках. А под конец батюшка взял Ваню за руку и через боковую дверь завел в алтарь, куда никогда не входил никто, кроме самого настоятеля и дьякона. Там настоятель вручил Шаховцеву булочку, которую назвал «просфорой».
Но самое главное было то, что, придя в себя после окунания в воду, Ванька вдруг заметил, что все вокруг стало другим. Свечи и лампады стали гореть как-то ярче, пение церковного хора стало звучать не тянуче-занудливо, а торжественно и красиво, и даже лики на иконах, прежде казавшиеся обычными картинками, вдруг ожили и глядели на маленького Шаховцева по-доброму, с любовью. Как мама, бабушка, Пашка, тетка Таня…
Те два дня так и остались в памяти как большой и какой-то особенный, самый счастливый праздник. И субботнее крещение, и воскресное причастие – «Причащение Святых Христовых Тайн» − как назвал это действо отец Иоанн. В то утро, когда он вынес из алтаря чашу, все, кто были к ней в очереди, расступились, пропуская Ваньку. И он, ведомый Игнатовым, поднялся на возвышение, где стоял батюшка с дьяконом, с каким-то радостным трепетом глядя на каплю красной жидкости в той самой длинной золотистой ложечке… Святые Тайны имели какой-то особенный вкус: и не сладкий, и не горький, а терпко-обжигающий. А после Ване показалось, что внутри него зажегся живой огонек, наполняя сердце какой-то доселе неизведанной радостью.
Так повторялось каждый раз, когда он причащался. Ради этого чувства можно было смириться со всем: с тем, что накануне нельзя было пить парного молока, а утром приходилось вставать ни свет ни заря и, не евши, не пивши, идти в храм. Зато потом маленького Шаховцева буквально распирало от переполнявшего счастья.
Такое же счастье было и на лицах тех, кто отведывал вместе с ним в воскресенье чудного снадобья из церковной чаши. Пашка говорил, что это сам Христос вместе со своими Святыми Тайнами поселяется внутри человека, давая ему новые силы. А баба Нюра просто называла это «Божьей благодатью».
Эх, куда она потом подевалась, эта благодать?..
13
Шаховцев допил кофе и вышел на балкон. Вдалеке искрило, шумело шоссе, внизу, за бетонным забором, сгрудились милицейские машины. Кажется, там располагался батальон ДПС – так вроде говорил Санька, когда на новоселье, разморенные от водки и разносолов, они стояли тут, глядя вниз на подернутый осенним золотом лес…
Справа от перелеска, грубо подрезая его, пролегала дорога, по другую сторону которой топорщились острые крыши коттеджей. Чуть дальше темнела куполами маленькая медово-желтая церквушка, казавшая отсюда совсем крохотной – возьми в ладонь, чуть сожми, и сверху останется только золотистый хрупкий крестик…
Шах вдруг испытал непреодолимое желание вырваться наружу, пройтись по лесу, вдыхая полной грудью ни с чем не сравнимый дух весны. Майский, свежий, предпасхальный. А потом, может быть, зайти в храм…
Он почувствовал, как его словно тряхнуло током. Это ощущение было настолько острым, пронзительным, что он невольно отступил назад, в спасительную пустоту квартиры.
Сердце бешено бухало, словно он, как в армии, пробежал километр в бронежилете. Руки мелко подрагивали, будто перед этим он только-только выпустил из них штангу, которую тягал, жал, толкал до полного изнеможения.
Вытерев со лба мелкую холодную испарину, Шаховцев начал мысленно успокаивать себя, внушая, что все это напрасные страхи и что он оказался здесь, в четырех стенах, исключительно из желания побыть одному, «пересидеть» ситуацию. Что ему ничего не угрожает и в любую минуту можно свалить отсюда на все четыре стороны. Он свободен…
«А, собственно, что такое свобода? – вдруг подумал Шах и усмехнулся. – Надо же – тридцать четыре года прожил, а спроси меня об этом – не отвечу ведь… Хотя она для каждого своя и всегда разная… В детстве – это каникулы, когда не надо вставать ни свет ни заря и переться на уроки. В армии – дембель. Пусть даже у меня его и не было, как у других: с лобызанием знамени и торжественным выдворением из части…»
То, что он больше не солдат и может в любое время покинуть военный городок, Иван осознал на третий день после прибытия в управление, когда отсыпался в общаге после застолья с Кочубеем и Сан Санычем. В то субботнее утро его растолкал начальник пресс-службы, заявившийся на работу, чтобы забрать машину, которую по причине вчерашнего вынужден был оставить у КПП и ехать домой на трамвае.
− Как самочувствие? Головка не бо-бо? – весело подмигнул он хлопающему спросонья глазами подчиненному.
− Никак нет, − хрипло и заметно виновато отозвался Шах.
− Тогда умывайся, одевайся и гуляй! Чего в такую погоду в части сиднем сидеть?
После ухода начальника Шаховцев наконец осознал, что теперь он может смело выходить за КПП когда захочет. И даже не возвращаться на ночь. Главное, чтобы в понедельник, к восьми, быть на утреннем построении. А так – топай на все четыре стороны.
Все еще не веря в это, он умылся, натянул купленный матерью к демобилизации джинсовый костюм (Ольга Григорьевна очень хотела, чтобы сын увольнялся и ехал домой не в убогом казенном мундире), сунул в карман военный билет с пропуском и вкладышем для бесплатного проезда, запер комнату и с волнением пересек проходную, подсознательно ожидая, что его сейчас окликнут и спросят увольнительную.
Но стоявшие на КПП бойцы равнодушно пропустили Ивана, и он, толкнув металлическую дверь, оказался на залитой солнцем улице, среди редких неторопливых прохожих.
Едва сдерживая себя, чтобы не помчаться от безумного ощущения долгожданной и безраздельной свободы, он зашагал по направлению к метро, лихорадочно соображая, куда бы рвануть: к крестному или на Добролюбова. Но после, поразмыслив, выбрал общагу.
В тот вечер он успел не только отзастольничать до счастливого забытья, но и там же, в общаге, частично решить вопрос о восстановлении в институте. На втором этаже жил заочник курсом старше, трудившийся в деканате методистом. Он-то, заглянувший на праздник, и продиктовал Ивану нужное заявление, забрал его с собой и уже после, в понедельник, передал начальству.
К сессии, начавшейся в середине октября, Шах оказался подготовлен не хуже новых однокурсников. Влад и еще несколько прежних приятелей по дневному снабдили его контрольными и курсовыми по всем предметам, которые сами давным-давно сдали. А новые соученики-заочники выручили со шпаргалками.
В первый же день с утра декан, зашедший перед лекцией в аудиторию, представил студентам нового сокурсника, «исполнявшего ратный долг и ныне оставшегося в строю» − как высокопарно, с изрядной долей иронии выразился сам доцент, кроме руководства «заочкой» читавший лекции по русской литературе.
Эти слова произвели на студентов, а в особенности на студенток впечатление. Все время, пока шла «пара», Иван ловил на себе изучающие взгляды, а в перерыве, в курилке, к Шаховцеву сразу же подошел помощник старосты курса. Познакомиться и ввести в курс всех дел.
Помощник – невысокий крепкий живчик с вечно смеющимися глазами и причудливым перстнем на левой руке – носил фамилию Княжич и редкое имя Дэнни. Как рассказывал сам обладатель заграничного имени, ему посчастливилось родиться в Лондоне, где отец с матерью в те годы трудились в советском торгпредстве. Вот и назвали сынишку в честь одного из своих тамошних знакомцев.
Княжич был старше Ивана лет на шесть и держался с ним с едва заметным превосходством. Хотя, по правде сказать, это было не превосходство, а ненавязчивая дружеская забота. Впрочем, так он относился ко всем своим однокашникам, и они платили ему той же монетой: почти каждый с курса подходил порой к Дэну за советом, а девчонки и вовсе бегали к нему тайком поплакаться, пожаловаться на жизнь.
Кстати сказать, здешние дамы во многом отличались от вчерашних школьниц с дневного. Прежние однокашницы, как правило, делились на две категории: те, кто терпеливо ждал вожделенного принца на белом коне, и другие, куролесившие с каждым приглянувшимся парнем, дабы нагуляться вволю. Впрочем, первых было все-таки больше. Заочницы же в основной своей массе оказались куда взрослее и прагматичней. Хотя и тут хватало романтичных до безумия особ, готовых кинуться с головой в омут амурных приключений…
В отличие от «дневников» заочники съезжались в институт лишь два раза в год на сессию. Но и за эти три-четыре недели на курсе успевали вспыхивать короткие, но страстные романы, слезные расставания. Не редкостью были ссоры между девушками, не поделившими между собой очередного приглянувшегося парня, – кавалеров на курсе училось чуть ли не в два раза меньше, чем дам. Вот почему появление Шаховцева тут приняли с большим оживлением, а некоторые из будущих писательниц на первой же лекции уже вовсю поглядывали на него с вожделеющим интересом.