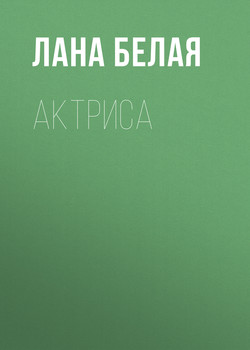Читать книгу Актриса - Лана Белая - Страница 1
ОглавлениеПредисловие
Каждый раз, обращаясь к истории жизни того или иного человека, живущего со мною рядом, я задаю себе вопрос: Почему?
Почему мы сегодня поступаем не так, как вчера?
Почему мы, выбирая однажды какую-то профессию, не связываем с ней потом свою жизнь?
Почему нам в жизни приходится играть несколько ролей, и всегда ли мы с ними справляемся?
Эту книгу я посвящаю удивительному человеку, коллеге, хорошей матери и жене, дочери, всю жизнь ждущей материнской любви, ищущей её в каждом и дарящей её любому нуждающемуся. Наступающий день приносит ей новые роли, а она, меняя маски, выходит на подмостки снова и снова, ведь для неё всегда горит свет рампы.
– Жемчуг, который я буду носить в первом акте, должен быть настоящим.
– Всё будет настоящим: и жемчуг в первом действии, и яд в последнем.
Глава 1
Воспоминания
Марина Арнольдовна очень любила заниматься спортом. Не то, чтобы до умопомрачения, но в тонусе себя старалась держать. От пробежек по дорожкам парка она не худела, да и ноги стали распухать и побаливать, поэтому был найден другой способ, который должен был привести к изяществу формы.
Она осенью лихо гоняла на велосипеде в соседнем парке, а зимой – на лыжах там же. Наступила весна – время для посещения бассейна, но вот только уже не для неё.
Она теперь лежала и думала: «Почему так быстро рушатся за̀мки? Ведь её был вовсе не из песка…
Да при чём здесь песок? Она не знала. Но в голове часто и долго носилось это слово: песок, песок, песок…
Марина заставляла себя не сходить с ума, поэтому дружила со своей головой, поддаваясь на всякую, хоть немного здравую мысль, но только никак не связанную с её здоровьем.
– Учёные открыли метод прочности строений из песка, – кто-то в палате прочитал вслух выдержку из газеты.
– Всё дело в малом количестве воды, – отозвался другой голос.
– Если её будет слишком много или, наоборот, слишком мало, то здание всё равно не будет держаться и скоро обрушится, – добавил третий.
– Сколько же нужно воды, чтобы всё было идеально? – вступила Марина в разговор, – возможно, всего один процент, а, может, больше.
Она не знала, сомневалась, поэтому решила воспользоваться помощью лечащего врача, который только что пришёл на осмотр больных или выздоравливающих в своей палате.
– Как думаете, доктор? – подключила Марина его к диалогу.
– Думаю, что всё зависит от материала и технологий, а если дворец рушится, значит, не то взяли за основу.
– Я что, ошиблась в строительстве, раз всё у меня рушится?
– Наверное. Но вы не расстраивайтесь.
– Как же! Будешь тут спокойной с моими-то проблемами!
– Понимаю: иногда непросто признавать свои ошибки.
– К сожалению, мало кто учится на своих ошибках. Это вам не орфография с пунктуацией, здесь ребусы посложнее. Сама жизнь строит козни. Ну а если честно, то очень сложно начинать с нуля.
– Рассуждаете философски, значит, справитесь, – подвёл черту доктор, присаживаясь на краешек её кровати и заглядывая ей в глаза, которые она закатывала вверх.
– У меня нет выбора.
– Тогда слушайте. Гарантий не даю, но если будете умницей, жизнь наладится. Всё в вашем «супермаркете», – погладив её по голове и дав понять, что это и есть главное хранилище дурного и доброго, – врач обнадёживающе говорил о её здоровье, – а если конкретно о вашем глазе, – продолжал он, – то в течение трёх-четырёх недель нельзя тереть его, желательно вообще не прикасаться к нему. Вы меня понимаете? Даже в пасмурную погоду следует носить тёмные очки, – давал инструкции доктор одну за другой.
– Да, я постараюсь, – несмело отвечала Марина, глядя в белый потолок, и размышляла: она видит или нет? Хотя второй её глаз показывал то же самое – белую простыню сверху, а вернее, всё тот же потолок.
– Посмотрите на меня. Вы любите баню? – немного странно для неё прозвучал вопрос.
– Иногда, – равнодушно ответила она.
– Даже иногда я вам запрещаю это делать.
– Подумаешь! Боль неопасная!
– Вот и славно. Косметикой по мере возможности не пользоваться.
– Красоту ничем не испортишь, – ответила на это Марина и расплакалась. Она себя никогда не считала красавицей, а уж теперь тем более.
– Ну-ну, вот это категорически нельзя делать. И занятия спортом придётся ограничить. Вы меня слушаете? Вы спортом занимаетесь? Ваш муж рассказывал, что вы лыжница непревзойдённая?
Что было ответить ему, если этот спорт её и подвёл под монастырь! Однажды зимой Марина решила отправиться с учениками в лыжный поход. И вовсе не потому, что она неровно дышала к спорту, просто в это время приехала в гости мама. Та самая Инесса, которую даже соседи во дворе, где жили Марина с Димой, побаивались, поскольку она, как анчар, источала только яд в разговоре на любую тему, заведённую жильцами дома, сводя всё к самолюбованию и уничтожению окружающего.
Марине, как и остальным, в одном пространстве находиться с ней становилось совсем не по душе. Вот она и находила повод умыкнуть из дома по веской причине.
«Работа», – говорила она. И все разводили руками, мол, ничего не поделаешь. У Инессы тоже выбора не было. Не станешь же грудью к двери, не запретишь. Это раньше она могла перегибать палку, а теперь только доставляла неудобства, надоедала нытьём, а иногда попиналась в прошлое, доводя дочь до истерик. Вот тут-то Марина и делала финт ушами, произнося снова ключевую фразу: «Я на работу!»
Итак, поход должен был свершиться непременно на лыжах. Ведь зима располагала к этому. А снаряжение Марины хранилось в дачном домике, как и всё сезонное в связи с малой площадью квартиры: пустые банки, оставшиеся от заготовок для зимы, ящики деревянные, которые Дима раскручивал и делал из них полочки на балконе и шкафчики в сарае для всяких надобностей, старые вёдра с поломанными ручками, из которых летом мастерились украшения в виде мухоморов для грядок с тюльпанами. Ни дача, а склад. Вернее, свой, отдельный мир, ожидающий хозяев, время от времени приезжающих по своей нужде.
Теперь же отправились туда Марина с мужем на машине за этими злополучными лыжами. Дорогу замело, но двигаться было непременно нужно. «Очередной рекорд как же без лыж устанавливать?!» – подгоняла Марина. Муж не спорил и ехал, вопреки желанию своему. Позже он в душе себя ругал, что не противостоял просьбе жены. Но это было потом.
А сейчас они приехали на дачу, и ему пришлось откапывать подход к воротам. Дима сразу начал этим заниматься. И куда было ему со своей ногой после инсульта лезть на чердак? Марина без труда это сделала сама. Поспешала, суетилась, то с лестницей провозится, то споткнётся обо что-нибудь, давно валяющееся под ногами и только загромождающее пространство.
Злилась, что время теряет на ненужные мелочи, которые, как будто все разом, по чьей-то команде, тормозят достижение желаемого. Хотелось быстрее получить его, но как специально отжившие век вещи цеплялись за неё своими уголками, гвоздями, щепками, нитками.
А чердак звал. Именно там хранились её старенькие лыжи, бережно вставленные одна в другую, слегка перевязанные по кругу верёвкой и подвешенные под самый потолок.
Добравшись до них, Марина тянулась, тянулась и смогла ухватить только за нос одну из них, как она тут же выскользнула и покатилась вперёд, прямо на пыхтевшую от трудов хозяйку. Та не успела увернуться, и лыжа вскользь юрзанула в лицо, ударив прямо в зрачок. Да так сильно, резко, что темно стало везде, в обоих глазах.
– Ой, Дима, скорее, сюда, – закричала она от боли, но Дима возился с делами, чистил снег во дворе, ничего не слыша. «Долго её нет, что-то тут не так!» – подумал Дмитрий. Спустя ещё какое-то время, почуял неладное и двинулся в дом навстречу жене.
Внутри было холодно, мебель завалена вещами, а на кровати лежала Марина. Приблизившись к ней, он осторожно спросил:
– Ты? Что случилось? – увидел её лежащей без лыж, прикрывающей глаз шапкой, стянутой с головы. Дима опустился на колени, чтобы рассмотреть лучше, что случилось.
– Я, кажется, выбила себе глаз. Очень больно, – едва повернув голову в его сторону, сказала она.
– Чем это ты умудрилась? – недоумевал муж.
– Любимыми лыжами…
– Покажи.
Она убрала шапку от глаза, и Дима увидел пелену совершенно белую на зрачке, задрожал весь от волнения, но жене об этом не сказал:
– Глупенькая, что зря всполошилась. Глаз на месте, всё цело.
– Почему же я ничего не вижу?
– Это шок. Не волнуйся. Давай скорее в больницу, – командовал муж, уже совершенно забыв про лыжи, поход и зиму, а уж тем более про тёщу, – вот, приложи пока к глазу, – и подал жене ложку, совершенно холодную, найденную в ящике старого кухонного стола.
– Думаешь, что отёк будет или синяк?
– Это моя первая немедицинская помощь. Голова не болит?
– Болит.
– Это вызвано, скорее всего, стрессом от удара. Мариша, поспешим к врачам, – пытался Дмитрий говорить строго и уверенно, чтобы Марина ему поверила и не поддавалась панике.
Никто из них и не думал теперь ни о спорте, ни об удовольствии, а лишь о том, как быстрее добраться до больницы. Но это удалось сделать не сразу.
Снег валил, заметая дорогу, и Дима, выбегая поспешно из машины, насколько это было возможно в его состоянии, периодически прочищал путь, чтобы они смогли выбраться на трассу. А потом он привёз её в больницу и всё рассказал врачу в приёмном отделении. И о жизни, и о лыжах, и о тёще. Это спонтанно как-то случилось с ним, вылилось одним потоком сразу на постороннего человека, который то и дело спрашивал Дмитрия о чём-то другом, но он не слышал умных вопросов врача, а говорил о своём, с годами наболевшем, как психологу-терапевту, облегчающему душу пациента при каждом сеансе, доказывал, что Марина не виновата.
Операция, реабилитация, посещения…Она лежала в палате, где было время подумать обо всём, что с ней уже произошло.
Прошлое, куда от него денешься? Казалось, что она к нему никогда больше не вернётся, а получилось, что оно всегда с ней рядом. Так и трётся, напоминая о себе. И картины одна за другой сменялись в уме Марины, как в её нелюбимом фильме под названием «Воспоминания». Воспоминания о её суровой старости, неуклюжей молодости, несчастной юности и страшном детстве.
Её время утекало сквозь слух, зрение, пальцы, а воспоминания всё жили. За̀мок рушился всё равно, а она из прекрасной когда-то принцессы превращалась в Золушку. Но и эта роль ею сыграна давно. Что же теперь?
«Хорошо было бы поменять судьбу или выписать её дубликат», – думала Марина. И перед глазами, видящими теперь через раз, мелькали прожитые дни, как надоедливые, шустрые мошки. Об этом не хотелось думать, а вот о том, что было вчера, – легко, местами, даже сладко.
Дом из мыслей! Каково! Она, будто шла по мостику желаний. Марина не искала встреч с прошлым. Она боялась, что ей не хватит слов, которыми можно объяснить себе, почему ускользает то, что мы пытаемся иметь любой ценой, и, независимо от наших стараний, сохранить это неуправляемое движение.
Подобно ему, по коридору отделения кто-то спешно шёл в направлении её палаты. Она всё отчётливее слышала цоканье знакомых каблуков, и холод моментально закрадывался в сердце: «Неужели она?»
Да, по ритму шагов Марина поняла, что они по её душу. Голос тоже знакомый и нежелательный вопрошал уже совсем рядом, на сестринском посту, о месте нахождения палаты номер восемь, той самой, где сейчас находилась Марина.
Мать за время пребывания дочери в больнице ни разу не посетила её. Коллеги и то приходили несколько раз. Муж навещал каждый день. А матери не интересно было, наверное, что с дочерью происходит…
Оттого Марине ещё горше было не только на душе, но и везде, в каждом уголке её тела, потому что мать знала сразу ещё обо всём, что случилось, и не пришла, не пожалела, не посочувствовала, как это делают обычно самые близкие и любящие люди. А теперь явилась…
Зачем? Сейчас в этом нет никакой необходимости для дочери. Значит, снова пришла для себя! Развеяться решила, себя показать? Или чтобы снова нанести какую-нибудь травму в освободившиеся уголки души?
И Марина срочно решила сбежать из палаты, постаралась даже не увидеться с матерью. Услышать её очередные намёки о никчемности жизни? А смысл? И так гадко было на душе. Тяги к ней, грубой и жестокой матери, она давно уже не испытывала.
– Я в процедурный, – быстро сползла с постели, объявив остальным.
– Зачем это? Ты же только была там недавно, – недоумевала соседка в палате.
– Надо. Меня вызывали, – показав хвост больничного халата и прихватив коробочку ампул из тумбочки для правдоподобности, вылетела из палаты. Благо, ноги её не были повреждены и указаниям хозяйки повиновались безропотно.
Ровно через минуту в проёме двери показалась пожилая, но бодрая женщина:
– Где тут моя одноглазка? – указывая на пустую постель, поинтересовалась она.
– А, вы кто? – удивилась соседка Марины по лёжке.
– Для вас никто! – отрубила навязчивую бабёнку Инесса.
– Тогда и нечего ждать ответа на свои дурацкие вопросы, – той же монетой получила тут же любопытная Инесса.
– Фи, как грубо. Вас тут, видимо, совсем не лечат. Или делают это абы как, раз вы такие нервные.
– На себя бы лучше посмотрели, – больная пыталась добиться того, чтобы незваная гостья как можно быстрее ушла туда, откуда явилась.
Но Инесса ждала дочь, присев на стул возле постели. Проверила ящики тумбочки, посуду, бельё. Всем видом хотела показать присутствующим, что она медик со стажем, что всё в этом деле знает, но ни одного вопроса о состоянии дочери не задала находившимся там больным, которые, разинув рты, смотрели на необычную посетительницу.
А она не спешила побеседовать с лечащим врачом Марины. Просто сидела и говорила вслух о том, что запах неприятный здесь, что воздух спёртый, что из кухни дурно разит кислой капустой.
– Так вы бы пошли, прогулялись по свежему воздуху, раз здешний климат вам не по душе, – наконец-то, ответила ей женщина, лежащая у окна. – Может, вам дорожку подсказать?
– Спасибо, обойдусь, – обиженно ответила Инесса.
Получасовое ожидание дочери результата не дало. Тогда оставив два апельсина на тумбочке, она ушла так же, как и пришла, постукивая каблучками, а Марина стояла за дверью соседней мужской палаты с пальцем у рта, мол, не выдайте, братцы.
Разновозрастные больные, лежащие там, и не собирались этого делать, видя испуганную, нашедшую у них приют.
Охотливые всегда до женского пола сразу подняли интересные темы, но Марина была нема, как рыба, не давая себя обнаружить ни голосом, ни движением. Главное было не рассекретиться. Кто-то из пациентов выглянул в проём двери для подстраховки:
– Да ушла уже, дыши, не бойсь! – говорил он.
– Свекровь что ли? – поинтересовался другой, самый пожилой из всех, серьёзно поведя бровью.
– Мать, – правдиво и резко ответила она, совершенно не стыдясь такой откровенности.
– Бывает, – сожалел лежащий у двери.
– Видно, только у меня такое случается.
– Не горюй, дочка, справишься, – подбадривал другой, – ты ещё молодая, всё поймёшь. Главное: слушай сердце.
Но Марина услышала пока только шум за дверью. Выглянула украдкой и удивилась. По коридору двигалась ватага ребят. Они спешили, заглядывали во все палаты по пути. На том же посту, повстречавшись с Инессой, пошли каждый в своём направлении: она от не встреченной дочери, а дети к любимому учителю.
Как только узнали в школе, что Марина Арнольдовна пострадала, слух дошёл и до учеников, вот они и наметили посетить её. Так и сделали дружной компанией.
И Марина, обрадовавшись детворе, вышла из укрытия, обещая своим спасителям обязательно справиться. «Школьные учителя обладают такой властью, о которой премьер-министрам остаётся только мечтать», – говорил Уинстон Черчилль. С ним-то всё ясно и понятно. В политике не существует правил чести и благородства – это неоспоримый факт. Власть же учителя основана на честности и доброте, а не на расчёте и выгоде, умении манипулировать людьми.
Школьные учителя обладают множеством качеств: терпимость, выносливость, широта души. Но важнее всего, что у них есть, – возможность заложить определённые знания человеку ещё в самом детстве, что позволяет управлять людьми и иметь над ними власть в дальнейшем. Так и делали некоторые.
Марина Арнольдовна была особенным учителем. Она никогда не пользовалась услугами высокопоставленных родителей. Не просила мяса у торгующих им на рынках, не требовала фруктов и конфет взамен на положительные отметки их детям, не ходила в рестораны, где были хозяевами родители учеников, не клянчила талоны у врачей на посещение кабинетов стоматолога или другого специалиста в момент, когда была в этом острая нужда. Нет, она просто любила их детей, как родных. И они действительно становились ей родными.
– Марина Арнольдовна, ура! Вы живы! – кричали дети наперебой, уже увидев её, идущей по коридору больницы к ним навстречу.
– Конечно, куда же я от вас денусь? Я теперь никуда. Ну, разве только в очередной поход, – пошутила она, уже обнимая заждавшихся её внимания учеников.
– Вот! И я о том же. Нас не то, что в поход без вас, даже на спектакль не отпускают. Говорят, что без классного руководителя нельзя. Мол, не положено ни под каким видом. Когда вы покинете эти тусклые стены и вернётесь к нам, в мир вечного веселья? – шутил балагур Илья.
– Думаю, что на днях. Чувствую себя превосходно, соскучилась без работы, – улыбалась им Марина Арнольдовна.
– А без нас? – удивился Максим, которого она ни раз спасала своим авторитетом из трудных жизненных ситуаций.
– Без вас ещё больше!
– Здорово. Значит, мы идём в театр?
– Нужно ещё репертуар изучить, – не спешила Марина.
– Приезжает известный режиссёр со своим новым спектаклем.
– Какой такой известный?
– Тот самый, о котором вы рассказывали нам, Алексей Брунов, представляете!
И Марина остолбенела. Как? Это же её Лёшка! Тот самый! Значит, стал-таки известным и знаменитым. А она ничего не знает до сих пор об этом?
«Забыл! Обиделся на прошлое!» – стучало в её голове. – Надо Диме сказать», – подумала она, вслух же сказала детям:
– А как же билеты, наверное, будет не достать?
– Плохо вы нас знаете! Мы же уже и на вашу долю приобрели парочку. Вот! – протянула Лилька.
– И как тебе это удалось?
– У Лильки, как выяснилось, сестра тётушки в костюмерной там с прошлого месяца работает. Организовала нам, – перебивая, уже, было, начавшую рассказ Лильку, сказал победно Максим.
Лилька, будто подвиг совершила, стояла в первом ряду и улыбалась, довольная собой.
– Как же я люблю тебя, Лилечка! – привлекая её в свои объятия, приговаривала Марина и думала уже о предстоящей встрече с Лёшкой, юностью, прошлым.
– И мы, и мы хотим любви и ласки! – шутили ребята, шумно галдели и по примеру учителя старались обнять Марину Арнольдовну так же, как она Лильку.
С Лёшкой встреча не состоялась, потому что Дима не захотел и убедил в этом Марину, хотя изначально планировал тему разговора, даже бутылочку «красного» купили по пути, думали, что за кулисы зайдут после спектакля и найдутся минуты для взаимных комплиментов. Розы красные выбирали в «Цветочном рае», не пожалев денег на шикарный букет. Но когда зрители кричали по завершении представления: «Бис, браво», – никто из них двоих не тронулся с места. Они даже не обнаружили себя, когда Алексей выходил на сцену после спектакля на поклон.
– Ну что же Вы, Марина Арнольдовна? Самое время цветы дарить, а то он сейчас уйдёт, – торопила учителя сидящая рядом Диана Левшина.
Марина медлила, тянула и вдруг:
– На, иди ты, скорее, – и всучила ей этот красивый и дорогой букет свежих роз.
– Как же? Почему, – недоумевала Диана, но букет схватила и побежала на сцену.
Марина стояла вместе с восхищёнными игрой актёров зрителями и аплодировала, а детские слёзы взрослой женщины катились из её глаз тихо и беспощадно в то время, когда Лёшка обнимал Диану, дарившую ему букет её роз.
Ну, вышла бы она сама? Ну, узнал бы он её! А о чём было говорить? Всё получилось совсем не так, как прочил для неё Лёшка. А Дима вообще, сконфузившись, чувствовал ещё большую неловкость, чем жена.
Придя домой, она не могла ничего делать, только вспоминала, вспоминала, вспоминала. Его, сидящего в одиночестве сначала за школьной партой, потом с сияющим взором играющего с ней на сцене, а позже стоящего у подъезда с опущенными руками, провожая её с семьёй из родного города навсегда. Сегодня она видела его другим, утопающим в славе, знаменитым. Радовалась за него и почему-то жалела себя. Жалела за то, что когда-то была слабой, что такой и осталась до сих пор. В первый раз в жизни стало противно, что способность сопротивляться неприятностям она не выработала в себе раньше.
Глава 2
Необходимость
Живёт на свете человек: взрослеет, умнеет, мечтает, но никогда не знает, куда повернёт его жизнь завтра. Какая грань его самого откроется миру? Что в его характере проявится в большей степени: добро или зло? Как мир будет реагировать на подобное явление? Примет или отторгнет его?
Иногда думается, что ты прирождённый пекарь, и твоё предназначение – накормить людей. На поверку получается, что муко́й в твоей жизни и не пахнет, лишь му́ка, сплошная причём. Но куда деться от того, что предписано тебе небом? Звёздное оно или нет, какая разница. Это огромное небо, под которым люди плачут и смеются, влюбляются и расстаются, теряя друг друга навсегда, видело всякое.
А сегодня смотрело глазами сияющих звёзд так ярко и удивлённо сверху вниз на бредущую по скверу молодую женщину, что и она заметила это, задравши свои глазищи с мольбой о пощаде или хотя бы облегчении её непростой участи.
И небу захотелось пролиться грозовым дождём. Может, чтобы смыть эти печали, обнимающие Марину. Но тужилось зря. Только яркий свет получался вместо слёз, и всё.
Светило небо ей, подмигивая каждой звездой, и ни одна капля не посмела упасть на её голову, и без того озабоченную. Видно, что не спешила гуляющая домой, просто бродила бесцельно туда-сюда.
«Одинокая», – подумала одна звезда. «Несчастная», – решила вторая. Так между собой переговаривались ярко живущие существа, наперебой гадая: «Ищущая, ожидающая, бездомная, вдохновлённая, уставшая, обиженная, праведная, нелюбимая, богатая…»
А она тем временем, не слыша ничего, присела на лавочку. Думала о чём-то своём, далёком, сначала любуясь плавающими утками в реке, но потом видимое становилась всё размытее и неотчётливее. Веки смежались, и неожиданно для себя она придремала от усталости и мягкого тепла, окутывающего её тело.
И только Марина прикорнула, как какой-то голос извне увёл от наплывающих картинок сна воображение дремавшей:
– Дамочка, доброго вечера, – разбудил её дворник, сметая листву с дорожек и удаляя мусор из урны, готовя парк к утренним гостям, спешащим по этим дорожкам на работу.
– И вам не хворать, – подскочив, как ужаленная, понеслась она домой, в спешке, глядя на часы, и в ужасе, что стала засыпать почти на ходу от усталости.
Марина Арнольдовна, обладающая женской интуицией и мужской работоспособностью, жила неподалёку, частенько в этом парке гуляла со своей собакой. Место её работы было тоже в этом районе. Она любила эти места, свой дом, семью.
Эти понятия, именуемые некоторыми умниками «ценностями», всегда были для неё первостепенными. С удовольствием украшала свою жизнь, делая для мужа и дочери всё, чтобы они ощущали счастье. Но была ли таковой сама, очень сомнительно.
С некоторых пор, то ли с возрастом, то ли с рядом произошедших событий, Марина стала уставать, будто вечно несущий свою тростинку муравей, постоянно летающая в поисках пыльцы пчела, тягловая лошадь после изнурительных пахотных работ – всё это одновременно в одном порыве сливалось в ней.
Но иногда будто тукал кто-то в темечко молоточком о том, что хоть изредка, но надо бы и отдыхать. А когда? Да и зачем? Лучше быть занятой, чтобы и минуты не было свободной – так ей казалось легче переносить тяжёлые мысли. И поделать-то с жизнью сегодняшней ничего нельзя было. Изменить её течение тоже не представлялось возможным. Вот и тянула лямку Марина из года в год.
Со временем привыкла к такой жизни и считала её сложившейся и даже неплохой. А то, что доход семейный складывался только из её заработка, в восторг не приводило, но зато она чётко знала: сколько и куда можно потратить. Все расходы были под её неусыпным контролем. Но когда они превышали допустимые возможности, Марина включала все маховики своей рабочей машины, и этот механизма был безотказен.
Она бралась за любую работу, которая приносила ей прибыль. Маленькие и крепкие руки умели делать всё, что только не начинали. К чему прикасались, то непременно оживало, радовалось и играло на разные голоса. Как это у неё получалось? Каким секретом она владела? Неважно ужѐ. Важно было другое.
Кругленькая, низенькая, она как воздушный шар, медленно и верно двигалась вверх по лестнице жизни, как когда-то уверенно делал её муж. Именно так, а не иначе, себе представляла эту жизнь, и она рядом с ним: вперёд и вверх.
Её покладистый характер позволял везде, где бы она ни была, находить нужных людей, притягивая их к себе каким-то особым расположением. Марина всеми силами пыталась завести друзей, верных, добрых и преданных, какой считала себя и сама.
Но задуманное не всегда удавалось. Люди думали, что она лезет в душу без спросу, иные просто не понимали такой открытости натуры и ещё больше сторонились её. Но она не оставляла попыток снова и снова найти с людьми общий язык, быть с теми, кто близок по духу. Её удивительная способность дружить, сочувствовать в итоге делали своё дело.
Однажды коллегу по работе положили в больницу, поставили страшный диагноз. Марина, узнав об этом, дежурила в её палате ночами, чтобы та, не дай Бог, не удумала чего плохого. «Отравлюсь, – говорила, – кому я нужна теперь». «Дура ты, дура!» – твердила ей Марина и не бросала без присмотра.
Ни из-за чего-то, а просто так, потому что у неё было очень доброе сердце. Она всем помогала, только не все это замечали, и дружбу заводить с ней не торопились, но от помощи её не отказывались.
Вот и сейчас днями, пока нянечки были на месте, и можно было поручить болезную им, Марина бегала на работу, за себя старалась смену отстоять и подругу подменяла. Её никто, разумеется, об этом не просил. Сама понимала, что такое проблема и как её решать. Уставала? Да нисколечко! Силы её пополнял несгибаемый характер и вера в то, что она делает всё правильно.
А как же иначе?! Ей знакомо было чувство, когда остаёшься без поддержки и понимания в критический момент. Так тяжело бывает человеку, что он кидается в крайности.
Вот Марина и думала, что поможет другому пройти безболезненно тот путь, который когда-то выпал и на её долю. И помочь так, чтоб без потерь, потому что выкачивает недуг силы душевные, лишает жизни заживо. А когда есть поддержка, человеку легче справиться с бедой и стать на ноги.
Так думала Марина, но не догадывалась о том, что другие могут думать иначе, нежели она. Например, то, что случилось с ними, является только их личным достоянием, и выносить сор из избы у них нет желания ни сейчас, когда тебе хочется об этом рассуждать в силу опыта нажитого, ни потом, когда подвернётся случай напомнить о долге, который тебе в моральном смысле нужно будет вернуть. И вдруг они понимают, что кто-то является свидетелем этого случайного выноса мусора, какого-то недоразумения, нелепицы, истории, скрытой от посторонних глаз или болячек каких-то нежелательных, из-за которых все окружающие будут их жалеть. «Теперь, – думают они, – этот человек, нечаянный свидетель, знает о тебе всё или то, что другие не знают. О Господи! Куда бы деть этого человека, чтобы не видеть даже. И тем более не присутствовать при моменте, когда этот всезнайка всем всё про тебя расскажет. Долгое время ты так умело вуалировал нежелательную информацию от других, а благодаря его нечаянной болтовне вдруг в одночасье будет всё раскрыто».
Так вот, именно тот, о ком вы это знаете, перестаёт хотеть не только дружить с вами, возможно, совершенно избегает с той целью, чтобы этот тот, кто знает, и разговоры не заводил, не поднимал со дна муть информационную, не напоминал о том, что было.
Итак, есть в этом деле две стороны: одна та, с которой, собственно, всё и случилось, а вторая – очевидец произошедшего или соучастник. Первый хочет побыстрее забыть обо всём, второй – ублажать собеседника разговорами о том, как надо было делать, что именно предпринимать и как жить дальше с тем, что случилось. Это приводит иногда к тому, что в отношениях некогда очень близких людей происходит окончательный разрыв.
Каждый из двух сторон переживает случившееся с ним по-своему. Так произошло и с Мариной. Подругу она, не приобретя, потеряла, хотя сокрушалась очень долго, но позже оправдывала её.
У самой ведь тоже в жизни было много чего, о чём она не хотела бы никому сообщать, делиться подобными историями с другими – небольшая радость. Такое, наоборот, хочется спрятать подальше и не доставать подольше. И она понимала, глядя на подругу, которая таковой совсем недавно считалась, а теперь обходила её десятой дорогой, что поступила бы так же. Но как же жить дальше, ведь стены одного заведения, так или иначе, сталкивали их бок о бок.
После больницы подруга вернулась к работе и виделась с Мариной каждый день. Но общение было сведено к минимуму: здравствуйте – до свидания. И обеим приходилось вырабатывать новую тактику общения. С этой ролью Марина пусть и не сразу, но тоже справилась. Хотя осадочек остался в душе и у одной, и у другой. И только широта натуры помогла Марине не уподобиться злу, так и караулящему её на каждом перекрёстке событий. Но она выстояла, продолжая предначертанный путь далее, как и окружающие её люди, а в школе их было предостаточно.
Надо кого-то заменить: ребёнок заболел – пожалуйста! Марина всегда готова на такие подвиги. Кровь из носа поработать в выходной день ради престижа школы? Пожалуйста! Она рада за этот престиж постоять. В сверхурочные выйти, на совещание сходить, помочь дочери или сыну какой-нибудь коллеги справиться с непониманием материала, пропущенного по болезни – это ж святое дело.
«Безотказная», – говорили о ней одни. «Утверждается! Показывает себя, будто добренькая!» – утверждали другие. А она всё делала и делала порученное ей, сносу не было энергии такого человека.
Марина вообще никогда не сидела на месте, вечное движение – вот её кредо. Казалось, что такую «юлу» одновременно можно было встретить в разных местах: на конференции, на конкурсе, на выставке…
Работала она учителем уже около семнадцати лет. Делала это с огоньком, особым подходом, своим, творческим. Дети это чувствовали и просто обожали свою Марину Арнольдовну, которая отвечала им взаимностью: встречала с улыбкой, обнимала, как мать, каждого, ободряя успехи, и не журила в случае неудач.
Особенно ученикам нравились её театральные встречи, которые она устраивала сообща с ними, где каждому находилась роль по душе. Умела Марина предвидеть сущность человеческую. Ненавязчиво подталкивала детей к деятельности, профессионально у неё это выходило: каждого к своей роли вела она незаметно, исподволь. Многие из учеников, заканчивая школу, шли по её стопам. А получив профессию, приходили за советом опять же к ней.
Многие в коллективе, глядя на эту любовь, весьма противоречиво были настроены к Марине: одни сторонились, иные не понимали, третьи не принимали всерьёз. «Слишком уж много на себя берёт! Выпендривается!» – в итоге заключали они. Ну это ничего.
Она всё равно была на своём месте. Ответственная, выполняла множество поручений по службе, всё тащила на своих плечах. Сама себе даже казалась стойким оловянным солдатиком, мужу – вечной улыбкой весны, дочери – теплом всех песков необъятных пустынь, одновременно ранимой, милой, робкой, как дитя.
Как эта женщина могла попасть в террариум, на зону, в этот ад, по мнению многих? Кому-то, может, и ад, а для неё – спасательный круг, место уединения и возможности приложить свой талант. А попала она туда совершенно случайно.
Будучи ведущей театральной студии для школьников в театре кукол, имела группу увлечённых ребят, попадались и способные, одарённые природой к сценической работе.
Ходил к ней на занятия один юноша, очень артистичный. Ему удавались любые роли. «Прирождённый актёр,» – говорят о таких…
Играл он, на удивление всем, живо и реально, но в душе, как и у Марины, да и любого, наверное, жили потаённые мысли, неразрешимые вопросы. Постоянно жаловался он своей руководительнице, что уроки литературы в школе пропадают из-за частых болезней учителя. «Нет, вы не подумайте, учителя жаль, но мы-то за что страдаем?»
Марина удивлялась, вспоминая свою школьную жизнь, когда бывали редкие случаи болезни или отсутствия по другой причине учителей, и как этому радовались ученики: урока не будет! Значит, можно общаться с одноклассниками, читать книгу, да что хочешь делать – твоё время пришло, вдруг высвободившееся по счастливой случайности.
А тут на тебе: парень горюет даже, что не проходят уроки. Через неделю и вовсе сообщил о том, что теперь они, его любимые уроки, совсем не ведутся: учитель уволилась. И обмолвился о своей идее:
– Может, вы к нам хоть на время придёте? Вот было бы здорово! Вы и литература! Это же предел мечтаний для нас. Путёвых уроков не было месяц. А так хочется иногда пофилософствовать на свободные темы, а тебя – то снег чистить гонят, то спортивные снаряды разгружать, то ещё какую хозяйственную работу выполнять. Что мы, грузчики что ли?
А то, бывает, физика присылают на литературу к нам. Тоска, одним словом. С физиком разве поговоришь о Пушкине или Толстом.
– Как это? – изумлялась Марина.
– А вот так! Вам не жаль юное поколение, умирающее без искреннего русского слова? – ёрничал он, а Марина слушала и думала, думала и слушала. А он заливался соловьём о путешествиях Чехова, его больших и малых делах, утончённой натуре и глубине прозы.
– Мне-то жаль, но у меня же нет педагогического образования…
– А я папу попрошу, чтобы за вас потопал…
– Ну ладно, умник. Я подумаю.
– Пока вы будете думать, паровоз может сойти с рельсов, а лодочка отчалить от берега, тут расторопность нужна, – уже по-взрослому рассуждал он.
– И в кого ты такой умный?
– Да в папу. Он же у меня в школе и работает.
Ребёнок сказал и ушёл, а она задумалась. Но длились её размышления недолго. Произошло то, что подтолкнуло её к решительным действиям.
С тех пор её подиум у классной доски, а зрители – ученики средней школы, в которой когда-то учился её кружковец.
Сцена – вот место её полёта. Вдохновение и старание, талант и трудоспособность были её главными качествами. Хотя по сути, учитель – это тот же актёр, и наоборот.
Здесь каждый день новая роль, и зритель сегодня искушённее, чем вчера. Но Марине такие подмостки были к лицу. Публичность, к которой она привыкла в театре, нисколько не пугала в школе.
Как актер, так и учитель воздействует на чувства и ум зрителей-учеников, адресуясь к чувству, памяти, мысли, воле слушателя. И еще много схожих моментов: заразительность, убедительность, артистизм…
Все это как у актера, так и у учителя, может обеспечить успех.
Первый, допустим, в процессе репетиций, как и второй на уроке, должны обладать способностью яркого эмоционально-волевого воздействия. Нужно «захватить» интерес слушателей с первой секунды и держать до самого конца.
Не менее важно для учителя построить логику учебного процесса так, чтобы материал был воспринят и понят учениками. Актёр так же выстраивает драматургическую логику будущей роли. Вот и получилось, что Марина легко взаимодействовала с детьми и их родителями, потому что умела это делать по роду своей бывшей профессии.
Ни ссор, ни мелких разборок, как у других коллег, имеющих классное руководство, с ней не случалось. Очень наблюдательная, она переключала и фокусировала своё внимание в зависимости от ситуации.
Обычный человек никогда не задумывается во время разговора, как стоять или сидеть, как управлять голосом, но для неё речь, жесты, мимика всегда имели значение, поэтому при смене событий она меняла и направляла своё восприятие.
Таким образом, от работы никогда не уставала. Да и как от неё можно устать? Школа для Марины Арнольдовна стала образом жизни, необходимостью. Взяли её сразу, без раздумий и испытательного срока. Почему?
О таких говорят: «Позвоночники». Их берут сразу на работу, им предоставляют всё, что нужно только потому, что кто-то за них просил, то есть «звонил» нужному лицу, авторитетному. За Марину не просто звонил друг отца её подопечного, но и сам отец ходил к директору и убеждал его в обязательности иметь такое сокровище, как Марина Арнольдовна. Долго умное начальство убеждать не пришлось, дыру нужно было чем-то закрывать, вот директор и не раздумывал, взял Марину учительствовать.
Но хоть за Марину и просил отец ученика, она и без просьб соответствовала всем требованиям, предъявленным к ней новым руководителем, не подвела и благодетеля внимательная и умеющая угодить всем.
Трудоголики видны с дальнего расстояния. А уж при ближнем рассмотрении вызывают восторг и уважение у начальства. «Чего ж такую не взять – пусть целину возделывает!» – думал директор её нового места работы. Так и сказал об этом Марине. Вот она там и задержалась по сю пору.
Глава 3
Мать и отец
Инесса Юрьевна была весьма привлекательной женщиной. Но один недостаток вносил дисбаланс в её жизнь. Организм, привыкший к тёплому климату, очень остро реагировал на сквозняки.
Однажды на одной из прогулок по реке, которые каждый выходной устраивал для неё очередной муж, она, находясь на катере, стояла, обдуваемая ветром. Он баловался то её яркими локонами, раздымая их в разные стороны, а они стебали в глаза и прилипали к накрашенным губам, то норовя заглянуть под пышную шёлковую юбку-клёш, теребя её куполом вверх так, что хозяйке приходилось вскрикивать и обеими руками сдерживать подол от колебаний.
А иногда шалун-ветрище проникал под прозрачную шифоновую блузу в проём расстегнутых двух верхних пуговичек до самых лопаток, обнимая стан со всех сторон холодком и свежестью. А Инесса красовалась собой, выставляя все прелести то правой гранью, то левой.
– Спускайся внутрь, простудишься, – намекал ей муж.
– Нет уж! Отсюда лучше видно, – противилась она и поступала по-своему. Делая всегда так, как хочется, не отступила и на этот раз от соблазна быть на виду, в центре внимания.
А ветер навстречу дул, не останавливаясь. И лишь усиливая свои потоки, перемежался с капельками волны, иногда попадающими к нему в струю из-под кормы. Но Инесса этого не чувствовала за своими желаниями.
На самом деле она хотела одного, чтобы ею любовались. Затмевать остальных – вот что было её жаждой. Что удивительно: у неё это всегда выходило на «отлично».
Но в этот раз произошла осечка. Что сильно простыла, Инесса поняла не сразу. Лишь через три дня, утром, когда, проснувшись, не смогла открыть глаз, в судороге металась по ванной комнате с целью хоть какой-то компресс сделать.
Посмотрев скрупулёзнее на себя со стороны, обнаружила ячмень, который уже созрел, как на дрожжах. Зеркало кричало о срочных мерах, и Инесса побежала в больницу. В ту, где работала много лет вместе с первым мужем, жаль его, погиб после одной из операций.
Врачом же он стал лишь после несчастного случая, закончившегося счастьем. Гоняя с друзьями во дворе, почувствовал резкую боль в боку. Стыдно было признаться ребятам, что не может он продолжать игру, но сделать такой вывод пришлось друзьям сами, когда Венька свалился наземь, свернувшись клубком. Так и провалялся бы до полусмерти, если бы не умные товарищи. Страшно было всем, когда Вениамин начал терять сознание. А было им всего по тринадцать лет.
У Вениамина случился приступ аппендицита. Операцию делали под местным наркозом, рана заживала долго и болезненно. С тех пор он и влюбился в профессию хирурга по-настоящему. Тут-то и решил, что только такой, как он, сможет помогать людям, исцеляя их. И уже ничего: ни запах эфира, ни вид крови не остановил его в выборе своей будущей профессии.
Работал на износ, но, казалось, не уставал. Рассчитывал на свою молодость и поддержку любимой жены, с которой познакомился на новогодней вечеринке в коллективе.
Боль – ница! Почему это место имеет такое название? Только ли пациенты испытывают боль, поступая туда за помощью?
Инесса рассмотрела в Венике, как она его называла, нестандартность и даровитость, он в ней – то же самое. Поженились скоро. Но быт налаживать было некогда, да и некому, потому что каждый из молодожёнов был занят своей историей: муж медициной, а жена собой. И что интересно: каждый из них считал свою стезю самой важной, главенствующей по сравнению с другой. И никто из двух не собирался отступать от намеченного: ни жена-эгоистка, ни муж-хирург. Она пользовалась для достижения целей своими инструментами, а он своими.
У хирурга при работе их два: голова и руки. Молоток и пила не его стихия. Инесса не очень была довольна этим и частенько стала указывать Венику на его недостатки как в роли мужа, так и мужчины.
Нарисованные ею самой, эти недостатки и ему казались весьма правдоподобными, и он стал даже верить в свою неполноценность рядом с ней.
Вениамин был человеком уравновешенным и всегда справлялся со своими эмоциями. Но однажды перед операцией повздорил с женой: она взяла билеты в оперу, а его вызвали на работу как раз в этот момент. Он пытался ей доказать первостепенность самой жизни, а не желаний сиюминутных, но кто бы его слышал?!
По дороге на работу Вениамин чувствовал нехватку кислорода, онемение конечностей. Понимал, что может в любой момент наступить непоправимое. Предчувствия не обманули. Сердце прихватило, но, приехав в больницу, он принял лекарство.
Ему казалось, что стало лучше. Коллеги предлагали отказаться оперировать, но Вениамин этого не сделал. Хотя состояние его указывало обратное. Наверное, следовало искать замену врачу, еле держащемуся на ногах. Но если Веня начинал что-либо, он обязательно доводил это до конца. «Пока не закончу, не уйду», – строго заметил он своей ассистентке.
– А начать вы сможете? – несмело поинтересовалась она.
– Меньше слов. За работу, – как всегда, отрывисто командовал он, надевая перчатки на руки при помощи всё той же ассистентки.
Руки хирурга не должны быть впереди головы. Попробуйте взять школьную линейку и подержать её минут пять в вытянутой руке. Наверняка, заметите, что линейка дрожит. Так устроены человеческие руки.
А если человек этот «на взводе», а ему нужно приходить и делать работу, где четверть миллиметра влево или вправо – граница между жизнью и смертью. Веня справился.
«Спасая человека, убил себя», – говорили потом коллеги. Они и нашли тело уже после операции в ординаторской. Но, оказалось, что слишком поздно. К сожалению, во время уже с большей силой повторившегося приступа никого не оказалось рядом с ним, а ведь могли спасти.