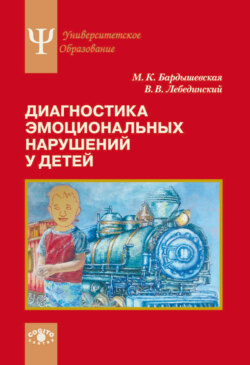Читать книгу Диагностика эмоциональных нарушений у детей - М. К. Бардышевская - Страница 5
Глава 1
Аффективное развитие ребенка в норме и патологии
Уровни эмоциональной регуляции: строение, признаки нарушений
Первый уровень – уровень оценки интенсивности средовых воздействий
Нарушения сензитивности к сенсорным воздействиям, исходящим от другого человека
ОглавлениеВ норме явления гиперсензитивности по отношению к внешним раздражителям характерны для младенцев в первые четыре недели жизни[7]. По-видимому, такая «открытость» перцептивной системы младенца является необходимым условием для импринтинга ключевых признаков образа матери. Гиперсензитивность новорожденного неустойчива (т. е. зависит от его внутреннего состояния, которое полярно меняется в зависимости от удовлетворения или неудовлетворения базальных потребностей) и быстро проходит.
У соматически ослабленных, недоношенных детей, а также детей с легкими формами органического поражения центральной нервной системы и воспитывающихся в Доме ребенка, начальный период «неприкрытой» гиперсензитивности может затягиваться на несколько месяцев (Бардышевская, 1997; Луковцева, 2002).
В то время как зрительная или голосовая стимуляция быстро становится сверхнагрузкой для незрелой психики новорожденного и вызывает у него истощение, тактильная стимуляция, связанная с ощущением тепла, давления, прикосновения, объятия, в норме является успокаивающей[8]. Успокаивающее значение тактильного контакта особенно велико на первом году жизни ребенка, но и в последующие годы тактильный контакт с близким человеком эффективен для уменьшения тревоги.
В норме гиперсензитивностъ к тактильному контакту не наблюдается даже у новорожденных. Следовательно, непереносимость тактильного контакта у детей с эмоциональными расстройствами в первые два года жизни является симптомом тяжелой аффективной недостаточности, особенно в том случае, если она сочетается с непереносимостью глазного и/или голосового контакта.
Непереносимость тактильного контакта может иметь избирательный характер; в более тяжелых случаях она генерализуется, распространяясь даже на ситуации витальной угрозы, в которых стремление «зацепиться» за взрослого в норме носит почти рефлекторный характер.
С возрастом гиперсензитивность к тактильному и глазному контакту с человеком у таких детей постепенно уменьшается. Повышение устойчивости к специфически человеческим воздействиям у детей с грубой эмоциональной патологией отмечается в более старшем возрасте (в некоторых случаях только после 4–5 лет), т. е. со значительным запаздыванием по сравнению с нормой.
Наряду с непереносимостью тактильного контакта наблюдается обратное явление, характерное для очень тревожных младенцев (с выраженной эндогенной тревогой). Как правило, речь идет об эксплуатации ребенком защитных свойств тактильного контакта. Такой младенец пытается компенсировать болезненность ощущений от контакта с миром за счет «прилипания» к телу матери. Такие дети в младенчестве «не сходят с рук» матерей, даже во время сна они должны ощущать материнскую грудь или руку (один из наблюдаемых нами детей в младенчестве сию же секунду просыпался, стоило матери отойти от него).
В психоанализе используется специальный термин «прилипчивая идентификация» (Meltzer, 1975а) для обозначения состояния полного «прилипания» к взрослому (поверхностью «прилипания» может быть и сама кожа, и отдельные сенсорные качества объекта, которые ребенок эксплуатирует (Tustin, 1990). В этом состоянии ребенок не переносит отделения от матери, которое воспринимается им как болезненный отрыв. В дальнейшем такой ребенок стремится мимикрировать под близкого взрослого, копируя его внешние (поза, одежда), а не внутренние качества.
Непереносимость глазного контакта (с близкого расстояния) при сохранности тактильного контакта означает несколько меньшую глубину аффективной патологии, поскольку глазной контакт становится устойчивым позднее и представляет собой более сложное образование.
Механизмы избегания глазного контакта могут быть различными. Во-первых, взгляд в глаза оказывается чрезмерной нагрузкой на аффективную систему гиперсензитивного ребенка. Неприятной оказывается сильная концентрация во взгляде человека тех самых качеств, которые в норме являются сигнальными и уже с 7-недельного возраста определяют четкую фокусировку младенца на глазах при восприятии лица другого человека (движение, резкие контуры, цветовые контрасты, симметрия) (Nelson, 1987). Во-вторых, прямой взгляд в глаза воспринимается детьми с эмоциональной недостаточностью как угроза (Лебединский, 1996). Дьюдни (по: Грюссер, Зельке, Цинда и др., 1995) экспериментально показал, что если дети-шизофреники в течение нескольких секунд рассматривают какое-либо лицо (реальное или нарисованное), им кажется, что его выражение резко искажается и становится угрожающим.
Эти экспериментальные данные согласуются с результатами наших собственных наблюдений. Дети с синдромом детского аутизма эндогенного происхождения сверхчувствительны к признакам, усиливающим выразительность взгляда: яркости, цвету радужки, блеску, выпуклости глаз. Признаки, усиливающие выразительность взгляда, у таких детей могут провоцировать патологические фантазии и даже зрительные галлюцинации. Например, мальчик 7 лет так реагирует на психолога, которого видит впервые: «Голубые глаза!» – отводит взгляд. «Голубые глаза! Бабушка с голубыми глазами! Злая бабушка! Ругается». Замолкает, напряженно всматривается. «Три бабушки с голубыми глазами!» Возможно, что не только глаза, но и другие части лица воспринимаются такими детьми как опасные, особенно при рассматривании.
В-третьих, недостаточность фокусировки на глазах другого человека может быть связана с преобладанием периферического зрения и боковых поз у детей с генерализованными страхами (Лебединский, 1996).
В-четвертых, в некоторых случаях избегание глазного контакта может иметь сигнальное значение, предупреждая и тормозя агрессивное поведение другого человека и являясь признаком низкого социального статуса ребенка в группе (Trad, 1986).
Другим симптомом нарушения глазного контакта может быть видимое отсутствие пресыщения, что выражается в пристальном непрерывном, часто неподвижном, взгляде, без какого бы то ни было ритма глазного общения (взгляд «пустой», «сквозь»). Такие нарушения возможны из-за трудностей поисковых и установочных движений глаз.
Взгляд «сквозь» может сочетаться с неподвижностью или безвольной расслабленностью лица. Отсутствие правильных движений глаз в сочетании с отсутствием эмоционально-выразительных движений позволяет предположить отсутствие истинного глазного контакта. Такой взгляд не координирован с речевой коммуникацией и может наблюдаться при ранней детской шизофрении (собственные наблюдения).
У взрослых шизофреников такой немигающий взгляд сочетается с продуктивной симптоматикой, в то время как устойчивое избегание глазного контакта чаще коррелирует с негативными симптомами (Корнетов, Самохвалов и др., 1990).
7
Вот как А. Гезелл описывает явления гипер- и неустойчивой сензитивности у младенца на первом месяце жизни: «Дыхание его нерегулярно, регуляция температуры нестабильна. На малейшую провокацию он вздрагивает, плачет. Его пороги низкие и неустойчивые <…> Состояние мышечного напряжения изменчивы. Многие реакции спорадические <…>» (Гезелл, по: Knobloch, Pasamanick, 1974, с. 36).
8
На исключительную важность тактильного контакта для благоприятного развития указывали этологи, работающие с приматами (Harlow, Harlow, 1966). Обнаружено, что для детенышей обезьян удовлетворение потребности в тактильном контакте было важнее, чем удовлетворение пищевой потребности. В патологии это соотношение может нарушаться.