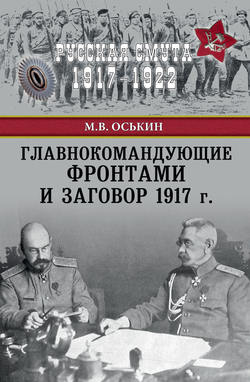Читать книгу Главнокомандующие фронтами и заговор 1917 г. - Максим Викторович Оськин, М. В. Оськин, Максим Оськин - Страница 4
Глава 1
Главкосевзап Николай Владимирович Рузский
Львовская эпопея
ОглавлениеОбъявление мобилизации и начало Первой мировой войны застает генерала от инфантерии Н.В. Рузского на одном из высоких постов в Киевском военном округе. Согласно расписанию чинов действующей армии, генерал Рузский был назначен на пост командующего 3-й армией Юго-Западного фронта. Управление фронта формировалось на базе Киевского военного округа, но пост начальника штаба фронта занимал ген. М.В. Алексеев. Впрочем, должность командарма в русской военной иерархии стояла выше начальника штаба фронта – в ходе Галицийской битвы эта формальность будет слишком дорого стоить русским.
В связи с тем, что 3-й армии предстояло наносить главный удар по австро-венграм на Юго-Западном фронте, начальник штаба Киевского военного округа ген. В.М. Драгомиров становится начальником штаба 3-й армии, раз уж его нельзя было сделать начальником штаба фронта. Этот пост был давно закреплен за генералом Алексеевым, в том числе и после перевода его на должность начальника 13-го армейского корпуса: лишить Алексеева своего назначения не было под силу и военному министру ген. В.А. Сухомлинову. Назначение начальника штаба 3-й армии позволило впоследствии Драгомирову вступать в конфликт со штабом фронта, где распоряжался Алексеев. Если знать, что М.В. Алексеева и Н.В. Рузского связывал личный конфликт, берущий свое начало еще со времен Русско-японской войны 1904–1905 гг., то очевидно, что командарм-3 и его начальник штаба в своей неприязни к генералу Алексееву были заодно.
В свою очередь, ген. Н.В. Рузский также старался нивелировать влияние своего честолюбивого начальника штаба, позволявшего себе фрондировать даже и в отношении главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта ген. Н.И. Иванова, не говоря уже о более скромном посте командарма-3. Драгомиров явно использовал то обстоятельство, что его отец в свое время выдвигал Н.В. Рузского и В.А. Сухомлинова. Отсюда брала свое начало неблагоприятная обстановка в штабе 3-й армии. Для того, чтобы противопоставить власть командарма начальнику штаба, Н.В. Рузский взял к себе на пост генерал-квартирмейстера 3-й армии М.Д. Бонч-Бруевича, вступившего в войну командиром 176-го пехотного Переволоченского полка. Назначение Бонч-Бруевича произошло в ходе сосредоточения, когда Драгомиров уже не мог повлиять на выбор Рузского. Впоследствии, после того, как в сентябре на пост командарма-3 вступил комкор-8 ген. Р.Д. Радко-Дмитриев, Драгомирова были вынуждены перевести на должность начальника 2-й гвардейской пехотной дивизии, а затем он сам стал комкором-8. В марте 1915 г. ген. В.М. Драгомиров занял пост начальника штаба Юго-Западного фронта, после того, как ген. М.В. Алексеев был назначен главнокомандующим армиями Северо-Западного фронта. В ходе Горлицкого прорыва генерал Драгомиров был смещен и впоследствии не занимал должностей выше командира корпуса.
Следовательно, с самого начала в штабе 3-й армии друг с другом столкнулись две воли – командарма и его начальника штаба. Это не могло не вести к определенным провалам в действиях армии, особенно если помнить об отношении к М.В. Алексееву. О взаимоотношениях внутри штаба 3-й армии Н.Н. Головин сообщает, что «исповедуемые ген. В.М. Драгомировым взгляды позволяют предположить, что во главе “оппозиции” главнокомандованию Юго-Западного фронта стоял он, а не командующий 3-й армией ген. Рузский». Служивший в штабе 3-й армии офицер Генерального штаба Щепихин сообщил Головину: «Ни для кого в молодом генеральном штабе не было секретом, что генерал Рузский, человек болезненный, слабохарактерный, не властный, а главное, за предвоенный период далеко отошедший от вопросов оперативных в широком смысле, и все видели в лице В.М. Драгомирова действительного руководителя оперативной части армии… На генерала Рузского он смотрел свысока, игнорировал его»[17]. Недаром, когда Н.В. Рузский в начале сентября 1914 г. переводился на Северо-Западный фронт, он взял с собой только М.Д. Бонч-Бруевича. Да и этого Рузский взял в 3-ю армию лишь для того, чтобы иметь рядом верного человека и тем самым снижать влияние ген. В.М. Драгомирова.
Отменная подготовка войск перед войной была фактом. Существенно меньшее значение отводилось психологическому состоянию бойцов. Следует заметить, что ген. Н.В. Рузский придавал немалое значение моральному фактору в общей боеспособности войск. Потому перед выступлением частей на фронт командарм объехал ряд полков, где пытался вдохновить людей, идущих на войну. В частности, в своей речи перед 125-м пехотным полком накануне отправки полка на фронт, по словам очевидца, ген. Н.В. Рузский «просил нас верить нашему Верховному Командованию, объяснил, что Генеральный штаб внимательно изучает план грядущей войны, что давно уже знали, что война настанет и что мы должны всеми силами беречь жизнь каждого солдата, что в войне ошибки неизбежны, и просил нас не судить слишком строго за эти неизбежные ошибки и потери. Он прибавил, что вместо того, чтобы судить и искать ошибок, нам следует думать о своих непосредственных обязанностях и строже всего судить самих себя. Если каждый из нас выполнит свой долг полностью – успех будет обеспечен»[18]. Из этой характеристики видно, что генерал Рузский большое внимание уделял фактору исполнения своего долга как перед Родиной, так и перед вверенными каждому командиру людьми.
Согласно русскому плану войны против коалиции Центральных держав, основной удар русских армий должен был наноситься против Австро-Венгрии. В четырех армиях Юго-Западного фронта главнокомандующего армиями фронта (главкоюза) ген. Н.И. Иванова сосредоточивалось до 60 % всей силы, выставляемой на фронты русской действующей армии. В численном отношении это означало выставление в поле более 600 тыс. штыков и сабель при 2 тыс. орудий. Зная о том, что немцы, действуя по «Плану Шлиффена», будут главный удар наносить против Франции, русская сторона рассчитывала одновременно и оттянуть на себя часть германских сил, ослабив наступление противника во Францию. Но главной задачей русских стоял разгром австро-венгерской армии в ходе предполагаемого генерального сражения в Галиции.
Главный удар на Юго-Западном фронте должна была наносить 3-я армия ген. Н.В. Рузского, которая поэтому являлась наиболее сильной – 215 тыс. чел. при 685 орудиях. Вместе с 8-й армией ген. А.А. Брусилова (139 тыс. чел. при 472 орудиях) 3-я армия составляла южное крыло фронта и должна была наступать строго с востока в австрийскую Галицию, на галич-львовском стратегическом направлении. Рассчитывая на то, что противник сосредоточит свою главную группировку в районе Львова и севернее его, русские предполагали осуществить двойной охват неприятельской армии: 5-я и 3-я армии должны были бить врага по фронту, в то время как 4-я и 8-я армии охватывали бы его с флангов. Расчеты на данные об австрийском сосредоточении, переданные в 1912 г. полковником А. Редлем, позволяли рассчитывать на успех.
В связи с тем, что 4-я и 5-я армии, составлявшие северный фас Юго-Западного фронта, запаздывали в своем сосредоточении, 3-я и 8-я армии должны были перейти в наступление несколькими днями ранее. Согласно директиве главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта ген. Н.И. Иванова от 2-го числа, 6 августа начинала наступать 8-я армия ген. А.А. Брусилова, сосредоточиваемая дальше всех от границы, 7 августа – 3-я армия ген. Н.В. Рузского. Затем в наступление должны были перейти армии северного фаса фронта: 9-го числа – 4-я армия ген. барона А.Е. Зальца и на следующий день – 5-я армия ген. П.А. Плеве. 3-я и 8-я армии должны были наступать на Львов, тем самым опрокидывая главную австрийскую группировку и одновременно заходя корпусами 8-й армии с юга. При этом 3-я армия двигалась на фронт Куликов – Миколаев, а 8-я армия – на фронт Ходоров – Галич.
В свою очередь, начальник австрийского Полевого Генерального штаба ген. Ф. Конрад фон Гётцендорф, являвшийся фактическим главнокомандующим при номинальном главковерхе эрцгерцоге Фридрихе, незадолго до начала войны переменил планы сосредоточения. Теперь австрийцы располагали главные силы против 4-й и 5-й русских армий, рассчитывая в короткие сроки разбить русских и открыть себе дорогу в русскую Польшу. Против 3-й и 8-й русских армий располагалась 3-я австрийская армия ген. Р. фон Брудермана силой в 160 тыс. штыков и сабель при 482 орудиях. Генерала Брудермана поддерживала армейская группа ген. Г. Кёвесс фон Кёвессгаза силой в 70 тыс. чел. при 148 орудиях. В ходе Галицийской битвы в район Львова с Балканского (Сербского) фронта по частям перебрасывалась 2-я австрийская армия ген. Э. фон Бём-Эрмолли. Вплоть до прибытия 2-й армии, как видно, одна 3-я армия по силам была равна всей противостоящей австрийской группировке. И, следовательно, русские имели 8-ю армию, что называется, в «чистом активе».
В состав 3-й армии ген. Н.В. Рузского входили 9-й, 10-й, 11-й, 21-й армейские корпуса, а также 9-я, 10-я, 11-я кавалерийские дивизии и 3-я Кавказская казачья дивизия. В ходе наступления 3-я армия должна была получить существенное усиление: 3-й Кавказский корпус ген. В.А. Ирманова, а также 4-я и 5-я Донские казачьи дивизии. Однако эти части затем были отправлены под Люблин, в 4-ю армию ген. А.Е. Эверта, дравшуюся с вдвое превосходящим противником. Надо сказать, что из всех командармов один только ген. Н.В. Рузский догадался увеличить пехотную массу вверенных ему соединений. В каждый из армейских корпусов, которые состояли из двух пехотных дивизий, командарм-3 уже в ходе развертывания влил еще по второочередной пехотной дивизии, в то время как в остальных армиях второочередные дивизии, образуемые при мобилизации, в отличие от кадровых дивизий, находились в резервах. Второочередные дивизии имели минимум пулеметов и получили слабую артиллерию. Поэтому, отправка этих частей в состав армейских корпусов позволила, во-первых, усилить мощь пехотного удара, а во-вторых, увеличить силу второочередных дивизий огневым боем артиллерии корпуса. Австро-венгры сразу придали запасные бригады (аналогичные русским второочередным дивизиям соединения) почти всем корпусам. У русских это сделал только командарм-3, что даст ему успех в первом же сражении с 3-й австрийской армией. Если бы ген. Н.В. Рузский, подобно прочим командармам, придержал бы второочередные дивизии в ближайшем войсковом тылу, то в момент столкновения с неприятелем он имел бы на 60 тыс. штыков меньше. Иными словами, в этом случае 3-я русская армия по пехоте (но не по артиллерии) сравнялась бы с 3-й австрийской армией. Это мероприятие делает честь уму генерала Рузского, своевременно насытившего вверенные ему войска дополнительным количеством людей, чтобы получить решительное превосходство в момент сражения.
Не зная об образовании 8-й русской армии и предполагая иметь вместо нее лишь один усиленный корпус, австрийский командарм-3 принял решение наступать. Генерал Брудерман рассудил, что генерал Кёвесс справится с русской корпусной Проскуровской группой (на базе которой была развернута 8-я русская армия), в то время как он сам разгромит 3-ю русскую армию. Как только части 3-й армии перешли линию государственной границы, командарм-3 получил директиву начальника штаба Юго-Западного фронта, предписывавшую ему переменить направление движения армии и наступать севернее района Львова, выходя в тыл 4-й австрийской армии ген. М. фон Ауффенберга.
Дело в том, что это время уже потерпели поражение русские армии северного крыла – 4-я и 5-я. Поняв, что сосредоточение врага далеко от довоенных предположений, и верно оценив обстановку, начальник штаба фронта ген. М.В. Алексеев принял решение немедленно бросить армии южного крыла на помощь северному крылу. Отсюда и новый приказ штаба фронта об изменениях плана. Однако, воспользовавшись тем, что колебавшийся главкоюз ген. Н.И. Иванов не решился отдать прямого приказа, ген. Н.В. Рузский решил пренебречь директивой Алексеева и продолжать наступление на Львов. Прежде прочих на этом решении настаивал генерал-квартирмейстер 3-й армии ген. М.Д. Бонч-Бруевич. Надо сказать, что ген. Н.В. Рузский зависел от мнения ген. М.Д. Бонч-Бруевича вследствие своей болезненности: «Сам генерал Рузский, вообще человек со светлой головой, стратегическим чутьем и большим психологическим пониманием, страдал болезнью печени в тяжелой форме, что заставляло его прибегать к морфию и ставило в зависимость от сотрудников»[19].
Выбор главным объектом действий для 3-й армии Львова отвечал идеям плана войны и первым директивам главкоюза от 2 августа. Однако по мере выяснения обстановки ситуация менялась, и Н.В. Рузский отказался от выполнения приказов М.В. Алексеева. Командарм-3 считал, что подчиняется только генералу Иванову, а его начальник штаба не может отдавать приказов командармам. Также 3-я армия наступала сомкнутой массой в лоб, в то время как в современной войне надо охватывать фланг, и менять своих планов командарм-3 не собирался: привычка действовать фронтально, в лоб, оставалась «визитной карточкой» ген. Н.В. Рузского в ходе всей войны. Для 3-й армии свободным флангом был северный, к стыку с 5-й армией, но именно сюда, куда приказывал наступать М.В. Алексеев, 3-я армия и не пошла.
Между тем восточнее Львова выдвинулись и австрийцы. 13 августа противники столкнулись в сражении на реке Золотая Липа. В ходе встречного сражения 13–14 августа австрийцы были сломлены и отброшены на запад. Только пленными противник потерял более 10 тыс. чел., также оставив русским в качестве трофеев более 50 орудий. Жаждая реванша и надеясь вырвать победу, Брудерман приказал группе Кёвесса спешить ему на помощь. Кроме того, к Львову уже подходили передовые дивизии 2-й армии ген. Э. фон Бём-Эрмолли, перебрасываемые из Сербии. Однако вслед за группой Кёвесса бросилась русская 8-я армия ген. А.А. Брусилова, которая практически полностью уничтожила противника в сражении 15 августа у Подгайцев. В итоге к моменту сражения на реке Гнилая Липа не австрийский, а русский командарм-3 получил подкрепления в виде 8-й армии.
В сражении на Гнилой Липе 17–18 августа 3-я австрийская армия была во второй раз разгромлена и отброшена к Львову. В этот момент для Рузского и наступил «момент истины». В боях восточнее Львова русскими трофеями, даже по австрийским данным, стали 114 орудий. Тем не менее упорство противника позволило Рузскому не выполнять ни директив штаба фронта, ни даже распоряжений Верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича – дяди императора. Опираясь на то, что противника необходимо добить, войска 3-й армии двинулись прямо на Львов, хотя в это время соединения 5-й армии ген. П.А. Плеве изнемогали в боях на Холмском направлении с превосходными силами противника.
Начальник штаба Юго-Западного фронта ген. М.В. Алексеев предполагал, закрывшись от 2-й и 3-й австрийских армий 8-й русской армией Брусилова, направить 3-ю армию Рузского в тыл 4-й австрийской армии, после чего окружить и уничтожить 4-ю и 1-ю австрийские армии. Начиная с 11 августа, алексеевская директива повторялась четыре раза. Однако же, во многом действуя под влиянием В.А. Драгомирова и М.Д. Бонч-Бруевича, генерал Рузский отдал приказ о движении на Львов. Участник войны Б.Н. Сергеевский вспоминал: «Вместе со многими офицерами Генерального штаба, я, в том же 1914 году, удивлялся, в какой мере Рузский шел “на поводу” у своего начальника штаба, пресловутого ген. Бонч-Бруевича»[20]. Неповиновение командарма-3 позволит противнику не только избежать громадного «котла», но даже и чуть ли не вырвать победу в Галицийской битве. Русская Ставка сможет выправить ситуацию лишь отправкой под Люблин 9-й армии ген. П.А. Лечицкого.
Проблема соподчинения внутри высшего российского генералитета заключалась в том, что Н.В. Рузский пользовался особым покровительством военного министра Сухомлинова, являясь его личным другом. Помимо того, генералу Рузскому симпатизировал и начальник штаба Верховного главнокомандующего (наштаверх) ген. Н.Н. Янушкевич, ставший ближайшим сотрудником Верховного главнокомандующего, несмотря на свои приятельские отношения с ген. В.А. Сухомлиновым, который был с великим князем Николаем Николаевичем личными врагами. Н.Н. Головин пишет, что генерал Янушкевич, «обязанный головокружительной карьерой мирного времени последнему, принимал все зависящие от него меры, чтобы охранить перед Великим Князем личные интересы генерала Рузского». Вдобавок генерал Алексеев по службе был младше генерала Рузского. Командующий Киевским военным округом (теперь – Юго-Западным фронтом) ген. Н.И. Иванов симпатизировал генералу Драгомирову, который также поддерживал генерала Рузского в наступлении на Львов. Поэтому-то Иванов и не согласился со стратегическими решениями М.В. Алексеева по уничтожению главных сил противника, и командарм-3 ген. Н.В. Рузский получил карт-бланш на продолжение операции против уже никому не нужного Львова.
Во-первых, ген. Н.В. Рузский прекрасно знал, что взятие столицы австрийской Галиции чрезвычайно выгодно по политическим соображениям, что позволит по своим плюсам в глазах Верховного главнокомандования превзойти минусы, заключавшиеся в том, что противник сумеет избежать окружения. Также Ставка в принципе рассматривала успех по географическим пунктам, и потому триумф победителя Львова должен был превзойти успех уничтожения 300 тыс. австрийцев. Кроме того, окруженная австрийская группировка уничтожалась бы соединенными усилиями всех армий фронта, в то время как львовским триумфатором мог быть только один. На Северо-Западном фронте подобная ситуация привела к чрезмерному вниманию в отношении крепости Кенигсберг со стороны командарма-1 ген. П.К. Ренненкампфа, что позволило стремительно действовавшим немцам разгромить 2-ю русскую армию ген. А.В. Самсонова под Танненбергом.
Во-вторых, командованием 3-й армии Львов представлялся сильно укрепленной крепостью, хотя еще до войны было известно, что здесь остались только старые заброшенные форты. Вооружение Львова состояло лишь из 28 пушек. Австрийское командование, и без того уступавшее русским в артиллерийском отношении, полагало, что «в случае необходимости вооружение крепости должно было быть усилено полевой армией»[21]. Тем не менее штаб 3-й армии докладывал, что для штурма Львова будут необходимы все наличные силы. В то же время 8-я армия, не имея перед собой надлежащего сопротивления, выходила к Львову с юго-востока. Таким образом, командарм-3, преследуя собственные честолюбивые цели, сорвал планы Алексеева, нацеленные на разгром австро-венгерской армии. В итоге вывести из войны Австро-Венгрию так и не удалось, хотя противник получил сильный удар по своей обороноспособности.
20 августа 3-я армия вышла к Львову, который уже покидался противником, ибо Конрад фон Гётцендорф отнюдь не собирался напрасно терять в Львове, который вполне мог стать «мышеловкой», своих людей. Штурм намечался на 22-е число, однако русские авангарды ворвались в город, после чего туда втянулась и вся 3-я армия. В тылу пресса представила взятие Львова без боя как итог многодневной кровопролитной операции, имевшей заключением кровавый штурм Львова. Например, в дневниковой записи от 23 августа 1914 г. одна аристократка записывала: «Эта победа имеет громадное значение. Упорный, кровопролитный бой, продолжавшийся семь суток, мог кончиться только разгромом одной из армий и блестящей победой другой. Мы победили. Мы завоевали сердце Галиции, и с ним свободу галицийских славян»[22].
Генерал Рузский добился поставленной цели: за Львов, который, повторимся, был оставлен противником без боя, он был удостоен беспрецедентной награды – одновременного награждения орденом Св. Георгия 4-й и 3-й степени. Н.В. Рузский стал первым среди генералов георгиевским кавалером в Первую мировую войну. То есть командарм, не выполнивший приказов свыше и потому позволивший противнику избежать катастрофы, был награжден высочайшими орденами Российской империи, а вскоре будет повышен в должности. Причина такой ненормальности проста. Дело в том, что русское военно-политическое руководство всеми силами пыталось затушевать неблагоприятные последствия разгрома 2-й армии Северо-Западного фронта под Танненбергом 17 августа. Для этого требовалась любая мало-мальски могущая быть выставленной в качестве выдающейся победа. И вот – падение Львова. Потому-то Верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич и пошел на столь непривычное награждение. Радостная истерия прокатилась как по фронту, так и по тылу. 21 августа император Николай II записывает в своем дневнике: «Днем получил радостнейшую весть о взятии Львова и Галича! Слава Богу!.. Невероятно счастлив этой победе, и радуюсь торжеству нашей дорогой армии!»[23] Зато имя генерала Рузского отныне стало известно всей России.
Иными словами, рядовая, по сути, победа под Львовом была сознательно раздута Ставкой в собственных интересах, что одновременно соответствовало и оперативному воззрению штаба Верховного главнокомандующего, и его самого лично: «Стратегический примитив, великий князь Николай Николаевич расценивал явления войны по-обывательски. Победу он видел в продвижении вперед и в занятии географических пунктов: чем крупнее был занятый город, тем, очевидно, крупнее была победа. Эта “обывательская” точка зрения великого князя особенно ярко сказалась в его ликующей телеграмме Государю по поводу взятия Львова, где он ходатайствовал о награждении генерала Рузского сразу двумя Георгиями. А между тем вся львовская авантюра генерала Рузского была стратегическим преступлением, за которое виновника надлежало предать суду и, во всяком случае, отрешить от должности. Вся тлетворная карьера генерала Рузского была создана этой обывательской расценкой Верховного»[24]. Львовская эпопея ген. Н.В. Рузского приводит к одному весьма важному вопросу. А именно: могла ли страна, где военачальники награждались не за разгром живой силы противника, а за бескровное взятие известных географических пунктов, добиться победы в Первой мировой войне? Как это не похоже, к примеру, на графа А. фон Шлиффена, готового пожертвовать и Сааром, и Восточной Пруссией, и Познанью, лишь бы в шесть недель уничтожить Францию в гигантском генеральном сражении на окружение – «Больших Каннах».
Своим движением на Львов командарм-3 ген. Н.В. Рузский разорвал внутреннее единство Галицийской битвы, фактически превратив единую фронтовую операцию армий Юго-Западного фронта в две отдельные армейские операции. Поэтому, пока русские полководцы добивались дешевых лавров, противник не терял времени. Оценив обстановку после поражения 3-й армии в сражении на Гнилой Липе, Конрад, сосредоточивая 2-ю армию западнее Львова, одновременно развернул сюда 4-ю армию. Если русские стремились к политической славе, то австрийцы попытались вырвать победу в собственно военном отношении. В итоге в районе города Рава-Русская, занятого только теперь выдвигавшимися на север, на помощь 5-й армии, войсками 3-й армии, началось встречное сражение с превосходящими силами 4-й австрийской армии ген. М. фон Ауффенберга.
В это время 8-я русская армия ген. А.А. Брусилова вела тяжелые оборонительные бои против 3-й и 2-й австрийских армий, надвигавшихся строго с запада, с городокских позиций, переходивших из рук в руки. Части 5-й русской армии ген. П.А. Плеве, согласно планам штаба Юго-Западного фронта, готовилась перейти в контрнаступление, совместно с 4-й армией ген. А.Е. Эверта и 9-й армией ген. П.А. Лечицкого. Соединения 3-й армии, вовремя не ударившие в тыл 4-й австрийской армии, теперь были вынуждены обороняться против ее атак. Алексеев приказал 3-й армии помочь войскам 8-й армии, чтобы избежать поражения, так как у атаковавшего 3-ю армию неприятеля не было существенного превосходства в силах и средствах. Несмотря на это, командарм-3 в ответ потребовал немедленного наступления 5-й армии, чтобы та отвлекла на себя часть сил противника. О боях под Равой-Русской на заключительном этапе Галицийской битвы советский исследователь пишет: «Тонкий интриган, Рузский доносит, что он может помочь 8-й армии лишь после занятия Равы-Русской, для чего требуется содействие левофланговых корпусов 5-й армии. Выходит, что весь успех операции зависит от боевой работы 8-й армии, где неблагополучно, а у него, Рузского, все хорошо, стоит только взять Рава-Русскую – и все будет в порядке, но вот 5-я армия медлит. Войска сильно утомлены, пишет Рузский [29 августа в штаб фронта], большая убыль, особенно в офицерах, армия в состоянии держаться, но для активных действий требуется помощь 5-й армии. Таким образом, все дело в том, что и 5-я армия, и 8-я, не обеспечивают успешно развивающихся действий его (Рузского) армии»[25].
Иными словами, в свое время командарм-3 отказал в помощи терпящей поражение 5-й армии, лишь бы добиться собственного триумфа, а теперь требовал ее содействия, чтобы оказать помощь войскам генерала Брусилова. Это говорит о том, что характеристика, данная генералу Рузскому А.А. Брусиловым, совершенно справедлива: «Человек умный, знающий, решительный, очень самолюбивый, ловкий и старавшийся выставлять свои деяния в возможно лучшем свете, иногда в ущерб своим соседям, пользуясь их успехами, которые ему предвзято предписывались»[26].
В войсках же командарм-3 воспринимался в качестве отличного командира. И неудивительно, так как 3-я армия шла от победы к победе, от наград к наградам. А тот факт, что страдали соседние армии – 5-я и 8-я, офицерами и солдатами 3-й армии в расчет не особенно принимался. Например, Б.В. Сергиевский восторженно вспоминал, что 33-я пехотная дивизия (21-й армейский корпус) без отдыха была брошена на Рава-Русскую, что позволило отрезать австрийцев, и войска 3-й армии взяли только пленными 27 тыс. чел. О том, что такое положение вещей было обеспечено упорным сопротивлением 8-й армии против превосходящих сил неприятеля и наступлением корпусов 5-й армии на Томашов, конечно, в рядах армии не подозревали. Получалось, что «генерал Рузский был подлинным героем, которого офицеры и солдаты боготворили; все безусловно доверяли его знаниям и его военному гению»[27].
В результате наступления 9-й, 4-й и 5-й армий австрийские войска стали отступать. Чтобы не оставить в окружении половину армии, Конрад фон Гётцендорф, не сумев вырвать победу разгромом 3-й и 8-й русских армий, приказал отступать в ночь на 31 августа. Всего в ходе Галицийской битвы австро-венгры потеряли до 400 тыс. чел.; русские – 230 тыс. В течение 1–8 сентября, ведя преследование откатывающегося к Карпатам неприятеля, русские армии выходили к реке Сан.
Однако в рядах 3-й армии уже не было генерала Рузского. Разрекламированный на всю страну полководец получил повышение в должности – пост главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта (главкосевзапа). Командармом-3 стал комкор-8 ген. Р.Д. Радко-Дмитриев.
17
Головин Н.Н. Галицийская битва. Первый период. Париж, 1930. С. 329.
18
Борис Васильевич Сергиевский. 1888–1971. Нью-Йорк, 1975. С. 16.
19
Доманевский В.Н. Мировая война. Кампания 1914 года. Париж, 1929. С. 60.
20
Цит. по: Граф Келлер. М., 2007. С. 338.
21
Последняя австро-венгерская война. Издание австрийского военного архива. М., 1929. Т. 1. Вып. 1. С. 166.
22
Сайн-Витгенштейн Е.Н. Дневник 1914–1918. Париж, 1986. С. 24.
23
Дневник Николая II (1913–1918). М., 2007. С. 165.
24
Керсновский А.А. История русской армии. М., 1994. Т. 3. С. 276.
25
Коленковский А. Маневренный период Первой мировой империалистической войны 1914 г. М., 1940. С. 261.
26
Брусилов А.А. Мои воспоминания. М., 1983. С. 67.
27
Борис Васильевич Сергиевский. 1888–1971. Нью-Йорк, 1975. С. 27.