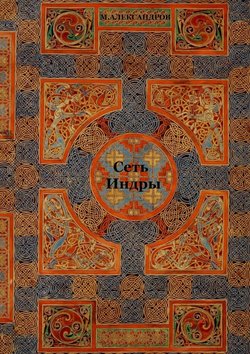Читать книгу Сеть Индры. Сеть Индры, Мистерия о Геракле, рассказы, стихи - Максим Александров - Страница 8
Сеть Индры
роман
Глава 4. Серый дом
ОглавлениеФрагмент 7
Время приближалось к полудню. Странник не спешил. Ветер вздымал пыль и лепил из жара причудливые завесы, и в его порывах и затишьях мир колебался огромным зелёным маятником где-то между Божественной литургией и летаргией.
Странник, облечённый в линялую джинсу, взирал сурово, словно имел к травке и трясогузкам одному ему ведомые счёты и был твёрдо намерен взыскать проценты. Его рыжеватая борода слегка курчавилась, за спиной был рюкзак, в руках сучковатая палка, которой он поигрывал как дубиной.
Взгляд его уже несколько минут был прикован к горизонту, где над холмом громоздились, подминая друг друга, белые туши облаков. В этой картине было и впрямь что-то тревожное и, пожалуй, даже завораживающее, словно слоистые серебрящиеся амёбы то почковались, то заглатывали друг друга в тёмно-синем аквариуме неба.
Вдруг новый порыв смешал все картинки, и то ли прихотью ветра, то ли под неотрывным взглядом странника облака сложились гармошкой и слиплись в подобие громадного снежного кома неприлично правильной формы. Несколько мгновений он висел, словно перебирая возможности трансформаций, и вдруг осклабился на полнеба чудовищным черепом, готовым пожрать и холм, и странника, и полуразрушенные коровники, и дом, с балкона которого наблюдал за безмолвными трансформациями ещё один молчаливый свидетель.
Вперив единственный глаз в небеса, щетинистый старик то взмахивал руками, то начинал бормотать как помешанный: «Знак, знак! Родился он, детушки, родился! Мало времечка-то осталось, мало!»
Потом, тяжело опираясь на костыль, он вошел в полутёмную занавешенную комнату и, раздвинув в дальнем углу весёленькие шторки, взметнул в воздух клубы многомесячной пыли. Смахнув тряпочкой паутину со старинных бронзовых часов, старик трясущейся рукой нащупал висевший на груди под жилетом ключик и, вставив в скважину, с видимым усилием стал заводить часы. Проснувшись от вековой дрёмы, механизм задрожал, стукнул один раз, другой, закачал маятником и пошёл, застучал, всё ускоряя бег, наполнив комнату призрачной жизнью, словно придав смысл и полинялым в жёлтых пятнах обоям и разностильной, будто собранной на московских свалках мебели. И эхом завибрировали в такт часам блёклые небеса:
Время спешит
Время спешит
Время спешит
Сверим часы
Сверим часы
Сверим часы
Время спешит…
Фрагмент 8
«Может ли быть такое? – тонкими пальцами она осторожно разворачивает свиток, – да, это та самая книга, я помню. А впрочем, нет. Книги никогда не бывают теми же. Мне никогда не доводилось дважды читать одну и ту же книгу. Это как с людьми, они всё время меняются! Один Пол Тианский всегда тот же. Всё время юродствует. Кстати, знаете, как он потерял глаз? Нет? Однажды Пол заснул, а проснулся уже одноглазым, просто половина его осталась на той стороне. Не боитесь?
Да, помнится, я читала похожую книгу. А не Вы ли мне тогда её приносили? Кажется, тогда Вы были монахом и носили бороду.
Хотите, чтобы я её прочла? Нет, я и так хорошо помню ту, старую. Будет жаль, если это всё же окажется не она».
И женщина в синем застывает, словно унесённая воспоминаниями. Её губы шепчут неслышимые слова, и кажется, будто она читает заклинания.
Текст 10.
Возможно, эта кошка принадлежала какому-то прежнему жильцу. По привычке она иногда заходила домой через форточку. Её чёрный силуэт внезапно появлялся в проёме, иногда застывая там надолго – на пять минут, на десять. Кошка словно решала, стоит ли заходить, тревожить былые воспоминания. Но потом всё-таки заходила, безмолвно обходила углы, усаживалась на тумбу и грезила.
Он оставлял ей поесть, но гладить себя кошка не разрешала, видимо, считая это проявлением фамильярности.
Евгений поселился здесь, чтобы исчезнуть. Нет-нет, не для того, Боже упаси, чтобы скрыться от преследователей. Просто со временем знакомые стали его тяготить. Всё больше энергии уходило на то, чтобы улыбаться и смеяться в нужных местах. Он уходил осторожно, постепенно перерезая ниточки, связывающие его с внешним миром. Три месяца он просто тихо выцветал. И когда он, наконец, исчез, никто не удивился.
Он выбрал этот городок совершенно случайно. Он здесь никогда не жил, не имел ни родственников, ни знакомых. Только однажды, много лет тому назад, был здесь на экскурсии и, глядя с высоты городища на пёстрые заплатки крыш, подумал: «Когда-нибудь я здесь поселюсь». Когда к нему приходили такие случайные мысли, он чётко фиксировал их и уже не забывал. Они хранились в особом чуланчике его обширной памяти. И когда наступал день выбора, он открывал свой чулан и часто, очень часто находил там необходимое.
Здесь всё поскрипывало и шелестело. Этот дом был слишком живым, чтобы в нём можно было жить так, как живут обычные люди. Но он умел ладить со старыми домами. Он влился в него, слился с ним, стал его незаметной частью, предметом обстановки. Подобно старым напольным часам, страшно неудобным и тяжёлым и, наверное, поэтому оставшимся здесь, несмотря на смену хозяев и десятилетий.
Дорожка, поросшая подорожником, подходила к крыльцу. Этот вход назывался чёрным. Тот, которому надлежало называться парадным, был заколочен много лет назад.
Двор заглушило бурьяном и крапивой, забор развалился, и соседский сад, глухо шурша, вошёл во двор, завалил его гулко падающими кислейшими яблоками, наполнил сумерками и тенями. Безымянная белая собака, жившая под крыльцом, давно уже ни на кого не лаяла, лежала свернувшись или уходила по своим собачьим делам. Тогда обнаглевшие коты выходили из сада и замирали на перилах в безмолвной медитации.
Хлипкие зыбкие ступени восходили на веранду второго этажа и забывались в молчании. Тёмный скрипучий коридор напоминал пещеру. Как можно жить в таком доме?
Или, может, жильцы его знают что-то важное, недоступное обычным людям? Например, знают, что такое время и где хранятся его неисчерпаемые запасы…
Город спит тревожным старческим сном, и порой его навещают сновидения…
Он приехал в Вышгород ранней весной и долго ходил по улицам, карабкался по обледенелым склонам оврагов, сгонял ворон с обветшавших колоколен, ловил проблески солнца сквозь серую вату облаков.
Евгений изучал город внимательно, собирал его образ, где равно важны и маршруты автобусов, и покосившийся забор, и выступавшие из земли валуны. Он вбирал город в себя упорно, небольшими глотками. Вечерами он продолжал путешествие ведомый памятью. Прицепившись к какой-нибудь детали, как за нитку он вытягивал кусок города с его цветом и запахом, неповторимым рисунком линий, пропорций, звуков. Как летучая мышь, он посылал волну-запрос в каждую сторону и слушал, что ответит ему эхо. Оно отзывалось то звонче, то глуше, и с радостным изумлением он обнаруживал, что место не обмануло его. Созвучия города были богаты, порой удивительно богаты и мелодичны. Случалось, они даже приводили его в недоумение. И он сердито качал головой или застывал с изумлённой улыбкой, как если бы, выйдя покурить на балкон, увидел себя на берегу Неаполитанского залива.
В бесцветных глазах какого-нибудь местного пьяницы он вдруг замечал отблеск чего-то, что считал своим сокровенным достоянием, сокровищем, упрятанным в самой глубине души.
Вскоре Евгений видел город даже с закрытыми глазами. Каждую улицу, каждый булыжник, окна, деревья, номерные знаки. Он втянул его в себя, как медуза втягивает щупальца.
Ему больше не надо было выходить из дома, сутки проводил он, полулёжа в тёмной комнате без окон. Его глазами стали глаза кошек – тысячи зелёных глаз, проницающих темноту, тысячи ушей, сверхчутких носов…
Он погрузился в город подвалов и теней, город шорохов. Глядел на него с заборов и чердаков, проникал в комнаты и закоулки. Казалось, он сам зарастал тёплой мягкой шерстью, и каждая ворсинка его благородного меха была антенной, ощупывающей город.
Потом дома и магазины исчезли, и стал виден каркас: пульсирующие линии – потоки ощущений, желаний, памяти…
О, город был стар! Он помнил Хуанди и Юдхиштхиру, Джамшида и святых риши…
Он был тиглем, вываривающим из памяти веков магические разноцветные кристаллы.
А может быть, это было будущее?
Его поиск стал целенаправлен. Он искал сердце. Ту точку, где сплетаются все пути, и в тумане проступает лик непроявленного. Он уже слушал мощные удары пульса, но едва устремлялся к источнику, как тот исчезал, затопляя сознание буйством красок и образов. Из тёмных глубин поднимались причудливые драконы, единое дробилось на мириады сверкающих осколков. Звёзды? Лица? Двери?
Потерпев неудачу, Евгений решил сменить тактику. Он умел уходить в пейзаж, становясь прозрачным для чужого внимания, почти незаметным и, вслушиваясь в настоянную тишину, отпускал своё сознание в вольные странствия. Спокойное, безграничное как море, оно лишь слегка волновалось, выбрасывая с прибоем на влажный песок случайные образы, внезапно отчётливые обломки воспоминаний, яркие картинки из детства. Улыбаясь про себя, он вертел их в руках, рассматривал со всех сторон, постигая в них знаки не пройденных, или не до конца пройденных путей, не отданных забытых долгов. И с каждым всплеском волны, освобождаясь от лишнего груза, воды его моря становились всё чище, всё прозрачнее. И он терпеливо ждал, понимая, что ничего не случайно, и на его пути для чего-то нужна и нынешняя праздность и обрывочные воспоминания…
Однажды он почувствовал лёгкое прикосновение тревоги, почти незаметной, как тень от бабочки, и застыл, прислушиваясь. Осторожно, предельно осторожно он стал распутывать нитку за ниткой, предельно внимательно, чтобы не пропустить знак, не оборвать конец и дать проявиться сокрытому. И вот, наконец, он почувствовал, что где-то глубоко на дне пришло в движение что-то тяжёлое, массивное, лежавшее там бесконечно давно, и понял, что час близок.
«Наверное, я проиграл», – думал Евгений, и на душе его было светло и спокойно. – «Всё, что я делал, вело меня к цели, и одновременно было абсолютно бессмысленно. Бессмысленна была цель, бессмысленны средства». Это осознание наполняло его необычайной лёгкостью. Каждое мгновение словно вернуло себе самоценность и он жил легко и радостно, ни о чём не заботясь.
Он зачастил на старое городское кладбище, где имел обыкновенье сидеть с мольбертом его новый приятель Рудик. Рудика прельщала панорама: весь город был отсюда виден как на блюде. Ещё он уверял, что старая кладбищенская часовня в былые времена была местом собраний секты неумывайцев, считавших, вслед за евангельским текстом, умывание фарисейским обычаем, отвергнутым Христом и апостолами.
Неся подобную галиматью, Рудик делал быстрые зарисовки, и Евгений радовался как ребёнок каждому найденному им ракурсу.
«Как смешно, – думал Ши, – я ничего этого не видел, а ведь мне казалось, что я знаю абсолютно всё. А может быть, сам город изменился?» – проходя по улицам, он теперь не находил многих знакомых мест.
Рудик говорил, что надо спешить, потому что краевед Бесштанов добивается разрешения на снос всего старого города, чтобы раскопать древний Владимир. И Евгений смешно пугался: «Зачем?»
Город казался ему мандалой, где каждая линия имеет свой глубокий смысл и значение. Он даже начинал думать, что этот город и есть цель его исканий, икона невидимого Града, миросозидающего эйдоса. Его отблески являлись ему на рудиковых зарисовках, и сам художник виделся ему великим святым, кальбом наших дней, в то время как сам он лишь безнадёжно стоит на пороге.
Наверное, в этот Град можно войти, стоит лишь отыскать в лабиринте города нить, ведущую к его сердцу.
Но это сделает уже кто-нибудь другой.
На древнем надгробии он нашёл изображения коня, тигра, дракона и черепахи. Четыре хранителя словно сошлись на совет. И он улыбнулся им, признав старых знакомых: голубоглазый конь, древний одноглазый дракон, синяя черепаха, страшно похожая на мать его квартирной хозяйки, до боли знакомый тигр…
Две чёрные бесстрастные одинаковые фигуры ждали его возле заброшенной часовни. И он подумал: не здесь…
* * *
И настал день, прозрачный и чистый, день отдохновения и день свершения. В аметистовом свечении вечера лица предметов проступили отчётливо, как под воздействием реактива, и он понял, что сегодня получит знак.
Увидев его, он с трудом удержался от смеха: знак, ясный как небесная голубизна, висел на стене в соседней комнате. Все эти дни он ждал его в двадцати шагах дальше по коридору.
Прекрасная танка – вышитая на шёлке тантрическая икона – словно испускала невидимые лучи. Эти двуглавые холмы, это озеро в форме неправильного круга, – он узнал их с первого взгляда. Много раз мысленным взором бродил он вокруг них.
Солнце и стареющая луна, висящие в небе, как это бывает в ранние утренние часы, обозначили стороны света. Четыре яростных локопала по сторонам от неведомого Бодхисаттвы с соколом являли его могучие энергии. Замысловатый узор у подножия трона был знаком пути.
– Удивительная вещь – сказал он, обернувшись к хозяйке, – откуда она у вас, Фира?
– Я её стырила. Клёвенькая, правда?
Фрагмент 9
Наверное, её угораздило купить какую-то особую несохнущую краску. Хотя она никак не могла сообразить, для чего такая краска нужна, но одно из её назначений – выкуривать людей из собственного дома – было ей совершено очевидно. Оставалось одно из двух: или явиться к Ипе с повинной (что было исключено), или отправиться в Вышгород, куда её каждое лето вежливо приглашала пожить материна подруга.
«Интересно, подаст на меня Ипочка в суд за кражу или не подаст?» Только вчера после часа поисков Фира сообразила, что её любимая сумища, без которой, ну хоть убейся, не обойтись, осталась у бывшего супружника. Красная сумища была не простая, а заговоренная, туда влезало всё что надо. А во все остальные… ну, в общем, совсем не то. Поэтому линять без сумищи из Москвы было никак не возможно.
Как она и рассчитывала, Ипатия дома не было. Сняв в прихожей сапоги – не дай бог наследить, – она на цыпочках вошла в комнату. Провела пальцем по тумбочке и присвистнула: Ну и ну! Чтобы у Ипы была пыль! Не иначе как умотал в командировку. Сумища обнаружилась на антресолях.
Чего бы ещё стырить? Вдруг ещё чего-нибудь понадобится. А то ведь новый замок врежет, как пить дать врежет. И записочку придётся оставить, а то ведь сразу милицию вызовет, скандала не оберёшься.
Уже только дома, укладывая вещи, Фира обнаружила, что в сумище лежит маленький свёрточек, который оказался совершенно суперским старинным шелковым платком – большущей расшитой разноцветным щёлком картиной с Буддой, птицей-соколом и страховидными ифритами. (Сама Фира, правда, ифритов никогда не видела, но всегда их вот так примерно себе и представляла). И так как Фира была легкомысленной особой, она тут же решила, что фиг его Ипочке вернёт. Она сделает для него рамочку, или… короче, она придумает, что она с ним сделает и как это будет классно. И она, свернув, снова сунула его в карман сумищи.
Фрагмент 10
– Дороги – нити тончайшей пряжи, это сеть. Она неуловима, но нет никого, кто бы ни попал в неё, – сказала синяя черепаха, – разве эти тропы не тропы времени? Они сжимаются всё туже, ячейки всё меньше. Не пора ли вытаскивать невод?
– Погадаем на твоём панцире, сестрица, – усмехнулся тигр. – Разве время подобно сети? Оно подобно обвалу. Стоило сказать слово и эхо обрушило горы. Что нам остаётся? Слушать отзвуки.
– Ты сам виноват в этом, – сказал голубоглазый конь, – ты вечно лезешь в людские дела, и открыл им слишком многое. Но разве мы не хранители? Разве время властно и над нами?
– Время подобно волнам, – прошептал древний дракон, и надолго замолчал, прикрыв свой единственный глаз, то ли задумался, то ли оцепенел. – Они вернулись, но они совсем другие.
Текст 11
Приковылял одноногий старик.
Ходил, глядел птичьим взглядом.
Хлопнула сама собой крышка от погреба.
Зашумело дождём.
Пришёл поп.
– Зверь родился, доподлинно известно, – сказал.
Ухало, гремело.
– Понаехали чёрные, сила адова, из Масоха да Фувала, и главный у них – Гоги. Чую, последние времена настают, – запугивал.
– Времена, они всегда последние, – сказала Синяя Дама, – не мелите вздор, Джордж.
На крыше сарая мёртвый ворон.
Фира жила в этом городке уже третью неделю, всосанная в него как в воронку. Чуть ли не впервые в жизни она осталась наедине с собой. Тут даже не было телефона. Две недели она ходила растерянная, ошеломлённая нахлынувшей тишиной. Ей всё время казалось, что она это не она. С детства все её считали страшной эгоисткой, но при этом всегда был кто-то, с которым она была «мы». Теперь Фира с удивлением оглядывалась по сторонам, не замечая привычных отражений, и с непониманием ощупывала пустоту.
Но потом этот мир стал постепенно населяться: появился дятел на сосне, и она вдруг поняла, что никогда раньше не слышала дятла, появилась Синяя Дама, появился Зверь. На стене поселился свистнутый у Ипы прикольный Будда с ифритами, а в конце коридора страшно на него похожий дядя Женя, такой же добрый и круглый, только в очках. А ещё были часы, кошки и Елена Аркадьевна. В горшках росли посаженные Фирой ели. Но внутри по-прежнему копошились и больно кусались многочисленные персонажи, которые никак не могли договориться, кто же из них станет Фирой; и ей приходилось бродить по городу и расселять их по разным закоулкам.
Главное, никаких старых знакомых… Чтобы можно было отлёживаться и зализывать раны. И не о чём не думать. Хорошо бы стать клушей. Тупой-тупой и совершенно спокойной. Вообще без нервов и без мозгов, и всё по фене. Какой был бы кайф! Или сразу святой, чтобы всё понятно…
И её желание, кажется, стало исполняться, но как-то странно. Волю её сковала какая-то дремота. Как будто она утонула, и не было даже сил пошевелить рукой, чтобы выплыть.
Это было так на неё непохоже. Всю жизнь она самоотверженно сражалась с многочисленными опасностями: из каждого бутерброда прищурясь выглядывали калории, солнечный свет грозил миомами и ожогами, ядовитые вещества парили как злые духи в атмосфере, копошились в земле и булькали в водопроводной воде. И она бесстрашно заклинала их, умащиваясь кремами и принимая волшебные снадобья, отгоняя недругов диетами и магическими гимнастиками. Но враги мутировали, выдвигали пятую колонну, склоняли к измене вчерашних друзей. Те, на кого она полагалась как на себя, вдруг открывались с новой, опасной стороны, и ей приходилось менять всю диспозицию обороны, вводить новые табу…
И вдруг ничего… Она демонстративно пожирала перед зеркалом целый батон, ожидая вопля ужаса из глубины своего существа – и ничего, молчание…
Даже телевизор смотреть не хотелось…
А в городе вдруг стало страшновато.
«Это, наверно, из-за меня», – горько думала Фира. По некоторым улочкам, куда она расселила своих жильцов, она и сама теперь боялась ходить.
* * *
– Вы только подумайте, этот тип опять мне приснился! – сказала за завтраком Елена Аркадьевна с оскорблённым видом.
Елена Аркадьевна говорила о пропавшем соседе.
В один прекрасный день он, вернувшись с прогулки, зашёл к себе в комнату, и больше его никто не видел.
Более всего Елену Аркадьевну возмущал тот факт, что он пропал именно в доме, а не где-нибудь ещё. И потом, она никак не могла вспомнить, как его звали. Время от времени он ей снился. Во сне она всё хотела высказать ему свои претензии, но это ей никак не удавалось.
Бедная, бедная Елена Аркадьевна, в своих проблемах она никогда не находила сочувствия. Синяя Дама была непроницаема и равнодушна как морская звезда.
Синяя Дама – сумасшедшая мать Елены Аркадьевны – коротко стриглась, кормила пришлых котов и вечно забывала запирать двери. Она была стильной как парадная лестница или старинная чугунная ванна, стоящая посреди фириной комнаты.
А возможно, Синяя Дама была и не такая уж сумасшедшая… Или это просто Фире нравились низкие голоса?
Она действительно любила всё синее и оставляла после себя едва уловимый аромат каких-то нездешних духов – запах древних ларцов, где когда-то хранили благовония, дыма прошлогодней осени, сандалового дерева и чёрного кофе. Когда Елена Аркадьевна уезжала, она пела вполголоса, позвякивая на кухне чем-то старинным, вроде фамильного серебра, чем-то, чем больше никому не удавалось так благородно и старинно позвякивать.
– Девочка, – говорила она Фире, – девочка, если это не ваш сон, то зачем же Вы его смотрите?
* * *
Елена Аркадьевна боялась сквозняков и молчания, ей всегда не хватало денег и времени, и она считала своим долгом поддерживать Фиру морально.
– Глупости, – заявляла она бодрым голосом, – он вернётся. Поймёт, что не прав и вернётся. Человек не может жить один и он, конечно, тебя найдёт.
Но Фиру эта перспектива почему-то не особенно радовала.
Теперь Фиру навещал Зверь.
Со Зверем можно было молчать, а можно было разговаривать.
Он мог часами сидеть в кресле, заложив ногу за ногу и лишь иногда поводя ушами.
– Вы напрасно скрываете свою мохнатость, – говорила Фира, – она вам к лицу. А также тяжёлость, чёрность, пушистость и грациозность, – ей нравилось угадывать в Звере его подлинные черты. – Вы знаете, в юности я собственноручно сводила себя с ума: на нашем курсе модно было быть чокнутым. Всем хотелось быть оригинальными. Вот и результат.
И Зверь грустно и понимающе улыбался.
– Вообще-то, православной девушке негоже с вами якшаться. Но так уж и быть, оставайтесь, – великодушно дозволяла Фира, – но помните, во крещении меня зовут Февронья.
За стеной чихали, но как-то мелодраматически: сначала долго и тоненько – «А-аа», как бы готовя к эффекту, и вдруг – «пчхи!». У Елены Аркадьевны была аллергия на кошек.
С отвращением к себе Фира зажгла свет и поглядела на часы. Двадцать пять минут четвёртого. Фира застонала. Нет, больше ей не выдержать. Пойти бы на кухню, вскипятить чайничек. Ага, а утром Елена Аркадьевна скажет: «Опять ночью кто-то ходил по квартире. Как стадо слонов!» А потом начнёт рассказывать, как у неё болит голова. Уродка. Да что она понимает в головной боли! Головная боль. О-оо! Одно дело, когда вкручивают в висок такое маленькое свёрлышко. А другое – когда глаза застилает красный туман, а по затылку отбойным молотком, завёрнутым в вату. А ещё бывает, когда голову закручивают стягивающим обручем. Интересно, как такая пытка называется? Наверно, «испанская тюбетейка». Раньше Фира так и представляла себе испанцев – в старинных, страшно неудобных обтягивающих костюмах, полупридушенных тугими воротничками, хромающими в своих на два размера меньше испанских сапогах.
Стараясь не шуметь («И вовсе слоны не шумят. Они ходят по джунглям бесшумно. Книжки читать надо!»), Фира слезла с кровати, уселась в кресло и стала слушать, как скрипит дом.
Когда внезапно забили часы, Фира вздрогнула, а потом захихикала:
– Это Елена Аркадьевна их заводит. Но они всё равно идут только когда захотят. – Она помолчала. – Зверь, расскажите что-нибудь умное.
– Эти часы, Фира, боем отмечают смену космических суток, – сказал Зверь. – Когда это происходит, наступает час, когда обычное время перестаёт идти, и всё живет во времени, бывшем до сотворенья мира.
– Врёте! Они всего три дня назад куковали!
Гость пожал плечами. Фира осталась одна. Только в форточке маячил чёрный кошачий силуэт.
Текст 12
Я появился на свет в день, именуемый четвергом. День был сухой и серый. Под ногами потрескивали сучья и шуршали листья. Пахло дымом. Голые ветки деревьев царапали тишину. Чёрная кошка возлежала на красной скамейке. Блёклые цвета ещё не родившейся жизни…
Я иду, осторожно касаясь земли ногами. Когда только рождаешься, надо быть предельно осторожным. Чтобы не вспугнуть. Столбы дыма от куч тлеющих листьев. Чёрная кошка. Минуты не спешат, сплавляются в единую прозрачную массу – во время Оно…
Совсем немного оттенков: серое небо, серый асфальт, белый дым, тополя – серебристо-зеленоватые, кусты, деревянные ставни – все оттенки серого и коричневого. Навсегда? Может быть, и навсегда.
Бледно-серое небо, серый кирпичный дом, длинный и двухэтажный, окна без занавесок. На втором этаже за окном неподвижно стоит пожилая женщина в синем. Тополя. Не забыть.
Я буду приходить сюда часто. Подниматься в полутьме, впитывая запахи подъезда. Странно, очень странно, почему дома, построенные после Сталина, пахнут совсем по-другому? В них исчез запах жизни и времени. Времени, в которое я не жил. Хотя к чему толковать о времени, когда я появился в четверг?
Чужие воспоминания липнут на меня, как на клейкую ленту. Небывшее время имеет привычку продолжаться вечно.
Женщина в синем глядит на меня устало и говорит, что чувствует, как растут деревья: «Они всё время растут. Днём и ночью». Потом она говорит: «Выпейте кофе». И мы пьём кофе.
Её часто навещают бывшие люди. Они приходят в сумерках, но она всегда начинает ждать их заранее. Хотя зачем? Они всё равно приходят незамеченными. По двое, по трое.
Сумерки – это лучший из часов. В прозрачном полумраке всё обретает своё первоначальное звучание. Дома и звёзды, деревья и потерянный мяч становятся тем, чем они были когда-то задуманы – символом тишины. Бывшие сидят неподвижно и слушают.
Женщина смеётся и рассказывает, что они думают сердцем. У бывших людей большое и умное сердце, а мозг им совсем не нужен. В их времена совсем не было электричества, и теперь они приходят, чтобы поглядеть на огни – светящиеся окна, фонари… О чём они при этом думают?
С ними так хорошо помолчать. Они очень деликатны и не приходят, когда приезжает Елена. А может быть, она им просто не очень нравится?
Когда приезжает Елена, я тоже стараюсь не приходить. Елена очень глупа, хотя догадаться об этом не так просто. У неё несколько лиц, и она надевает их по мере необходимости, иногда путая. Женщина в синем рассказала мне, что часто застаёт Елену совсем без лица и тогда старается уйти незамеченной, чтобы не смущать дочь. Однажды Елена потеряла лицо, и я подобрал его на лестнице и теперь иногда надеваю в людных местах. Так легче сохранить одиночество.
С тех пор как Елена решила, что её долг – служить ближним, она стала невыносима, её не любят даже кошки.
Трудно сказать, сколько в доме кошек. Я знаком лишь с немногими. Они встречают меня у подъезда, торжественные, как пушистые сфинксы. Рыжие, чёрные, серые… Их лица внимательны и в тоже время сосредоточенно-отрешённы, их позы расслаблены и неподвижно-стремительны. Они не спешат. Они знают своё право. Они знают, что успеют везде.
Это их дом, их мир, и в этом корень их тайны, их потусторонности. Мир потусторонен для людей, они всегда внешни. Пусть каждый и пытается безнадёжно отрезать свой ломоть, собрать, нагрести кучку вещей и людей и вобрать в себя, продолжить себя в них, и сказать: «Это моё, моё, это я, я, Я!» – какая тщета! Кошки знают.
Тщета. На пустыре у путей красный кирпичный сарай. Ободранный, закопчённый, с широкими неряшливыми зазорами между оббитыми кирпичами. И чёрная, огромными неровными буквами надпись: ЛЕНИН – СТАЛИН – КОМУНИЗМ.
Говорят, при Сталине здесь запрещали убивать деревья. Поэтому они остались – эти тополя, липы, лиственницы, столетние, полные памяти и бытия. Их всего лишь разлучили, разгородили бесчисленными заборами.
Заборы как символ. Неужели коммунизма? Жалкая попытка за-я-чить, за-мы-чить пространство. Мой кусочек космоса, ломтик Бога.