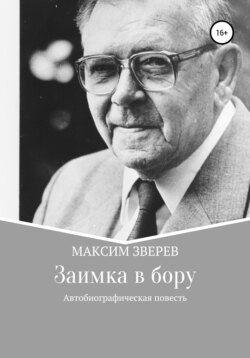Читать книгу Заимка в бору - Максим Дмитриевич Зверев - Страница 4
ДЕТСТВО
СТАРИНЫ ДАЛЕКОЙ ОЧЕВИДЕЦ
ОглавлениеРождество. Раннее зимнее утро. Еще сумерки, а в доме раздается хор детских голосов:
Рождество твое, Христе боже наш,
Воссия мирове свет разума…
Кончается это короткое песнопение веселыми детскими голосами:
– С праздником, хозяин и хозяюшка!
Это пришли славельщики. Вынести им мелких монет, печенья и конфет было моей обязанностью. Ребята благодарили и убегали славить в следующий дом. Вскоре появлялись новые славельщики. За утро их приходило несколько шумных стаек. Угощение для них мать приготовляла с вечера.
Хлопот у хозяек было множество. По своим достаткам в каждом доме двадцать пятого декабря накрывали праздничный стол. А у богатеев— купцов на все рождество и святки накрывались столы со всевозможными закусками, дорогими винами, жареными поросятами, утками и гусями, запеченными окороками и другими угощениями. Хозяйка принимала визитеров – более близкие знакомые приходили и выпивали рюмочку— другую и закусывали, менее близкие – оставляли только визитные карточки.
В последних классах я дружил с Глебом Платоновым, сыном барнаульского богача и с двумя его сестрами Любой и Зиной. У них-то я и повидал роскошный рождественский праздничный стол. Меня тогда особенно поразило обилие свежих фруктов: верненский душистый апорт, крупные груши – дюшес, виноград и многое другое. Первый раз в жизни я робко взял со стола у Платонова грушу и навсегда запомнил ее вкус. Фрукты с юга завозились на лошадях, в санях, закутанные в кошмы, в Барнаул, Томск и другие сибирские города. Всю зиму ими торговали только татары в полуподвальных лавках, почти не отапливаемых.
На все святки распределялись дни, к кому из товарищей идти на елку. Друзей было много, дней не хватало. У нас в доме родители устраивали елку в сочельник – в ночь под рождество – двадцать четвертого декабря.
Танцевали на вечерах под бренчание балалаек, игру гитар и гармошек. В очень богатых домах появились пружинные граммофоны, они заводились ручками. Неожиданно граммофон появился и в нашей семье, самым удивительным образом. Мои родители оба курили. Тогда не было в продаже сигарет и готовых папирос. Табак продавался отдельно от пустых гильз. Курильщики дома сами набивали табаком гильзы или курили трубки и самокрутки.
Отец купил перед рождеством коробку гильз фирмы «Катык», вскрыл ее и обнаружил в ней выигрышный билет на один граммофон с набором пластинок.
В то время конкурирующие фирмы широко рекламировали свои товары, обещая покупателям выигрыши, если они будут покупать табачные изделия только у них. На коробке было написано: «Покупайте только гильзы «Катыка», и дальше шел перечень предметов, которые можно было выиграть. Из многих сотен тысяч коробок отцу досталась «счастливая»! В тот же день был принесен домой граммофон с десятком пластинок.
Кроме песен Собинова, Шаляпина и других были четыре с танцами – вальсом «На сопках Маньчжурии», полькой, венгеркой и казачком. Все рождество мы таскали граммофон по вечеринкам из одного дома в другой.
В Сибири никогда не было крепостного права и помещиков. Но дворянское собрание было на углу улицы Томской и Соборного переулка (ныне ул. Короленко). Впрочем, интеллигенция называла этот клуб «Общественным собранием».
На святках в дворянском собрании устраивались вечера— маскарады. А мы устраивали маскарады у себя дома и веселыми шумными компаниями ряженых ходили по знакомым семьям. Кончалось все танцами под наш граммофон. Была у меня и неприятность. В магазине я купил погоны полковника, нарядился офицером, а вместо шашки выпросил у товарища отца шпагу с кистью от парадного мундира.
Каково же было мое смущение, когда, раздевшись у соседей по заимке Давидовичей, я обнаружил, что шпага где-то выпала по дороге. Вечер был испорчен. Отцу пришлось купить новую шпагу в магазине и отдать товарищу.
Когда началась война, в гимназиях на рождественских каникулах устраивали шумные вечера с танцами, играми, благотворительными лотереями в пользу детских приютов и раненых.
Последнюю неделю перед рождеством было три дополнительных урока по закону божьему. Священник Иоанн Горитовский приходил в новой рясе, на груди у него висел серебряный крест на цепочке. Он был особенно строг на этих уроках. И надо же было Боре Пушкареву, моему соседу по парте, поднять руку.
– Что тебе? – строго спросил священник.
– Батюшка, Вы говорите, что бог троичен в лицах – отец, сын и дух святой. Значит, если три головы, то и три шеи должно быть?
Мы испугались, увидев, как побагровел от гнева наш батюшка и крикнул:
– Молчи, еретик, вон из класса, богохульник! – Жирная единица возникла в классном журнале против фамилии Пушкарева.
Конечно, перед праздником нас «гоняли» в церковь ко всенощной. Там ученики гимназии и реального училища рядами стояли справа, а гимназистки – слева. Отец Иоанн Горитовский строго следил в щелку алтаря за нами. Если замечал перешептывание, вызывал на амвон, ставил на колени и нужно было «бить» сорок поклонов. Тогда грех прощался! Пришлось это испытать и мне. Я пытался рассмотреть, даже привстал на цыпочки, пришла ли моя подружка Катя из «синей» гимназии, соседка по заимке. Это было замечено! Я «бил» сорок поклонов, но с амвона Катю увидел!
Шестого января было крещение. Каждую зиму мы ходили на берег Оби смотреть «моржей» того времени. На льду были вырублены проруби в форме креста или обыкновенная прорубь, но с часовней над ней, выложенной из льдин, выпиленных в виде кирпичей. На— берег сходилось много зевак. Около проруби находились священники (служили молебен). Смыть с себя грехи можно было только в этот день в году. Эта процедура протекала так: к проруби подъезжали сани. В них лежал голый человек, закутанный в тулупы. Священник благословлял грешника, и он прыгал в прорубь. С округлившимися глазами от холода, захватывающего дыхание, человек трижды окунался с головой. Затем с ярко-красным телом, как ошпаренный, выскакивал из проруби на пронизывающий ветер, иногда при сорокаградусном морозе. Священник что-то скороговоркой бормотал, крестя избавившегося от грехов, а человека заворачивали в тулупы, укладывали в сани и вскачь увозили домой.
Но гораздо больше было таких желающих избавиться от грехов, которые не имели своих лошадей и денег, чтобы нанять их. Но они были глубоко убеждены, что избавиться от грехов можно только таким мучительным способом. Люди раздевались догола на ветру и морозе, крестились и бросались в воду. Одеться им помогали добровольцы из толпы. Находились и сердобольные люди, которые увозили «счастливчиков», избавившихся от грехов.
Старинный русский праздник масленица, на переломе зимы и весны, христианство приурочило к «сырной неделе» перед началом великого поста. Во время этого поста не разрешались увеселения и полагалась только постная пища без мяса, молока, за исключением трех дней, когда можно было есть рыбу, но только мелкую: ершей, чебаков и почему-то налимов. Три дня в школах не учились, а учреждения были закрыты.
Наша семья не признавала поста; ели «скоромное», но утро первого дня масленицы всегда будило меня традиционными запахами кухни: там пеклись гречневые блины, стряпали пироги и варили в масле хворост. По вечерам семьями ходили в гости.
Молодежь на коньках каталась на городском пруду и на санках или на листах фанеры с катушек, которые строили еще летом, деревянные, высокие, а зимой обливали водой и делали ледяными.
Все три дня на главной улице Барнаула устраивались катания на лошадях. В санях, розвальнях и в кошевах жители съезжались на Пушкинскую улицу и начиная от реального училища ехали друг за другом до Оби. Там поворачивали и ехали по той же улице обратно с песнями, гармошками, звоном колокольчиков и бубенцов под дугами и на шеях лошадей. Как на свадьбу, лошади, сбруя, дуги разукрашивались лентами и бумажными цветами. Сзади на сани набрасывались ковры. К полудню на Пушкинской улице скапливалось так много подвод, что образовывалось два потока друг другу навстречу. Вновь приезжающим из соседних улиц и переулков приходилось ждать, пока не появится перерыв в сплошном потоке, чтобы заехать и влиться в праздничное катание. У кого не было собственной лошади, нанимали извозчиков. Молодежь складывалась и нанимала ямщицкие тройки с обширными кошевами, ехали в них с песнями и даже умудрялись плясать.
Каждый год в эти дни у нас тоже запрягали в санки Гнедка, а сзади саней набрасывалась плюшевая скатерть с круглого стола из комнаты отца, за которым он принимал посетителей. Ковров отец в доме не признавал, считая это мещанством. Я с гордостью восседал на облучке вместо кучера и правил лошадью, а концы вожжей отец все же держал в руках.
Гнедко нехотя шагал, то и дело отставая от едущих впереди. Но когда от Оби поворачивали обратно, у коня лень как рукой снимало, он начинал торопиться домой. Мне приходилось изо всех сил тянуть одну вожжу, чтобы Гнедко не вышел в сторону из общего движения. Тогда он рвался вперед, наступал на сани едущего впереди и брызгал пеной на ковер и даже толкал мордой в спину едущих впереди.
– Забери вожжи у мальчишки! – орали на отца из передних саней.
Зимой почти каждое воскресенье на льду огромного городского пруда, покрытого снегом, собирались большие толпы парней. Еще больше зрителей приходили на берег. С одной стороны, это были жители нагорной части Барнаула, с другой – жители нижней части и центра. Это два враждующих лагеря (только по воскресным дням) на льду пруда.
Сначала парни обоих лагерей стояли на почтительном расстоянии друг от друга, выкрикивая хвастливые задиристые подзадоривания. Начиналось все словно для потехи. Наконец, не выдерживали первые двое и выходили в промежуток между толпами «нагорных» и «зайчакеких». Начиналась борьба под свистки и ободряющие крики с обеих сторон. Кто-то из двоих побеждал, к тогда выбегало сразу несколько пар. Страсти накалялись, неслись оскорбительные выкрики, из одного лагеря в другой летели обломки кирпичей. Снег на льду окрашивался кровью. Наконец, враждующие с криками бросались друг на друга всем скопом, стенка на стенку. Если кто падал, того не трогали – лежачего не бьют! Этого гуманного правила все строго придерживались.
На берегу пруда, позади толпы зрителей, в восторге кричавших и подзадоривающих дерущихся, наряд конной полиции терпеливо ждал, когда борьба перейдет в драку. Привязав лошадей к забору, городовые в черных шинелях, с шашками и револьверами в кобурах на красных шнурах, приплясывали на морозе, размахивали руками, грелись, как могли, ожидая, не начнется ли драка, чего им было приказано не допускать.
А свалка на пруду все разгоралась. Крики становились все громче и сердитей.
– Зачалось, однако, недозволенное! – раздавалась команда, и конные городовые карьером вылетали на заснеженный пруд с грозными окриками:
– Ра-а-а-зойдись!!!
Нагайки городовых начинали свистеть по спинам драчунов. Весь азарт у парней сразу снимало.
Пруд пустел, а зрители на берегу расходились, обсуждая и споря. А городовые выносили на берег тех, кто не мог встать. Телефона тогда поблизости не было, и один из городовых уезжал в город за каретой «скорой помощи».
Эти кулачные бои устраивались в Барнауле исстари. В других сибирских городах кузнецы бились с гончарами, медники с суконщиками, варенные с городскими. У нас в Барнауле существовал явный антагонизм между гимназистами и реалистами. Даже косились друг на друга гимназистки двух женских гимназий – казенной, косившей коричневую форму, и частной – в синих форменных платьях.
Мне всего один раз удалось посмотреть на кулачный бой на пруду в Барнауле. Но зато во всей красе. Мой закадычный друг детства Степа Жилин работал наборщиком в типографии, когда я учился в старших классах реального училища. Однажды он пришел ко мне за очередной книгой Жюля Верна, нашего любимого писателя тех лет. Голова у него была забинтована.
– Что с тобой, Степка? – удивился я.
– На пруду в воскресенье кирпичом задело, хорошо скользом.
Конечно, в следующее воскресенье мы вместе пошли на пруд, тайком от моих родителей, и не в форменном пальто и папахах, а в полушубках и шапках-ушанках. Мог ли я тогда подумать, что этот грандиозный кулачный бой 1913 года, с трудом разогнанный конными городовыми, был последним в Барнауле? Ранняя бурная оттепель за неделю нагнала воду поверх льда, бои прекратились до будущей зимы. Но летом началась первая мировая война. Потом революция, и кулачные бои в Барнауле прекратились навсегда.
Еще одно шумное сборище народа старины глубокой – это Барнаульская ярмарка в Екатерйнин день 24 ноября по старому стилю. Она устраивалась ежегодно «на песках» за прудскими переулками в самом конце Сузунской улицы. Там заблаговременно строилось множество временных ларьков, навесов, прилавков и палаток.
Первый раз мне удалось побывать на ярмарке лет семи. Она навсегда запомнилась. Маме нужно было проверить там работу ларька Красного Креста. Отец повез нас туда, но сам остался с лошадью – кругом шныряли цыгане, прославленные конокрады. Мама повела меня за руку, и мы сразу оказались среди шумной толпы.
Я прямо остолбенел, увидев ларек, отделанный Вяземскими пряниками. А там, за прилавком – филипповские, мятные, медовые, московские и другие пряники. Разное печенье, конфеты. Над ларьком вывеска: «Изделия купца первой гильдии Зудилова».
– Мама, купи… – пролепетал я, тормозя валенками и упираясь.
– Ни в коем случае! Я покупаю сладости только в магазине. И она потащила меня дальше: мама была медичка, и ей всюду мерещились заразные болезни.
Чего тут только не было кругом! Ларьки с мануфактурой, игрушками, горы замороженных целиком туш свиней, овец, коров, рябчиков, тетеревов, белых куропаток. Рядом за прилавками торговали морожеными пельменями, фруктами, коричневой пастилой из яблок, свернутой рулоном, как толстая коричневая бумага. «Тормозил» я и около кукольного театра, у цыган с медведем, около скоморохов. Но мама волокла меня дальше, все больше торопясь. Наконец, потеряв надежду найти ларек Красного Креста, она спросила городового.
– Наспротив ево, барыня, изволите стоять! – простуженным на морозе голосом ответил он и козырнул.
И в самом деле, мы стояли около ларька Красного Креста, но он был закрыт на замок!
Так мы и вернулись домой, ничего не купив. Но вяземских пряников по дороге в магазине мама купила полфунта.
На Конюшенной площади, между цирком-шапито братьев Коромысловых и реальным училищем устраивался небольшой филиал ярмарки. В Дунькиной сосновой роще работала под легким навесом «Обжорка» торговки в белых передниках продавали мороженые пельмени. Покупателю пельмени тут же варили. Здесь устраивались соревнования: бег в мешках, катанье на круглых бревнах, подъем по столбу и другие увеселения.