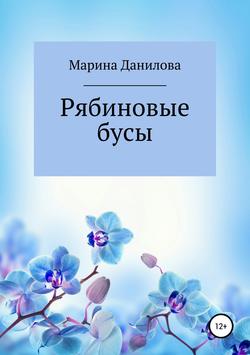Читать книгу Рябиновые бусы - Марина Валерьевна Данилова - Страница 1
ОглавлениеМарина Данилова
Рябиновые бусы
(маленькая повесть)
Утро выветрилось погожее, ясное. Густой туман белыми барашками низко стелился над Светлым озером, повисая над крутым оврагом и луговиной. Ночная тишина уходила, уступая место пробным трелям утренних птиц. Солнце первыми робкими лучами пыталось разогнать тягучую ночную прохладу. Светало…
Сбивая росу, отец Арсений шел по духмяному лугу к виднеющемуся вдалеке тенистому лесу. На лугу царило буйное разнотравье. Сладко пахло медовым клевером, розовел на пригорках иван-чай, там и тут пестрели васильки и ромашки, сквозь которые нет-нет да и проглядывали лиловые фонарики колокольчиков. «А воздух, воздух-то какой! – вдыхая полной грудью, тихо ликовал отец Арсений, – особенно после моей-то душной маленькой келейки!»
Пройдя две версты по душистому лугу, отец Арсений вошел в густой царственный лес. Тот встретил его величавым молчанием. Мудростью и покоем веяло от столетних дубов, вековых сосен. А какое раздолье для ягодников да грибников! У развесистой березы примостилась стайка крепеньких рыженьких лисичек. В промелькнувшем осиннике ждут своего часа крепыши-боровички. В мохнатом ельнике там и сям вылезают коричневые шляпки заветных беленьких. Земляника уже отошла, лишь кое-где кивают головками алые маячки. Зато вовсю поспевают черника, голубика. И ничего нет слаще лесной малины! «Да…воистину гостеприимен ты, батюшка лес!» – тепло подумал отец Арсений, идя среди всего этого лесного богатства.
Старый батюшка шел на далекую лесную заимку к известной всей округе бабке-травнице. Что-то в последнее время его сильно стала беспокоить спина. Согласно людской молве, эта старушка уже долгие годы жила одна, коротая жизнь среди вековечного леса. Неторопко шествовал отец Арсений по дремотному лесу, и ему хорошо думалось, вспоминалось. Памятны были эти места отцу Арсению. Когда-то очень давно, провел он в здешних краях свою молодость. «Словно вчера все было… Словно вчера…»
Среди глухих сибирских лесов раскинулось село Никольское. Название свое оно получило от Никольской церкви – храма во имя святого Николая Чудотворца. После Октябрьской революции власть сменилась, а церковь, как ни странно, уцелела. Летом село утопало в зарослях буйно разросшегося можжевельника. Весной из палисадников тянуло пахучим дурманом черемухи. А осенью у крылечек домов смиренно склоняла свои ветки терпкая пурпурная рябина.
Неширокие улочки села были разбросаны как попало, и, теряясь за крутыми пригорками, выходили большей своей частью к маленькой речушке Серебринке. Вода в ней и вправду была прозрачной, чистой как стеклышко. А осенью, по первому ледку, без труда можно было разглядеть песчаное речное дно…
* * *
Шел 1925 год. В Никольском крестьянская семья Платоновых жила не хуже, а может даже и лучше многих других. Платоновы держали двух коров, теленка, поросят, кур и гусей. В доме всегда было свое молоко, сметана, масло, свежанинка на зиму, парная телятина летом. Глава семьи, Никодим Фролыч был мужик видный: могутный, статный, с русыми густыми волосами и небольшой аккуратной окладистой бородкой. Крепкий, закаленный, даже в самые лютые сибирские морозы Никодим ходил в распахнутом полушубке. Хозяин. Крепкий достаток семьи доставался большим трудом.
Четверых сыновей растили Никодим Фролыч и жена его Евдокия Михайловна: Матвея, Федора, Степана и его, Арсения. Арсений, к тому ж еще и старшим был, потому с двенадцати лет помогал отцу на покосе, трудился в поле, в огороде, словом, работал на земле. По выходным и на большие праздники родители ходили в церковь пока ее не закрыли. Детей не брали, но эти дни всегда казались Арсению какими-то особенными. Он ждал, когда мать с отцом вернутся со службы и вся семья, помолившись в «красном» углу перед иконами, сядет за длинный деревянный стол. Отец выставлял большой пузатый самовар, а мать доставала выпеченные еще с раннего утра пышные румяные пироги и душистые ароматные ватрушки. Ну и мастерица она была по пирогам-то! Уж каких только не напечет: и с капустой, и с картошкой, и с грибами, и с черникой. А сладкие ватрушки с творогом да с малиной! Словом, объедение!
К шестнадцати годам Арсений вытянулся, раздался в плечах, и, приглаживая непокорные русые вихры, стал ходить по субботам на вечерки да игрища. Гуляла молодежь на крутом косогоре за церквушкой. Девки и парни пели песни, шелухали семечки и выходили плясать на круг. Бывало, до первых петухов проторчит там Арсений, заявится домой, заберется на сеновал, упадет на душистое сено, только забудется сторожким сном, а мать тут как тут, уж будит его на сенокос.
Многие девчата заглядывались на рослого, статного Арсения, но он, не отказывая в танце никому, потом вежливо провожал до дома и степенно откланивался. Только одна девушка никогда не подходила к Арсению и не зазывала его на круг. Это была Василиса, дочка вдового мужика Егора Красавина. Да и Арсений редко смотрел в ее сторону, но однажды, ради спора, подошел, приглашая на круг и ее. Когда она вскинула на него глаза, Арсений понял: «Пропал!» Глаза у девушки были огромные, синие, нет, не просто синие: васильково-родниковые! Они так словно и затягивали в какой-то зыбкий бездонный омут. Будто испугавшись чего-то, Василиса скромно потупила взгляд, и, немного помедлив, нерешительно вышла на круг…
С этого дня Арсений ходил словно хмельной. С ним еще никогда такого не бывало. Он ел, спал, работал, помогал отцу, о чем-то разговаривал с братьями, но эти васильково-родниковые глаза не давали ему покоя. Он помнил о них всегда. Они словно звали, манили его куда-то. Арсений больше не ходил на вечёрки. Они с Василисой встречались у двух развесистых берез, там, за косогором, за церквушкой. А дальше, взявшись за руки, просто шли и шли, порой не замечая ничего вокруг… Их радостно встречал васильковый луг, колыхалось навстречу зыбкое поле, качали мохнатыми лапами ветки пушистых елей. Едва касаясь друг друга плечами, шли они по узенькой лесной дорожке, и бутоны лиловых колокольчиков ласково кивали им вслед.
– Василинка, Василинка ты моя, – тихо и ласково шептал Арсений, – что же ты со мною делаешь?
Василинка вскидывала на него свои сияющие синие глаза и кротко улыбалась в ответ.
Им казалось, что счастье их так безоблачно, так бесконечно… Но однажды Василиса пришла к березам непривычно печальная.
– Я уезжаю в город на заработки, – сказала она.
В семье вдовца Егора Красавина Василиса была старшей. Как могла, помогала она отцу, но сводить концы с концами становилось все труднее. После безвременной смерти жены, Егору надо было поставить на ноги шестерых детей: четверых сыновей и двух дочек. «Ничего, ты уже девка большая, справишься, вон, шестнадцать годков тебе стукнуло, пора в город ехать на заработки, – говорил Василисе отец. – На фабрику обувную, слыхал я, работницы требуются. Вот и поезжай», – благословил дочь Егор.
– А долго ты там пробудешь? – тоскливо спросил Арсений.
– Не знаю, Арсюша. Может, год – другой… А может, и быстрее возвернусь, – грустно молвила Василиса. – Ты только смотри не забывай, помни меня.
– Ни на денек не забуду! – смахнув непрошенную слезу, проронил Арсений.
В тот вечер гуляли они до утренней зорьки, прося друг друга помнить и не забывать.
Арсений пришел домой, когда солнце давно уже встало, и отец, что-то ворча себе в бороду, недобро посматривал на сына. Мать же не промолвила ни слова, ласково глядя на своего первенца. «Хоть ты меня понимаешь, мама», – грустно и тепло подумал Арсений. Евдокия Михайловна несуетливо и деловито сновала по избе, выставляя на дощатый стол кринку парного молока, каравай свежеиспеченного хлеба. Маленькая, незаметная, с добрыми лучистыми глазами, она никогда не перечила мужу, редко повышала голос на детей, всего добиваясь тихой, но настойчивой просьбой и ласковым словом. «Душевная баба», – говорили на селе, и добрая половина никольских мужиков втихаря завидовала Никодиму.
Прошел год, второй. В работе время летело совсем незаметно. Но не было дня, чтобы Арсений не думал, не вспоминал свою Василинку. А на третий год по селу поползли тревожные слухи. Болтали люди, что видели Василису в городе с ребятенком на руках. Не верил этому Арсений, не верил! Но когда и сосед Платоновых, Михей Корзин, который ездил на три дня в город мед продавать, подтвердил эту новость, тогда… Захолонуло сердце Арсения, заныло, застонало. «Как же так, Василиса, как же так?» По селу ходил Арсений мрачнее тучи, чернел лицом и молчал. И так-то не больно разговорчив был, а тут совсем в себя ушел, закрылся от людей, от всего белого света закрылся. А еще через год и сама Василиса из города приехала. Не одна, с мальчонкой на руках. Да не принял ее отец родной, не приняли и братья с сестрами.
– Откудова выкормыша принесла, вот туда и возвертайся! – исступленно кричал на дочь Егор Красавин. – Здесь своих не знаешь, как прокормить, а тут еще лишний рот! – не слушая объяснений дочери, продолжал свое Егор.
Ничего не ответив, Василиса молча проглотила горький комок в горле и, поклонившись отцу, едва сдерживая слезы, с мальчонкой на руках выбежала из избы.
Из села Василиса не ушла. Поселилась она на его окраине, в вырытой кем-то, да так и оставленной землянке. Утеплила ее, обустроила как могла, и стала жить. С мальчонкой. С трехлетним Ваняткой. Какая-то сердобольная старушка привела Василисе козочку, мол, надо ведь молока для ребятенка! Летом и осенью прожить помогали щедрые лесные дары и запасы, а вот зимой приходилось туго. Но находились добрые люди: кто полмешишка картошки принесет, кто маслицем и свежанинкой свиной поделится. Так и жили.
Арсений Василису с того памятного расставания больше не видел. Сколь раз его словно что-то толкало в спину: мол, иди, погляди, поговори, разузнай все сам! Но не мог он пересилить свою гордость, свое упрямство, свою обиду. А сердце по-прежнему ныло, болело, щемило. Арсений старался забыться работой в поле, помогал по хозяйству, надеясь, что время залечит его ноющую рану.
В стране меж тем грянула коллективизация. Повсюду стали создаваться колхозы, и нажитое тяжелым трудом «живое» хозяйство надо было отдавать в общественное пользование. Сильно противился этому Никодим Фролыч. Сколько пота он пролил, сколько мозолей набил на руках, стараясь, чтобы в семье был достаток. А тут на тебе! Отдавай! Власти долго церемониться не стали. Объявили Платонова кулацким элементом, имущество конфисковали, а самого с семьёю постановили выслать на Соловки.
Не вся семья уезжала в дальнюю тяжелую дорогу. Арсений принял непростое решение – записаться в колхоз. Была у него на это своя причина. Не мог он забыть Василису. Уехать – значило никогда больше не увидеться с ней. Горьким было прощание с родителями и братьями. Отец, Никодим Фролыч, так и не смог простить поступок сына. Только мать, тихонько заплакав и перекрестив своего старшенького, благословила остаться.
– Никогда не забуду я тебе этого, мама, – прошептал Арсений, низко кланяясь в пояс, – и прости меня, не осуждай…
Никогда больше потом не видел Арсений своих родителей и братьев. Остался работать в колхозе. В большом доме Платоновых поселилась семья нового председателя, а Арсения приютила старая бабка Акулина, что жила в ветхой покосившейся избенке у самой Серебринки. Всем, что Арсений зарабатывал в колхозе, делился он с доброй старушкой, да и дом немного подправил, крышу подлатал. А трудился Арсений колхозным конюхом. Работу свою любил. Зимой почти все время проводил в конюшне: задавал лошадям сено, чистил стойла, да и любого коня мог при случае на кузнице подковать сам. Но особенно Арсений ждал лета. Оно в Сибири короткое, но жаркое, ядреное. Не успевали в небе погаснуть бледнеющие звезды, а Арсений уже был на ногах. В росистое молочное утро, когда юная заря еще только начинала теплиться, выводил он коней на колхозные луга. Арсений любил эти ранние утренние часы, когда земля и природа – казались непорочными, девственно-нетронутыми. В эти минуты всё живое будто замирало кругом, останавливалось на какое-то время, а потом, словно выйдя из летаргического сна, постепенно оживало, начиная просыпаться. Поднимался игривый утренний ветерок, заставляя качать головками луговые ромашки и колокольчики. Прочищали горлышко лесные соловьи. Солнце первыми теплыми лучами ласково обогревало волглую от ночной прохлады землю. Занимался очередной летний день.
Пася колхозных коней, у Арсения было много времени, чтобы подумать, поразмышлять. Но думы его были горькие, невеселые. Не мог забыть он свою Василису. Арсений знал, что какое-то время Василиса работала на колхозном птичнике, потом на ферме. Видел мельком ее несколько раз, но подойти не решался. С тоски Арсений начал было ходить на воскресные вечерние посиделки. Колхозные девчата наперебой зазывали его на танцы, поддразнивая за нелюдимый характер, но Арсений только скупо отшучивался, продолжая сидеть в стороне. Всякий раз, заходя в колхозный клуб, он с надеждой высматривал Василису, хотя знал, что сюда она вряд ли придет.
Так и жил один, бобыль бобылём. Старая Акулина не раз говаривала ему:
– Хозяйка тебе нужна, Арсеньюшка. Видано ли дело, мужику век одному куковать, да и годков-то тебе уж под тридцать. Пора милок, пора.
И хотел было уж Арсений молодую жену в дом привести. Миловидной, румяной дочке колхозного кузнеца Груне сильно люб он был. И со свадьбой почти что уж сговорились. Да и с новым домом председатель помочь обещал. Вот только как-то на вечерней зорьке пошел Арсений к речке, наклонился над ракитовым кустом, смотря на воду, а оттуда, словно из глубины души своей, глянули на него васильково-родниковые глаза. И всё. Будто молния в голове сверкнула. «Что я делаю? Зачем? Ведь не люба же мне Груня! Василинку не могу забыть! Видно, однолюб я».
Так и шел год за годом. Вёсна сменяла зиму, лето подгоняло осень, та снова торопила зиму, а потом опять приходила новая весна…
Шел сорок первый год.… Это была тридцать вторая весна в жизни Арсения.… И была эта весна ранней, удивительно буйной. Пышно цвела черемуха, наливались белыми и лиловыми гроздьями ветки сирени, проклевывались первые нежные листики белоствольных берез. Терпкий, дурманящий запах молодого сосняка и ельника пьяно кружил голову.
Светлым пахучим майским вечером Арсений вышел из избы бабки Акулины. Целый день с ним творилось что-то непонятное: сердце то сладостно щемило, то неслось огромными бешеными скачками, то словно проваливалось куда-то. Пройдя кривые извилистые улочки села, Арсений вышел к Никольской церквушке, а дальше ноги будто сами привели его к двум памятным раскидистым березам. Словно очнувшись от какого-то хмельного наваждения, Арсений поднял голову и, казалось, прирос к земле… У берез, горячо обняв их руками, припав к ним щекой, стояла Василиса. Через мгновение взгляды их встретились, но мгновение это показалось Арсению вечностью… «Вот так бы всегда стоял и смотрел в эти родные васильковые глаза, такие бездонные и такие отрешенные».
– Ну, здравствуй, Арсюша! – первой заговорила Василиса.
– Здравствуй, – с трудом шевеля непослушными губами, вымолвил Арсений.
– Давно я жду тебя, Арсюша. Заждалась совсем.
– Давно? – удивленно переспросил Арсений.
– Да который уж годик. В день, когда сирень полностью распустится. Ты же помнишь ту нашу первую встречу, – с кроткой печалью в голосе грустно молвила Василиса. – Что же ты так долго не шел, Арсюша?
– Не мог я. Не мог, Василисушка. Ведь с мальчонкой вернулась ты. Поверил я тогда бабьим сплетням.
– Поверил.… Посмотри на меня, Арсюша.… А сейчас, сейчас ты веришь? – глядя на Арсения чистыми распахнутыми глазами, спросила Василиса.
– Нет. Тебе верю, Василиса, тебе одной!
– Как же ты мог, Арсюша? Как ты мог поверить, будто я предала нашу любовь?! Ладно… Чего уж теперь об этом.… Ведь столько времени с той поры утекло…
« Да, время прошло, а ты будто и не меняешься, – подумал Арсений, – все та же стать, юное чистое лицо, тяжелая пшеничная коса, перекинутая на высокую грудь».
– Простишь ли ты меня, Василисушка? – тревожно спросил
Арсений.
– Давно уж простила, Арсюша. Нет в моем сердце зла и обиды. Только светлая грусть и осталась, – тихо молвила Василиса.
– А любовь? – с остановившимся сердцем прошептал Арсений.
Надолго замолчав, ничего не ответила ему Василиса, только в глазах ее тревожно плескался трепетный, негаснущий огонь. Ни слова больше не спросив, Арсений потянул Василису за руку и, сняв с себя легкую тужурку, усадил на нее девушку, сам примостившись у ее ног.
– Как же ты жила все это время, Василиса? – помолчав, вновь подал голос Арсений.
– По-всякому жила, Арсюша.… Когда пришла работать на фабрику, подружилась с хорошей девушкой. Глашей ее звали. И жить вместе стали. Одна добрая женщина сдала нам комнатку за гроши. Вместе-то всё повеселее, поповаднее. Работа на фабрике тяжелая была. Шили кожаные голенища для сапог. Весь день без воздуха. С непривычки спину ломило, руки болели шибко. Да ничего, привыкла. Почти весь заработок отцу в село посылала. Так и жила. А соседка моя, Глаша, она хорошая была, только простая и доверчивая слишком. Да где уж нам, деревенским, против городских-то барышень! Ну вот и поверила она одному красавчику городскому. Спохватилась было, да поздно! Ребеночка ждала. Домой побоялась возвращаться. Да что ж ей оставалось-то? Не в омут же с головой кидаться! Словом, родила она ребеночка. Мальчонку. А сама слегла. Болела долго. Так и не выкарабкалась, померла. Схоронила я Глашу, поплакала, сама думаю: что с ребятенком-то делать? А тут и он захворал, сердешный. Слабеньким народился. Стала я его выхаживать. Уставала, ночей не спала, а выходила! А ведь и он чуть не помер. Вот, пока выхаживала, и привязалась к нему. Казалось мне, что это моя родная кровиночка, мой сыночек. Ну кому ж я его отдам? Так и остались мы с ним вдвоем. Хозяйка, добрая душа, понемножку, чем могла, нам помогала, приглядывала за ним, когда я на фабрике была. Так еще два года пролетело…
Помолчав какое-то время, Василиса продолжила свой невеселый рассказ:
– Ну вот… Потом решила я обратно в село вернуться. Сильно заскучала по родным местам. Получила расчет на фабрике, собрала Ванятку и приехала. Только не принял меня отец родной, не дал мне ничего объяснить. Да и на селе злые языки постарались. Горько мне было, тяжело на душе. Да что тут поделаешь? Еще горше было оттого, что и ты, Арсюша, поверил досужим сплетням, не пришел ко мне! – Смахнув украдкой набежавшую слезу, Василиса стала вспоминать дальше…
– Год-другой совсем нам приходилось туго. А потом попросилась в колхоз, на птичник. И жить перебрались в опустевший домишко Васьки-пасечника, того, что в тридцатом году медведь в лесу заломал. Председатель разрешил. Там и зажили потихоньку. Только тоскливо было у меня на душе, пусто как-то. Один Ванятка радовал, отогревал мое зачерствелое сердце. Да и душа моя рядом с ним отходила, отогревалась. Смышленый рос мальчонка, шустрый. Подрастая, хорошим помощником становился. Любили мы с ним за малиной в лес ходить да за грибами. Бывало, уйдем еще на утренней зорьке по холодной росе. Идем росными душистыми лугами, песни поем. И в лес придем, поем. Ягод насобираем – горстями наедимся и домой полное лукошко принесем. А по осени за белым груздем ходили, да за рыжиками. Очень Ванятка любил картошку с рыжиками в сметане! Так и жили… Потом учиться Ванятка пошел, за семь верст, в школу, в Кедрачах. Учился хорошо, смышленый был. А когда этой осенью четырнадцать годков ему исполнилось, послал его наш председатель в город, в техникум. Да наказал, мол, учись, Ванюшка, набирайся ума-разума, но чтоб потом обратно вернулся хоть агрономом, хоть по механизаторской части. Хорошие специалисты нам и самим нужны. Уехал мой Ванечка осенью, и осталась я опять одна. Ничего, скоро на каникулы должен приехать. Вот так, Арсюша. Со всем я справилась, все выдержала. Да и отец мой давно смягчился, простил меня. Я к нему захаживаю, помогаю. А у сестер и братьев давно семьи свои. Хорошо, ладно живут. По праздникам не забывают, зовут в гости. Вот, Арсюша, и вся моя жизнь, – закончила Василиса непростой свой рассказ.
Проговорили они тогда до первых петухов. А когда провожал Арсений Василису до дома, не выдержал, вновь спросил ее горячим прерывистым шепотом:
– Василиса, милая, ну как же мы теперь? Что ты мне скажешь? Потерял ведь я тебя, дурной, да больше терять не хочу! Будешь ли ты со мной? Любишь ли меня еще?!
Долго, не отрываясь смотрела на него Василиса, а потом, ни слова не говоря, припала головой к его груди, зашептала тихо:
– И я не могу без тебя, Арсюша. Извелась вся, измучилась. Не могу я тебя разлюбить! Не смогла… Видно, до конца жизни один ты на белом свете для меня будешь!
Сердце Арсения, казалось, было готово выскочить из груди.
– Пойдешь за меня, Василиса? – хриплым от волнения голосом спросил он.
– Пойду, – тихо и счастливо выдохнула девушка.
И проросла, распустилась в душах Арсения и Василисы новая весна: чудная, шалая. Вновь гуляли они своими памятными тропками, раскинув руки, лежали на медвяной траве буйно цветущего луга, любовались шафрановыми закатами, встречали соловьиные рассветы. Время для них, казалось, остановилось. Так счастливы, так полны были они своей безгрешной радостью! Свадьбу порешили сыграть в конце июня. Да и оставалось-то до нее совсем уж почти ничего….