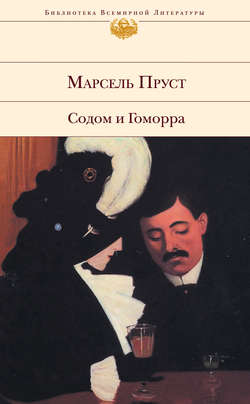Читать книгу Содом и Гоморра - Марсель Пруст - Страница 2
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА 1
Г-н де Шарлю в светском обществе. – Врач. – Характерные черты г-жи де Вогубер. – Г-жа д'Амонкур, г-жа де Ситри, г-жа де Сент-Эверт и т. д. Занятный разговор между Сваном и принцем Германтским. – Альбертина у телефона. Визиты перед моей второй и последней поездкой в Бальбек. – Прибытие в Бальбек. – Перебои чувства.
ОглавлениеЯ не спешил на вечер к Германтам, так как не был уверен, что приглашен, и бродил без цели по улицам; но и летний день словно тоже не торопился. Был уже десятый час, а он все еще придавал сходство Луксорскому обелиску на площади Согласия с розовой нугой. Потом изменил его окраску и превратил в нечто металлическое, отчего обелиск стал не только драгоценнее, но и как будто более тонким, почти что гибким. Воображению представлялось, что драгоценность эту можно погнуть, что, пожалуй, даже ее слегка покривили. Луна была сейчас как ломтик апельсина, аккуратно отрезанный, но уже надкушенный. Еще немного – и она покажется отлитой из прочнейшего золота. К одинокой луне льнула единственная ее спутница-звездочка, но только луна, охранявшая свою подружку, смелее, чем она, двигалась вперед и уже собиралась поднять, как непобедимое оружие, как некий восточный символ, свой широкий, чудный золотой серп.
Около дома принцессы Германтской я встретился с герцогом де Шательро; я успел забыть, что всего лишь полчаса назад меня мучила мысль, – впрочем, скоро она опять во мне зашевелится, – что я иду без приглашения. Порой нас охватывает тревога, но вдруг нас что-то отвлечет, и мы забываем про нее, а потом опять вспоминаем, хотя и далеко не сразу после того, как опасность минует. Я поздоровался с молодым герцогом и вошел в дом. Тут я должен указать на одно обстоятельство, само по себе маловажное, но благодаря которому легче будет понять то, о чем речь пойдет дальше.
Был один человек, который в этот вечер, так же как и в предыдущие, много думал о герцоге де Шательро, хотя и не имел представления, кто он такой: человек этот был швейцар (в те времена у швейцаров было прозвище «горлодеры») принцессы Германтской. Герцог де Шательро отнюдь не принадлежал к числу друзей – он был всего лишь дальним родственником – принцессы, и сегодня он впервые получил приглашение в ее салон. Его родители десять лет были с ней в ссоре и только две недели тому назад помирились, но как раз в этот вечер они должны были уехать за город и в качестве своего представителя послали к ней сына. Так вот, за несколько дней до этого швейцар принцессы встретил на Елисейских полях молодого человека; он был очарован им, но так и не узнал, кто это. И не потому, чтобы молодой человек был щедр, но нелюбезен. Напротив, все те услуги, какие швейцар считал необходимым оказать молодому барину, барин оказал ему. Но герцог де Шательро, при всей своей неосторожности, был трусишка; он не хотел открывать свое инкогнито, главным образом потому, что не знал, с кем имеет дело: он струсил бы еще больше, – хотя и без особых оснований, – если бы это стало ему известно. Герцог выдал себя за англичанина, и, как ни любопытствовал швейцар, которому страх как хотелось еще раз встретить человека, доставившего ему такое удовольствие и так щедро его вознаградившего, он, пока они шли по авеню Габриэль, на все его вопросы отвечал: «I do not speak French»[1].
Против очевидности, – помня лишь о том, от кого по материнской линии происходит его родственник, – герцог Германтский утверждал, будто в салоне принцессы Германт-Баварской есть нечто от Курвуазье, тогда как другие судили об изобретательности и умственном превосходстве этой дамы по одному нововведению, которого в этом кругу нигде больше не было. Как бы ни был торжествен званый вечер у принцессы Германтской, после ужина, пройдя в салон, вы обнаруживали, что стулья расставлены здесь небольшими группами так, что в случае надобности гости могут повернуться друг к другу спиной. Принцесса присоединялась к одному из этих кружков – в том, что она как бы оказывала ему предпочтение, проявлялись ее общественные взгляды. Впрочем, она безбоязненно останавливала свой выбор на ком-либо из другого кружка и вовлекала его в разговор. Если, допустим, она обращала внимание Детая, который, конечно, с ней соглашался, какая у г-жи де Вильмюр, сидевшей в другом кружке спиной к ней, красивая шея, принцесса тотчас окликала ее: «Госпожа де Вильмюр! Такой великий художник, как господин Детай, залюбовался вашей шеей». Г-жа де Вильмюр воспринимала эти слова как непосредственное приглашение принять участие в беседе; с ловкостью, которую вырабатывает привычка к верховой езде, она так, чтобы ничуть не побеспокоить собеседников, поворачивала свой стул, делала три четверти полного оборота и оказывалась почти прямо против принцессы. «Вы не знакомы с господином Детаем?» – спрашивала хозяйка дома – искусного и деликатного оборота, какой проделала гостья, ей было мало. «С ним самим я не знакома – я знаю его картины», – почтительным обвораживающим тоном отвечала г-жа де Вильмюр, и тогда принцесса, так как ее обращения к знаменитому художнику было недостаточно, чтобы положить начало официальному знакомству, со свойственной ей непринужденностью, которой многие завидовали, говорила ему, едва заметно наклонив голову: «Пойдемте, господин Детай! Я вас представлю госпоже де Вильмюр». Г-жа де Вильмюр проявляла такую же изобретательность, чтобы найти место для художника, написавшего «Сон», какую только что проявила, чтобы повернуться к нему. А принцесса придвигала стул для себя: ведь она заговорила с г-жой де Вильмюр только потому, что это был для нее повод отсесть от того круга, где она уже просидела, согласно правилам этикета, десять минут, и ровно столько же пробыть в другом. За сорок пять минут она обходила все кружки, и гости думали, что каждый переход она совершает по вдохновению или же из особого расположения к кому-либо, а между тем главной ее целью было показать, как естественно «важная дама принимает гостей». Но сейчас гости только-только начинали съезжаться, и хозяйка дома, занимавшая разговором двух невзрачных высочеств и жену испанского посла, сидела близко от входа, статная, горделивая, почти царственно величественная, сверкая блестящими от природы глазами.
Я стал в очередь за гостями, приехавшими раньше меня. Прямо перед собой я видел принцессу, и, конечно, не только благодаря ее красоте этот званый вечер, на который съехалось столько красавиц, сохранился в моей памяти. Но красота хозяйки дома была до того безупречна, до того чеканна, что ее лицо не могло не запомниться. Принцесса имела обыкновение при встрече с приглашенными за несколько дней до вечера спрашивать их: «Вы непременно приедете?» – так что можно было подумать, будто она жаждет с ними поговорить. Но говорить с ними ей было решительно не о чем, и когда они к ней приезжали, она, не вставая с места, на секунду прерывала пустую болтовню с его и ее высочеством и женой посла и произносила: «Как я рада, что вы приехали!» – произносила не потому, чтобы она считала это особой любезностью со стороны гостя, а чтобы показать ему, как исключительно любезна с ним она; затем, чтобы как можно скорее от него отвязаться, добавляла: «Принц Германтский у выхода в сад», и гость шел здороваться с принцем и оставлял ее в покое. Некоторым она даже и этого не говорила – она только показывала им свои чудные ониксовые глаза, словно они приехали на выставку драгоценных камней.
Непосредственно передо мной должен был войти герцог де Шательро.
Ему пришлось отвечать улыбкой на улыбки, приветственно махать рукой в ответ на приветствия тех, кто махал ему рукой из гостиных, и швейцара он не заметил. А швейцар узнал его с первого взгляда. Еще мгновение – и он с радостью убедится, что не ошибся. Когда он обратился с вопросом к позавчерашнему «англичанину», как его зовут, он был не просто взволнован – он считал, что поступает нескромно, неделикатно. Ему казалось, что он нечестным путем выпытывает тайну и обнаруживает ее перед всеми, хотя никто ничего не подозревал. Услышав ответ гостя: «Герцог де Шательро», он на секунду онемел от гордости. Герцог взглянул на него, узнал – и решил, что погиб, а швейцар между тем опомнился: поднаторевший в науке титулования, он, вознамерившись дополнить слишком скромное имя, профессионально громким голосом, зычность которого умерялась интимной нежностью тона, провозгласил: «Его светлость герцог де Шательро!» А теперь ему надо было доложить обо мне. Все мое внимание было поглощено хозяйкой дома, пока еще не заметившей меня, и я не подумал о страшных для меня, – хотя страшных по-иному, чем для герцога де Шательро, – обязанностях швейцара, одетого в черное, как палач, окруженного отрядом слуг в ливреях самых веселых цветов, здоровенных ребят, готовых схватить незваного гостя и выставить его за дверь. Швейцар спросил, как моя фамилия; я назвал себя так же машинально, как машинально приговоренный к смертной казни дает привязать себя к плахе. Швейцар величественно поднял голову, и не успел я попросить его доложить обо мне вполголоса, чтобы пощадить мое самолюбие в том случае, если меня не звали, и самолюбие принцессы Германтской в том случае, если меня звали, он выкрикнул мучительное для меня сочетание слогов с такой силой, что едва не рухнул потолок.
Знаменитый Гексли (племянник которого занимает сейчас первое место в английской литературе) рассказывает, что одна из его пациенток перестала выезжать в свет, так как часто случалось, что в кресле, в которое ей любезно предлагали сесть, уже сидел какой-то старик. Она была убеждена, что галлюцинацией был то ли жест, указывавший на кресло, то ли старик – ведь не могли же ей указывать на кем-то занятое место! И когда Гексли, чтобы вылечить пациентку, все-таки заставил ее бывать на вечерах, первое время ее охватывало тягостное сомнение: в самом ли деле ей любезно указывают на кресло, или по знаку, который ей почудился, она сейчас при всех сядет на колени к живому мужчине? Это секундное замешательство было для нее пыткой. Пожалуй, все-таки не такой страшной, как для меня то замешательство, какое испытывал я. Едва лишь громовым ударом, предвещающим катаклизм, прозвучало мое имя, мне ничего иного не оставалось, как, в доказательство своей благонамеренности и в доказательство того, что я отнюдь не обуреваем сомнениями, с решительным видом подойти к принцессе.
Она обратила на меня внимание, когда я был от нее всего в нескольких шагах, и, тотчас рассеяв мои сомнения: уж не жертва ли я чьих-то козней? – она не осталась сидеть на месте, как оставалась, здороваясь с другими гостями, а встала и пошла мне навстречу. Спустя мгновение я мог облегченно вздохнуть, как пациентка Гексли, когда она, решившись сесть в кресло, убедилась, что оно не занято, и поняла, что старик ей привиделся. Принцесса, улыбаясь, протянула мне руку. Некоторое время она продолжала стоять с той особой грацией, какой отличается строфа Малерба, заканчивающаяся стихом:
Чтоб их почтить, и ангелы встают.
Словно боясь, что мне будет скучно без герцогини, она извинилась за то, что ее еще нет. Чтобы поздороваться со мной, принцесса, держа меня за руку, сделала в высшей степени изящное круговое движение, и я почувствовал, что вовлечен в его вихрь. Я бы не удивился, если бы принцесса, как распорядительница котильона, вручила мне трость с набалдашником из слоновой кости или ручные часы. По правде сказать, она ничего мне не подарила, более того: с таким видом, точно она отказалась танцевать бостон ради того, чтобы послушать дивные звуки божественного квартета Бетховена, она прервала разговор, вернее – не возобновила его; она лишь все с той же радостной улыбкой, вызванной моим приходом, сказала мне, где принц.
Я отошел и больше уже не решался приблизиться к ней: я сознавал, что ей положительно не о чем со мной разговаривать и что, при всей своей безграничной доброжелательности, эта на диво статная, красивая женщина, исполненная того благородства, каким отличалось столько знатных дам, гордо поднимавшихся на эшафот, могла бы только, – коль скоро она считала неудобным предложить мне лимонаду, – еще раз повторить то, что она мне уже дважды успела сказать: «Принц у выхода в сад». Но если б я пошел к принцу, мной овладели бы другие сомнения.
Как бы то ни было, мне надлежало найти кого-нибудь, кто бы меня представил ему. Всех заглушали неумолчной своей болтовней только что познакомившиеся друг с другом де Шарлю и его светлость герцог Сидониа. Люди скоро догадываются, что они – одной профессии, и о том, что они страдают одним пороком, – тоже. Де Шарлю и герцог Сидониа сразу учуяли, что порок у них общий, заключавшийся в том, что в обществе говорили только они, и притом – без перерыва. Сразу поняв, что зло неисправимо, как сказано в известном сонете, они решили не молчать, а говорить, не слушая друг друга. От этого в гостиной стоял гул, какой производят в комедиях Мольера действующие лица, толкующие одновременно о разных вещах. Впрочем, барон, обладатель громоподобного голоса, был уверен, что одолеет, что заглушит слабый голос герцога Сидониа, не обескураживая его, однако ж, и точно: когда де Шарлю переводил дух, пауза заполнялась лепетом испанского гранда, невозмутимо продолжавшего свой монолог. Я мог бы попросить представить меня принцу Германтскому барона де Шарлю, но боялся (для чего у меня были все основания), что он на меня сердит. Я проявил по отношению к нему черную неблагодарность: вторично отверг его предложение и не подавал признаков жизни с того самого вечера, когда он так любезно проводил меня до дому. А между тем мне никак не могло служить оправданием то, что я будто бы предвидел сцену, которая не далее как сегодня разыгралась на моих глазах между ним и Жюпьеном. У меня и мыслей таких не было. Правда, незадолго до этого, когда мои родители выговаривали мне за то, что я, лентяй, до сих пор не удосужился написать де Шарлю несколько слов, я разозлился и сказал, что они толкают меня на то, чтобы я принял гнусные предложения. Бросил я это обвинение по злобе, желая как можно больней уколоть родителей. На самом деле в предложениях барона я не усмотрел ничего не только сластолюбивого, но даже просто сентиментального. Я сочинил эту, как я тогда считал, дикую чушь нарочно для моих родителей. Но иногда будущее живет в нас, хотя мы этого и не подозреваем, а наши слова, казалось бы – лживые, вырисовывают надвигающееся истинное происшествие.
Мою неблагодарность де Шарлю, конечно, простил бы мне. Его приводило в бешенство другое; теперь, после того как я появился у принцессы Германтской и с некоторых пор начал бывать у его невестки, грош цена была его самоуверенному заявлению: «В такие салоны без моей рекомендации никому не удастся проникнуть». Я нарушил иерархический чин – это была большая ошибка, а может, и еще того хуже: неискупимое преступление. Де Шарлю знал, что громы и молнии, которые он метал против тех, кто не подчинялся его приказаниям, или против тех, кого он возненавидел, многие, несмотря на всю ярость, какую это в нем вызывало, воспринимали как пиротехнику, бессильную кого бы то ни было откуда бы то ни было изгнать. Возможно, однако, де Шарлю рассчитывал на то, что он не утратил своего хотя и уменьшившегося, но все же значительного влияния на таких новичков, как я. Вот почему мне показалось неудобным просить его об услуге на званом вечере в доме, где одно лишь мое присутствие он мог принять за насмешку над мнимым своим всемогуществом.
Тут меня остановил профессор Э., человек довольно-таки пошловатый. Его удивило, что он встретил меня у Германтов. А меня в равной степени удивило, каким образом оказался здесь он, потому что у принцессы такого сорта людей до этого вечера никогда не принимали, и, кстати сказать, не принимали потом. Недавно профессор вылечил принца, которого уже соборовали, от гнойного воспаления легких, и принцесса Германтская была ему бесконечно благодарна – вот почему в нарушение обычая на сей раз его пригласили. В гостиных у него не было ни одного знакомого, ему наскучило бродить вестником смерти в одиночестве, и, как только он меня узнал, ему впервые в жизни захотелось об очень многом со мной поговорить, он сразу почувствовал себя увереннее, и отчасти поэтому он и подошел ко мне. Была тут еще одна причина. Он всегда очень боялся неправильно поставить диагноз. Но у него была такая большая практика, что если он видел больного один раз, то не всегда имел возможность проследить, сбылись ли потом его предсказания. Быть может, читателям памятно, что, когда с моей бабушкой случился удар, я завез ее к профессору Э. в тот день, когда ему навешивали уйму орденов. За это время он успел забыть, что его известили о ее кончине письмом. «Ведь ваша бабушка скончалась? – спросил он, и в тоне его слышалась напускная самоуверенность, силившаяся побороть небольшое сомнение. – Ах да, верно, верно! Я же отлично помню: стоило мне на нее взглянуть – и я сразу понял, что надежды нет».
Вот каким образом профессор Э. узнал – или вспомнил – о смерти бабушки, и, к чести его и к чести медицинской корпорации в целом, я считаю своим долгом засвидетельствовать, что он не выразил, – а может быть, и не почувствовал – удовлетворения. Ошибкам врачей несть числа. Обычно доктора бывают чересчур оптимистичны, когда предписывают режим, и чересчур пессимистичны, когда угадывают исход. «Вино! В небольшом количестве оно вам повредить не может; в сущности-то, оно укрепляет! Телесное сближение? Да ведь это тоже одна из функций организма! И то и другое я вам разрешаю, но не злоупотребляйте – вы меня поняли? Всякое излишество приносит вред». Какой соблазн для больного – отказаться от двух целебных средств зараз – от питьевой воды и воздержания! А вот если что-нибудь с сердцем, если белок и т. п., тут у врачей сразу опускаются крылья. Они находят у больного несуществующий рак – так легче объяснить серьезные, но чисто функциональные расстройства. Зачем навещать больного, коль скоро болезнь неизлечима? Если же больной, брошенный на произвол судьбы, сам себе назначит строжайший режим и в конце концов выздоравливает или, по крайней мере, выживает, то, когда врач, считавший, что останки его пациента давным-давно покоятся на кладбище Пер-Лашез, встретит его на улице Оперы, он примет поклон пациента за издевательство. Он придет в еще большую ярость, чем председатель суда, который вдруг увидел бы, что перед самым его носом преспокойно разгуливает зевака, два года назад приговоренный им к смертной казни. Вообще врачей (понятно, мы говорим не обо всех врачах и блестящих исключений не забываем) не так радует то, что их приговор оказался верен, как раздражает и бесит то, что он не подтвердился. Этим объясняется, что профессор Э., хотя и был, конечно, удовлетворен тем, что не ошибся, все же нашел в себе силы грустным тоном говорить со мной о нашем горе. Он не стремился прекратить беседу, потому что благодаря ей он свободней себя чувствовал у принцессы и потому что беседа служила ему предлогом еще некоторое время побыть здесь. Пожаловавшись на то, что настали очень жаркие дни, профессор Э., хотя он был человек образованный и мог бы изъясниться на чистом французском языке, задал мне вопрос: «Вы плохо переносите гипертермию?» Надо заметить, что со времен Мольера медицина чуть-чуть продвинулась вперед в смысле познаний, но не в смысле языка. «В такую погоду самое опасное – это вспотеть, – заметил мой собеседник, – главное – в гостиных, где бывает особенно жарко. Если, когда вы вернетесь домой, вам захочется пить, то тут лучше всего тепло» (по всей вероятности, он имел в виду горячие напитки).
Я вспомнил, отчего умерла моя бабушка, и разговор с профессором заинтересовал меня, тем более что я недавно вычитал в книге одного крупного ученого, что выделение пота вредно для почек, – то, чему следует выходить в другом месте, выходит через кожу. Я с грустью подумал, что бабушка умерла в жаркую погоду, и склонен был видеть именно в жаре причину ее смерти. Доктору Э. я не стал об этом говорить, но он мне сказал вот что: «Хорошая сторона сильной жары, когда чрезвычайно обильно выделяется пот, состоит в том, что от этого гораздо легче работать почкам». Медицина – наука не точная.
Вцепившись в меня, профессор Э. даже и не думал со мной расставаться. Но тут я обратил внимание на маркиза де Вогубера – каждый раз отступая на шаг, он и справа и слева отвешивал низкие поклоны принцессе Германтской. Маркиз де Норпуа недавно меня с ним познакомил, и я понадеялся, что де Вогубер сочтет возможным представить меня хозяину дома. Объем данного произведения не позволяет мне вдаваться в объяснения, благодаря каким событиям времен их молодости маркиз де Вогубер оказался одним из немногих светских людей (а может быть, даже единственным), находившихся с де Шарлю в отношениях, которые в Содоме называются «интимными». У нашего посла при дворе короля Феодосия были общие с бароном недостатки, но посол представлял собой в этом смысле всего лишь слабое отражение барона. Переходы от симпатии к ненависти, проистекавшие у барона сперва из стремления очаровать, а потом из – тоже необъяснимого – страха вызвать к себе презрение или, во всяком случае, выдать себя, проявлялись у посла в неизмеримо более мягкой, сентиментальной и простодушной форме. У де Вогубера они производили комическое впечатление вследствие его целомудрия, вследствие его «платонизма» (ради которых этот честолюбец еще в юном возрасте принес в жертву все наслаждения), главным образом – вследствие его скудоумия. Де Шарлю в своих неумеренных восхвалениях был действительно блестящ, и приправлял он их тончайшими, язвительнейшими насмешками, которые раз навсегда приклеивались к человеку, между тем как де Вогубер в выражении симпатии обнаруживал пошлость, свойственную людям бездарным, людям из высшего света, чиновникам, а его обвинения (обычно, как и у барона, ни на чем не основанные), полные неиссякаемой и притом неумной злости, вызывали тем большее возмущение, что полгода назад посол высказывал нечто прямо противоположное, и никто бы не мог поручиться, что он не выскажется в том же духе и немного спустя, – эта закономерная изменчивость придавала различным фазам жизни де Вогубера почти астрономическую поэтичность, хотя, вообще говоря, кого-кого, а уж его-то светилом никак нельзя было назвать.
Он ответил на мой поклон совсем не так, как ответил бы де Шарлю. Всяческих ужимок, какие, по его мнению, приличествовали светскому человеку и дипломату, ему казалось мало – в его приветствии была какая-то особенная лихость, разудалость, веселость, нужная ему для того, чтобы все думали, во-первых, что живется ему отлично, – тогда как он беспрестанно возвращался мыслью к своей неудачной карьере, без надежды на повышение, под угрозой отставки, – а во-вторых, что он молод, бодр, обаятелен, тогда как он видел в зеркале – и последнее время боялся даже в него смотреть, – что все лицо у него в морщинах, а ему так хотелось, чтобы оно было обворожительным! Он отнюдь не жаждал побед – его пугали пересуды, огласка, шантаж. Когда он начал подумывать об Орсейской набережной, когда он, решив добиться высокого положения, перешел от почти мальчишеского разврата к полному воздержанию, он стал похож на зверя в клетке, кидавшего по сторонам трусливые, похотливые и глупые взгляды. Он был до того глуп, что не мог понять простой вещи: озорники, с которыми он знался в молодости, давно уже повзрослели, и когда газетчик орал ему в ухо: «Ла Пресс!» – он вздрагивал не столько от желания, сколько от испуга: ему чудилось, что его узнали и выследили.
Хотя де Вогубер и принес в жертву неблагодарной Орсейской набережной наслаждения, но сердечный жар у него по временам вспыхивал, именно поэтому де Вогуберу все еще хотелось нравиться. Как докучал он министерству своими бесчисленными письмами, на какие только хитрости не пускался, действуя на свой страх и риск, как злоупотреблял влиянием своей жены, которую по причине ее дебелости, родовитости, мужеподобности, а главное – по причине заурядности ее мужа, все наделяли блестящими способностями и полагали, что на самом деле послом является она, – чтобы в штат посольства был зачислен ни к чему не способный молодой человек! Правда, несколько месяцев или несколько лет спустя, если ему казалось, что ничего собой не представляющий, но не таивший против него ни малейшего зла атташе холоден с ним – со своим начальником, де Вогубер, решив, что тот пренебрегает им или даже подкапывается под него, с таким же лихорадочным пылом измышлял для него кары, с каким прежде осыпал его благодеяниями. Он нажимал на все пружины, чтобы молодого человека отозвали; начальник отдела политических сношений ежедневно получал от него письма следующего содержания: «Когда же Вы наконец избавите меня от этого прощелыги? Подержите его в черном теле – это пойдет ему только на пользу. Пусть немножко попостится». Вот почему должность атташе при короле Феодосии была не из приятных. Но если не считать этой слабости де Вогубера, то, благодаря никогда ему не изменявшему здравомыслию – здравомыслию светского человека, он был одним из лучших представителей французского правительства за границей. Когда его сменил человек, о котором сложилось мнение, что он выше де Вогубера, – сменил всеведущий якобинец, – между Францией и страной, где правил король, сейчас же началась война.
Де Вогубер, как и де Шарлю, не любил здороваться первым. И тот и другой предпочитали отвечать на поклоны – они боялись, что человек, которому они протянут руку, с тех пор, как они виделись с ним прошлый раз, наслышался о них сплетен. Де Вогубера я вывел из затруднения сразу – я первый поздоровался с ним: прежде всего меня к этому обязывала разница в возрасте. Он поклонился мне с видом удивленным и радостным, а глаза у него по-прежнему бегали, точно справа и слева от него росла люцерна, которую ему воспрещено было щипать. Я решил, что, прежде чем просить представить меня принцу, мне следует попросить де Вогубера познакомить меня с его женой, а насчет принца заговорить с ним после. По-видимому, обрадовавшись и за себя и за жену, он решительным шагом пошел со мной к маркизе. Когда мы с ним подошли, он показал ей на меня взглядом и движением руки, выражавшими его глубокое уважение ко мне, но не произнес при этом ни слова и тут же поспешил удалиться, оставив меня наедине со своей женой. Она протянула мне руку, не зная, кому оказывает эту любезность: насколько я понял, де Вогубер забыл, как меня зовут, может быть, даже и вовсе не узнал меня, но, из вежливости не сознавшись в этом, превратил церемонию представления просто-напросто в пантомиму. Итак, я ничего не добился; в самом деле, как может представить меня хозяину дома женщина, не знающая даже, как меня зовут? А тут еще изволь сидеть и вести беседу с маркизой де Вогубер. Я был от этого не в восторге по двум причинам. Я вовсе не собирался торчать на этом вечере до бесконечности, так как уговорился с Альбертиной (я подарил ей ложу на «Федру»), что она приедет ко мне около полуночи. Конечно, я не был в нее влюблен; когда я просил ее приехать, во мне говорило чувственное желание, и только, хотя стояла такая жара, когда освобожденная чувственность охотнее устремляется к органам вкуса, – главное, испытывает потребность в прохладе. Сильнее, чем о поцелуе девушки, она мечтает об оранжаде, о купанье, ее тянет смотреть на очищенную от кожуры сочную луну, утоляющую жажду неба. И все же я надеялся в обществе Альбертины, рождавшей во мне ощущение прохлады волн, стряхнуть с себя тоску, которую непременно навевали бы на меня очаровательные женские лица (ведь на вечере у принцессы были не только дамы, но и девушки. А в лице величественной маркизы де Вогубер, бурбонистом и угрюмом, не было решительно ничего привлекательного).
В министерстве про де Вогуберов говорили – без тонкого намека, – что дома юбку надо бы носить мужу, а жене – штаны. В этих словах заключалась большая доля истины. Маркиза де Вогубер была мужчиной. Всегда ли она была такая или с течением времени превратилась в то, что я увидел, – это не важно, и в том и в другом случае мы имеем дело с одним из самых умилительных чудес природы, которые – особенно во втором случае – придают сходство человеческому царству с царством цветов. Если верно первое предположение, – то есть если будущая маркиза де Вогубер всегда была мужеподобно грузна, – значит, это дьявольская, но благодетельная хитрость природы, снабдившей девушку обманчивым обликом мужчины. И юноша, не любящий женщин и стремящийся вылечиться, с удовольствием попадается на удочку: находит себе невесту, похожую на грузчика. В другом случае, если у женщины нет мужских черт, она постепенно, чтобы нравиться мужу, приобретает их, иногда даже бессознательно, в силу мимикрии, благодаря которой цветы придают себе сходство с насекомыми для того, чтобы приманить их. Она горюет о том, что она нелюбима, что она не мужчина, и горе наделяет ее мужскими свойствами. Но оставим эти два редких случая; сколько вполне нормальных супругов в конце концов становятся похожи друг на друга, а иные даже меняются душевными качествами! Бывший немецкий канцлер князь Бюлов женился на итальянке. Некоторое время спустя на Пинчо стали замечать, как много появилось у мужа-немца итальянской чуткости и как много немецкой грубости появилось у итальянки. Теперь возьмем случай совершенно исключительный: все знают видного французского дипломата, о происхождении которого напоминает только его имя – одно из самых известных на Востоке. Зрелея, старея, он превратился в восточного человека, хотя раньше никто не подозревал, что в нем этот человек сидит, и теперь при взгляде на него люди невольно думают, что ему не хватает только фески.
Если же воскресить в памяти нравы, о которых понятия не имел посол, чей силуэт с атавистически жирными чертами мы только что набросали, то нельзя не прийти к выводу, что маркиза де Вогубер принадлежала к типу женщин, благоприобретенному ею, а быть может, врожденному, бессмертным воплощением которого является принцесса Палатинская, всегда в амазонке, заимствовавшая у супруга не только мужские свойства, перенявшая недостатки мужчин, не любящих женщин, в своих письмах, письмах сплетницы, рассказывавшая об отношениях, в каких находились между собой все вельможи при дворе Людовика XIV. Такие женщины, как маркиза де Вогубер, стыдятся того, что они у мужей в забросе, – вот что еще способствует их мужеподобности, вот что постепенно убивает в них все женское. В конце концов они приобретают достоинства и недостатки, которых у мужей нет. Муж становится все легкомысленнее, изнеженнее, нескромнее, а жена между тем превращается в нечто вроде непривлекательного сколка с тех добродетелей, какие должен был бы выказывать муж.
Уязвленное самолюбие, скука, негодование делали свое дело – правильные черты лица маркизы де Вогубер теряли прелесть. К моему огорчению, она рассматривала меня с интересом и любопытством, как одного из тех молодых людей, какие нравились маркизу де Вогуберу, одного из тех молодых людей, каким ей так хотелось быть – именно теперь, когда ее стареющий муж начал оказывать предпочтение молодежи. Она глядела на меня с внимательностью провинциалки, снимающей из каталога модного магазина копию английского костюма, который так идет красивой девушке, нарисованной в каталоге (одной и той же на всех страницах, но благодаря различным позам и разнообразным туалетам превращенной в обманчивое многоразличие существ). Животное чувство, притягивавшее ко мне маркизу де Вогубер, было столь сильно, что она, намереваясь пойти выпить стакан оранжада, схватила меня за руку, чтобы я проводил ее. Но я высвободился, сославшись на то, что мне скоро надо будет уехать, а я еще не представился хозяину дома.
До выхода в сад, где он разговаривал с гостями, было недалеко. Но это расстояние пугало меня больше, чем если бы мне надо было пройти его под артиллерийским огнем.
Дамы, которые, как мне казалось, могли бы меня представить, находились в саду и всё превозносили до небес, хотя на самом деле им было скучновато. О такого рода вечерах нельзя судить, пока они в разгаре. Им можно дать правильную оценку только на другой день, когда они пробуждают интерес у неприглашенных. Писателю настоящему, свободному от присущего многим литераторам глупого честолюбия, читающему статью критика, который всегда расхваливал его, а тут, называя имена посредственностей, его даже не упоминает, – такому писателю некогда удивляться; его ждет работа над новым произведением. А у светской женщины никаких дел нет, и, прочитав в «Фигаро»: «Вчера у принца и принцессы Германтских был большой званый вечер» и т. д., она восклицает: «То есть как? Ведь я же три дня назад целый час проговорила с Мари-Жильбер, и она ни слова мне про него не сказала!» – и строит предположения, чем она обидела Германтов. Надо заметить, что приглашенные на званые вечера к Германтам бывали удивлены не меньше, чем неприглашенные. Огонь этих вечеров вспыхивал, когда никто этого не ожидал, и призывал тех, о ком принцесса Германтская не вспоминала в течение нескольких лет. А ведь почти все люди из высшего общества до того ничтожны, что судят друг о друге по тому, насколько они любезны, приглашенных ласкают, отвергнутых презирают. Кстати об отвергнутых: принцесса часто не звала даже некоторых своих друзей из боязни рассердить «Паламеда», который отлучил их. Вот почему я мог быть уверен, что она не говорила обо мне с де Шарлю, иначе меня бы здесь не было. Сейчас он стоял спиной к саду, рядом с германским послом, облокотившись на перила большой лестницы, которая вела в дом, – стоял так, что, хотя увивавшиеся вокруг барона поклонницы почти заслоняли его, гости волей-неволей должны были с ним здороваться. Он отвечал на приветствия, называл имена и фамилии. Только и слышалось: «Добрый вечер, господин дю Азе, добрый вечер, господин де ла Тур дю Пен-Верклоз, добрый вечер, господин де ла Тур дю Пен-Гуверне, добрый вечер, Филибер, добрый вечер, дорогая посланница» и т. д. Это бесконечное тявканье прерывалось благожелательными наставлениями или же вопросами, ответы на которые де Шарлю не слушал и которые он задавал сдержанно приветливым, деланно равнодушным тоном: «Смотрите, как бы малышка не простудилась – в саду всегда сыровато. Добрый вечер, господин де Брант! Добрый вечер, госпожа де Мекленбург! Барышня приехала? В своем чудесном розовом платье? Добрый вечер, Сен-Жеран!» Разумеется, в позе де Шарлю была горделивость; он знал, что он – один из Германтов и что на этом празднестве ему отведено исключительно почетное место. Но не одна горделивость – самое слово «празднество» вызывало у человека, эстетически развитого, ощущение пышности, дразнило любопытство, как будто это празднество устраивали не люди из высшего круга, а словно оно происходило на картине Карпаччо или Веронезе. А еще вероятнее, германскому принцу, каковым был де Шарлю, представлялось празднество из «Тангейзера», сам же себе он казался маркграфом, который у входа в Вартбургский замок для каждого из гостей находит доброе слово, между тем как их поток, вливающийся в замок или в парк, приветствует долгая, то и дело начинающаяся сызнова фраза из знаменитого «Марша».
Пора было, однако, сделать решительный шаг. Я видел под деревьями женщин, с которыми меня связывало более или менее близкое знакомство, но сейчас они казались мне совсем другими, потому что они были у принцессы, а не у ее родственницы, и потому что мы сидели не перед тарелками саксонского фарфора, а под ветвями каштанов. Роскошь обстановки в данном случае не имела значения. Если бы даже обстановка у принцессы была гораздо скромнее, чем у «Орианы», я бы все равно волновался. Когда в нашей гостиной гаснет электричество и его заменяют керосиновыми лампами, все для нас мгновенно преображается. Меня вывела из задумчивости маркиза де Сувре. «Добрый вечер! – сказала она, подходя ко мне. – Вы давно не видели герцогиню Германтскую?» Она удивительно умела придавать такого рода фразам интонацию, удостоверявшую, что она произносит их не от явной глупости, подобно тем, кто, не зная что сказать, каждый раз заговаривает об общих знакомых, хотя в большинстве случаев знакомство это очень беглое. Ее взгляд, тонкий, как проводниковая проволока, выражал: «Не думайте, что я вас не узнала. Вы – тот молодой человек, которого я видела у герцогини Германтской. Я отлично помню». К сожалению, покровительство, которое сулила мне эта фраза, только казавшаяся глупой, а на самом деле – хитроумная, оказалось в высшей степени хрупким: оно распалось в то самое мгновение, когда я решился к нему прибегнуть. Маркиза де Сувре обладала особым искусством: если надо было замолвить за кого-нибудь слово власть имущему, то проситель оставался в убеждении, что она за него похлопотала, а высокопоставленное лицо – в том, что она палец о палец не ударила за просителя, и благодаря такому двусмысленному ее поведению проситель испытывал к влиятельному лицу благодарность, а влиятельное лицо не считало нужным что-либо для него делать. Ободренный любезностью этой дамы, я попросил ее представить меня принцу Германтскому, она же, воспользовавшись тем, что хозяин дома на нас не смотрел, с материнской ласковостью взяла меня за плечи и, улыбаясь принцу, который как раз в эту минуту отвернулся и не мог ее видеть, будто бы покровительственным и преднамеренно бесцельным движением толкнула меня по направлению к нему, но я почти не сдвинулся с места. Такова подловатость светских людей.
Дама, которая поздоровалась со мной, назвав меня по имени, оказалась еще трусливей. Уже начав с ней разговор, я силился вспомнить, как ее зовут; я отлично помнил, что ужинал с ней, помнил, о чем она со мной говорила. Однако мое внимание, направленное в ту область моего внутреннего мира, где хранились воспоминания о ней, не находило там ее имени. И все-таки оно там жило. Моя мысль как бы затеяла с ним своеобразную игру: она пыталась сперва уловить его очертания, его начальную букву, а затем осветить его целиком. Усилия мои были напрасны; я приблизительно угадывал его объем, вес; что же касается очертаний, то я, сравнивая его с едва различимым узником, скорчившимся во мраке внутренней тюрьмы, говорил себе: «Не то». Конечно, я мог бы придумать самые трудные имена. К несчастью, тут надо было не творить, а воссоздавать. Всякая умственная деятельность легка, если только она не подчинена реальности. В данном случае я вынужден был ей подчиниться. И вдруг имя пришло ко мне все, до единой буковки: «Виконтесса д'Арпажон». Нет, я не так выразился: мне представляется, что явилось оно не само. И я не склонен думать, чтобы множество относившихся к этой даме смутных воспоминаний, к которым я беспрестанно обращался за помощью (так, например, я взывал к ним: «Да ведь эта дама – подруга маркизы де Сувре, это же она относится к Виктору Гюго со смешанным чувством наивного восторга, ужаса и отвращения»), – я не думаю, чтобы все эти воспоминания, проносившиеся между мной и ее именем, в какой-то мере содействовали тому, что оно наконец вынырнуло. Когда память затевает грандиозную игру в прятки, чтобы восстановить имя, то имя не приближается к нам постепенно. Мы ничего не видим – и вдруг возникает то самое имя, ничего общего не имеющее с именем, которое нам мерещилось. Пришло к нам не оно. Я склоняюсь к мысли, что с возрастом мы удаляемся от области, где имена проступают отчетливо; лишь усилием воли и внимания, обострившим мой мысленный взор, я прорезал полутьму и все ясно увидел. Во всяком случае, если и существуют переходы от забвения к воскрешению в памяти, то переходы эти бессознательны. Имена, попадающиеся нам на пути к настоящему имени, суть имена ложные, они ни на шаг не приближают нас к нему. Собственно, это даже не имена, а зачастую всего лишь согласные, которых нет в найденном имени. Впрочем, работа мысли, переходящей от небытия к действительности, в высшей степени таинственна; в конце концов можно предположить, что обманчивые согласные представляют собой шесты, которые нам неумело, хотя и заблаговременно, протягивают, чтобы мы могли уцепиться за верное имя. «Все это, – заметит читатель, – не имеет прямого отношения к неуслужливости этой дамы; но раз уж вы разрешили себе такое длинное отступление, то позвольте и мне, господин автор, на минутку задержать вас и сказать: „Досадно, что у такого молодого человека, как вы (или как ваш герой, если это не вы), такая скверная память, что вы не могли припомнить, как зовут хорошо вам знакомую даму“. – „Да, правда, господин читатель, это очень досадно. Это даже еще печальнее, чем вам кажется: ведь это предвестие той поры, когда имена и слова уйдут из светлого поля сознания, той поры, когда ты уже не сможешь называть самому себе имена тех, кого ты близко знал. Да, правда, досадно, что уже в молодости приходится рыться в памяти, чтобы отыскивать хорошо знакомые тебе имена. Но если бы этот недостаток распространялся только на имена, нам почти неизвестные, забывшиеся по вполне понятной причине, имена, ради которых нам не хочется напрягать память, то этот недостаток был бы нам полезен“. – „Осмелюсь спросить, чем?“ – „Милостивый государь! Да ведь только болезнь предоставляет нам возможность и вынуждает замечать, изучать и разлагать на составные части механизмы, с которыми иначе нам бы не познакомиться. Разве человек, который ежевечерне ложится пластом на кровать и не живет до той минуты, когда надо просыпаться и вставать, способен вести хотя бы даже несущественные наблюдения над сном, не говоря уже о великих открытиях? Такой человек почти не сознает, что он спит. Только тот, кто в слабой степени подвержен бессоннице, может составить себе правильное представление о сне, может пролить на этот мрак немного света. Негаснущая память не дает мощного толчка к изучению памяти“. – „Так что же все-таки, виконтесса д'Арпажон представила вас принцу?“ – „Нет, но только вы не перебивайте меня, дайте мне досказать“.
Виконтесса д'Арпажон оказалась еще трусливее маркизы де Сувре, однако ее трусость была извинительной. Она знала, что ее влияние в обществе невелико. Былая ее связь с герцогом Германтским только ослабила это влияние; разрыв нанес ему последний удар. Неудовольствие, которое вызвала у виконтессы моя просьба представить меня принцу, выразилось у нее в молчании, и в своей наивности она понадеялась, что я подумаю, будто она просто не слышала моих слов. Она даже не заметила, что насупилась с досады. А может быть, наоборот, заметила, но не смутилась тем, что выдала себя, и воспользовалась своим раздраженным выражением лица, чтобы осадить меня, – хотя и не очень резко, – чтобы дать понять, что это с моей стороны нахальство, дать понять молча, но выразительно.
Впрочем, виконтессе д'Арпажон было от чего прийти в скверное расположение духа: многие в это самое мгновенье устремили взоры к балкону в стиле Возрождения, к тому из его углов, где вместо громадных статуй, которыми тогда часто украшали балконы, стояла, облокотившись на перила, не менее изящная, чем статуи, ослепительная маркиза де Сюржи-ле-Дюк – та, к кому перешло по наследству от виконтессы д'Арпажон сердце герцога Германтского. Под легким белым тюлем, защищавшим ее от ночной прохлады, было видно ее гибкое тело, подобно статуе Победы как бы улетавшее в высоту.
Мне оставалось только обратиться к де Шарлю, сидевшему теперь в одной из нижних зал с выходом в сад. У меня было достаточно времени (он притворялся, будто весь поглощен партией в вист, в которой он принял участие не ради самого виста, а только для того, чтобы удобнее было делать вид, будто он никого не замечает), чтобы полюбоваться художественной простотой – простотой преднамеренной – его фрака, который благодаря мелочам, какие способен заметить только портной, напоминал уистлеровскую «Гармонию» в черных и белых тонах; вернее – в черных, белых и красных, так как у де Шарлю на широкой ленте, прикрепленной к жабо, висел крест из белой, черной и красной эмали – крест рыцаря Мальтийского ордена. Но тут барона отвлекла от виста герцогиня де Галардон – она подвела к нему своего племянника, виконта де Курвуазье, у которого было смазливое и наглое лицо. «Позвольте вам представить моего племянника Адальбера, – обратилась к де Шарлю герцогиня де Галардон. – Адальбер! Вот это и есть знаменитый дядя Паламед, о котором ты столько слышал». – «Добрый вечер, герцогиня! – сказал де Шарлю и, даже не глядя на Адальбера, процедил: – Добрый вечер, молодой человек!» – процедил с таким сердитым видом и таким грубым тоном, что все были изумлены. Быть может, де Шарлю, зная, что герцогиня де Галардон невысокого мнения о его нравственности и как-то раз не могла отказать себе в удовольствии намекнуть на его пристрастие, решил не давать ей ни малейшего повода истолковать по-своему его ласковое обхождение с ее племянником и в то же время у всех на виду выказать свое равнодушие к молодым людям; быть может, ему показалось, что у Адальбера был недостаточно почтительный вид, когда тетка толковала ему о нем; а быть может, вознамерившись поддерживать отношения с таким милым родственником, он начал с нападения для того, чтобы в дальнейшем обеспечить себе успех, – так монархи, прежде чем совершить дипломатический шаг, предпринимают военные действия.
Добиться от де Шарлю, чтобы он согласился представить меня принцу, было легче, чем я предполагал. В течение последних двадцати лет этот Дон Кихот сражался с таким количеством ветряных мельниц (большей частью – с родственниками, которые, как ему казалось, плохо к нему относились), он так часто запрещал мужчинам и женщинам из рода Германтов приглашать «эту личность, которую нельзя пускать к себе на порог», что те уже начинали бояться, как бы не перессориться со всеми, кого они любили, навсегда лишиться новых интересных знакомств – и все для того, чтобы выдерживать громы и молнии, которые, не имея на то ни малейших оснований, метал против них обидчивый родственник, который считал, что ради него надо бросать жен, братьев, детей. Заметив, что его требования выполняются через раз, де Шарлю, самый дальновидный из всех Германтов, страшась за будущее, предвидя, что в один прекрасный день с ним могут порвать все, решил быть уступчивее, чтобы, как говорится, не перетянуть струну. И вот еще что: на протяжении нескольких месяцев, даже нескольких лет он способен был твердить, что ненавистное ему существо ведет себя гнуснейшим образом, и в этот промежуток времени он бы не потерпел, чтобы этого человека пригласил кто-нибудь из Германтов, тут он мог бы уподобиться носильщику, полезшему в драку с самой королевой, – кто оказывал ему сопротивление, тот уже не имел для него никакой цены, – но вспышки были у него чересчур часты и потому кратковременны. «Болван! Негодяй! Ему еще покажут! Вышвырнут в выгребную яму! Вот только боюсь, как бы от этого не ухудшилось санитарное состояние города!» – даже наедине с самим собой вопил он, читая письмо, которое он считал недостаточно учтивым, или вспоминая кем-то переданные ему слова. Однако порыв ярости, который вызывал в нем какой-нибудь другой болван, укрощал первый порыв, и если только первый болван был с ним почтителен, взрыв, происшедший из-за него, забывался: злоба на него длилась недолго, и из нее ничего не успевало вырасти. Вот почему, пожалуй, – хоть он имел на меня зуб, – просьбу представить меня принцу он все-таки исполнил бы, если бы только я из щепетильности и чтоб он не подумал, будто я настолько бесцеремонен, что вошел в дом, рассчитывая на счастливую случайность и надеясь, что благодаря его покровительству мне предложат остаться, на свою беду не прибавил: «Вы же знаете, я с ними хорошо знаком, принцесса была со мной очень мила». – «Ну, раз вы с ними знакомы, так зачем же я буду вас представлять?» – с надменным видом сказал барон и, повернувшись ко мне спиной, продолжал, притворяясь увлеченным, играть в вист с нунцием, германским послом и еще с кем-то, но этого третьего партнера я не знал.
Вдруг из настежь растворенных дверей в сад, где в былые времена по распоряжению герцога д'Эгильона разводили редких животных, до меня донеслось сопение: кто-то старался вобрать в себя все это великолепие без остатка. Сопение приближалось; на всякий случай я пошел навстречу этому звуку, так что слова графа де Бресте: «Добрый вечер!» – прозвучали у меня над ухом не как скрежет ржавого затупившегося ножа, который точат, и уж совсем не как хрюканье кабана, опустошающего возделанные поля, а как обнадеживающий голос спасителя. Поначалу мне было нелегко привлечь к себе внимание этого человека, менее влиятельного, чем маркиза де Сувре, но зато гораздо более отзывчивого, чем она, находившегося в гораздо более приятельских отношениях с принцем, чем виконтесса д'Арпажон, быть может, преувеличивавшего мою близость к кругу Германтов, а быть может, осведомленного о степени моей близости лучше меня, – нелегко потому, что он, вертя головой, с любопытством направлял монокль в разные стороны, словно попал на выставку шедевров, и крылья носа у него при этом подрагивали, а ноздри раздувались. Но как только моя просьба дошла до его сознания, он выразил готовность исполнить ее, подвел меня к принцу и представил, и когда он меня представлял, лицо его приняло церемонное, пошлое выражение и вместе с тем выражение сластены, точно он предлагал принцу тарелку с печеньем. Герцог Германтский при желании мог быть любезен, дружелюбен, радушен, прост в обращении, тогда как в приеме, который оказал мне принц, я почувствовал натянутость, неестественность, надменность. Он полуулыбнулся мне, назвал меня официально: «сударь». Я часто слышал, как герцог издевался над его кичливостью. Но по первым же словам, с которыми обратился ко мне принц и которые своей холодностью и серьезностью составляли резчайший контраст с речью Базена, я понял, что действительно высокомерен герцог, хотя во время первого вашего визита к нему он уже сходился с вами на короткую ногу, и что по-настоящему прост не он, а принц. В сдержанности принца отчетливо проступало не желание быть с вами как равный с равным – у него не могло возникнуть даже намека на подобное желание, – но, во всяком случае, уважение к тому, кто ниже тебя, проявляющееся как раз там, где иерархический чин особенно строго соблюдается, как, например, в суде или в университете, – там верховный прокурор или декан, преисполненные сознания своего высокого назначения, под традиционным высокомерием таят, быть может, больше подлинной простоты, больше – открывающейся при более близком знакомстве – доброты, настоящей душевности, чем новые люди с их игрой в друзей-приятелей. «Вы не собираетесь пойти по стопам вашего батюшки?» – спросил меня принц с видом отчужденным, но не безучастным. Мне было ясно, что принц задал этот вопрос только из любезности, а потому отделался общими фразами и, чтобы не мешать ему приветствовать прибывавших гостей, сейчас же отошел.
Я увидел Свана и хотел было заговорить с ним, но в эту минуту принц Германтский, вместо того чтобы поздороваться с мужем Одетты не сходя с места, с силой втяжного рукава насоса увлек его в глубину сада, словно хотел, как выразились потом некоторые, «выставить его за дверь».
Я был до того рассеян в обществе, что только через день узнал из газет, что у Германтов весь вечер играл чешский оркестр и поминутно зажигались бенгальские огни, – моего внимания достало лишь на знаменитый фонтан Гюбера Робера.
На лужайке, осененной ветвями красивых деревьев, из которых иные были не моложе фонтана, он стоял в стороне и был виден издали, стройный, неподвижный, словно застывший, и ветер играл лишь с самой маленькой струйкой его бледного трепещущего султана. Восемнадцатый век облагородил изящество его линий, но, выбрав определенный стиль для водомета, он словно умертвил его; если вы находились от него на известном расстоянии, то он поражал вас своим искусством, но у вас не возникало ощущения, что это – живая вода. Даже влажное облако, беспрестанно сгущавшееся на его вершине, хранило отпечаток эпохи, подобно тем облакам, что собираются вокруг версальских дворцов. Однако вблизи можно было понять, что струи фонтана, подобно камням античного дворца, хотя и следуют чертежу, который был для них сделан заранее, а все-таки это вечно новые струи, – устремляясь в вышину, они беспрекословно подчинялись стародавним велениям зодчего, но проявить безукоризненную точность в их исполнении они могли благодаря кажущемуся их нарушению, потому что только множество распыленных взметов создавало у смотревших издали впечатление единого порыва. Фонтан на самом деле был таким же изменчивым, как брызжущие струи, тогда как издали он представлялся мне несгибаемым, плотным, цельным до предела. На более близком расстоянии было видно, что впечатление цельности, на вид только линейной, достигается во всех точках подъема одной струи, всюду, где она должна была бы разбиться, вступлением в строй бокового подкрепления, параллельной струи, которая поднималась выше первой, а на еще большей, но уже трудной для нее высоте сменялась третьей. Вблизи было видно, как бессильные капли, отделившись от водяного столба, встречаются на пути со своими поднимающимися сестрами, как иные, оторвавшись, подхваченные неутихающим вихрем брызг, прежде чем кануть в водоем, некоторое время парят в воздухе. Они нарушали своими колебаниями, своим движением вверх и вниз, они заволакивали медлительными своими испарениями прямизну и упругость этого ствола, образуя над собой продолговатое облако, состоявшее из множества капелек, казавшееся выкрашенным в золотисто-коричневый цвет, казавшееся неменяющимся, и все же это легкое, быстрое, неломкое, неподвижное облако возносилось к облакам небесным. К несчастью, стоило подуть ветру – и оно косо летело на землю; а то просто выбивалась непокорная струя, и если бы глазеющая толпа не держалась на почтительном расстоянии от фонтана, то зазевавшиеся промокли бы до костей.
Особенно неприятные происшествия, вроде того, о котором сейчас пойдет речь, случались, когда поднимался ветер. Виконтессу д'Арпажон уверили, что герцог Германтский, – хотя на самом деле он еще не приезжал, – находится сейчас с маркизой де Сюржи в одной из галерей розового мрамора, куда можно было проникнуть, пройдя мимо двойного ряда колонн, возвышавшихся у водоема. И вот, когда виконтесса подходила к одной из колонн, сильный порыв теплого ветра изогнул струю, струя обдала прекрасную даму, вода затекла виконтессе за корсаж, и виконтесса промокла насквозь, как будто ее погрузили в ванну. Вслед за тем невдалеке послышалось скандированное рычание, до того громкое, что его могла бы услышать целая армия, но перемежавшееся короткими паузами, как будто оно относилось не сразу ко всему войску, а поочередно к каждому подразделению: это великий князь Владимир от души смеялся над затоплением виконтессы д'Арпажон – потом он часто говорил, что это был один из самых смешных случаев в его жизни. Когда же кто-то из сердобольных гостей сказал московиту, что эта дама все-таки достойна сожаления, что выраженное им соболезнование было бы ей приятно и что, хотя ей наверняка перевалило за сорок, она все-таки ни к кому не обращается за помощью, вытирается шарфом и выжимает воду, предательски мочащую край бассейна, великий князь, у которого сердце было доброе, почел за нужное послушаться совета, и едва утихли раскаты его по-военному зычного смеха, как вновь послышалось рычание, но только еще более громкое. «Браво, старушка!» – рукоплеща, как в театре, воскликнул великий князь. Виконтессе д'Арпажон не понравилось, что ее сочли ловкой не по возрасту. И когда, силясь заглушить шум воды, который, однако, без труда покрывал громоподобный голос великого князя, ей сказали: «Кажется, это к вам только что обращался его высочество», то она возразила: «Нет, это он к маркизе де Сувре».
Я прошелся по саду, а затем поднялся во дворец, где из-за отсутствия принца, удалившегося со Сваном, гости сгрудились вокруг де Шарлю – так, когда в Версале не было Людовика XIV, гости более тесной толпой собирались у его брата. Когда я проходил мимо барона, он меня остановил; сзади меня шли две дамы и молодой человек – они направлялись к де Шарлю, чтобы с ним поздороваться.
«Это очень приятно, что вы здесь, – протягивая мне руку, сказал он. – Добрый вечер, госпожа де ла Тремуй, добрый вечер, дорогая Эрмини!» Наверное, де Шарлю вспомнил, что он мне говорил по поводу того, что он – первое лицо в доме Германтов, и, хотя ему так и не удалось подавить в себе раздражение, все-таки он изобразил на своем лице удовольствие, но только, в силу своей аристократической заносчивости и своей истеричности, поспешил облечь его в форму глубочайшей иронии. «Это очень приятно, – повторил он, – но, главное, очень забавно». Тут он захохотал, и этот хохот долженствовал свидетельствовать о том, что он как будто бы доволен, и – в то же время – о бессилии человеческого слова выразить его удовольствие; между тем некоторые гости, зная, как он неприступен, что он способен на дикие выходки, с любопытством подходили и с почти неприличной поспешностью уносили ноги. «Полно, не сердитесь, – коснувшись моего плеча, сказал барон, – вы же знаете, как я вас люблю. Добрый вечер, Антиош, добрый вечер, Луи-Рене! Видели фонтан? – произнес он скорее утвердительным, чем вопросительным тоном. – Правда, красиво? Изумительно. Конечно, это могло быть еще совершеннее – стоило только кое-чем пожертвовать, – тогда ничего прекраснее этого не было бы во всей Франции. Но его и так можно причислить к лучшему из того, что у нас есть. Бресте вам скажет, что зря его украсили фонариками, но это он говорит для того, чтобы все забыли, что он-то и подал эту нелепую мысль. В общем, ему почти не удалось изуродовать фонтан. Гораздо труднее обезобразить произведение искусства, чем создать его. Впрочем, мы давно уже смутно подозревали, что Бресте уступает Гюберу Роберу».
Я опять присоединился к веренице гостей, входивших в дом. «Вы давно видели мою очаровательную Ориану? – обратилась ко мне с вопросом принцесса – она только что встала с кресла, стоявшего у входа, и теперь вместе со мной направлялась в гостиную. – Она вот-вот должна приехать, мы с ней виделись днем, – продолжала хозяйка дома. – Она мне обещала. А кроме того, вы, кажется, с ней и со мной ужинаете в четверг у королевы итальянской в посольстве? Там будет полно всевозможных высочеств, я так боюсь!» Высочества не могли быть страшны принцессе Германтской: в ее гостиных они кишели кишмя, а она говорила: «Мои славные Кобурги» таким тоном, каким могла бы сказать: «Мои славные собачки». Да и прибавила она: «Я так боюсь!» – просто по глупости, которая у светских людей берет верх даже над тщеславием. О своей родословной она знала меньше, чем любой учитель истории. Когда речь заходила о ее приятелях, она щеголяла знанием их прозвищ. Спросив, ужинаю ли я на следующей неделе у маркизы де ла Картош, которую часто называли «Картошка», и, получив от меня отрицательный ответ, принцесса помолчала. Затем, только для того, чтобы блеснуть дешево достававшимися ей познаниями, чтобы показать, что она не выделяется из ряда, что она – как все, прибавила: «Картошка» – приятная дама».
Во время моей беседы с принцессой вошли герцог и герцогиня Германтские. Но мне не удалось подойти к ним, потому что в меня вцепилась жена турецкого посла – указав на хозяйку дома, от которой я только что отошел, она схватила меня за руку и заговорила: «Ах, до чего же обаятельна принцесса! Она лучше всех! Будь я мужчиной, – продолжала она с оттенком восточной льстивости и чувственности, – мне кажется, я посвятила бы всю жизнь этому небесному созданию». Я ответил, что и я того же мнения о принцессе, но что я лучше знаю герцогиню. «Между ними нет ничего общего, – возразила жена посла. – Ориана – прелестная светская дама, заимствующая остроумие у Меме и у Бабала, а Мари-Жильбер – это личность «.
Я не очень люблю, когда мне говорят безапелляционным тоном, что я должен думать о моих знакомых. Кроме того, я с гораздо большим правом, чем жена турецкого посла, мог судить о достоинствах герцогини Германтской. А еще потому я был зол на жену посла, что недостатки нашего просто знакомого и даже нашего друга – это для нас сущая отрава, от которой у нас, к счастью, есть противоядие. Не прибегая к каким бы то ни было сравнениям с явлениями, научно обоснованными, и не принимая в расчет анфилаксию, заметим, однако, что в глубине наших дружеских отношений гнездится неприязнь, от которой можно излечиться временно, приступы которой повторяются. Обычно мы почти не страдаем от этих ядов – до тех пор, пока люди с нами «естественны». Из-за того, что жена турецкого посла называла незнакомых ей людей «Бабал», «Меме», действие противоядия, благодаря которому я ее терпел, прекратилось. Я на нее разозлился, разозлился совершенно напрасно: ведь она называла их так не для того, чтобы все думали, будто она близкая приятельница «Меме», а потому что знания у нее были поверхностные, вследствие чего она полагала, что именовать так людей родовитых – это один из местных обычаев. Она проучилась в школе всего несколько месяцев, испытаниям не подвергалась.
Поразмыслив, я нашел еще одну причину, по которой общество посла было мне неприятно. Недавно у Орианы в разговоре со мной эта самая дипломатка твердо и убежденно объявила, что принцесса Германтская ей глубоко антипатична. Я решил не расспрашивать, чем вызвана перемена в ее отношении к принцессе, – мне и так было ясно, что все дело в приглашении на сегодняшний вечер. Жена посла не кривила душой, утверждая, что принцесса Германтская – существо необыкновенное. Она всегда держалась такого мнения. Но ее до сих пор ни разу не звали к принцессе, и ей хотелось, чтобы у других создалось впечатление, будто это не ее не зовут, а что она сама, из принципа, не хочет здесь бывать. Наконец ее пригласили; по всей вероятности, будут приглашать в дальнейшем, и теперь она могла открыто заявить о своем расположении к принцессе. Когда мы судим о ком-либо, то в большинстве случаев наши суждения объясняются не тем, что мы не пользуемся взаимностью, и не тем, что такой-то человек перестал быть у власти. Мнения колеблются в зависимости от того, пригласили нас или не пригласили. Надо заметить, что, как выразилась герцогиня Германтская, вместе со мной производившая смотр гостиным, жена турецкого посла явилась «весьма кстати». Она была здесь очень нужна. Настоящим звездам высшего света наскучило блистать в нем. Кому любопытно на них поглядеть, тот зачастую должен переселяться в другое полушарие, где они находятся в почти полном одиночестве. Но дамы вроде жены оттоманского посла, совсем недавно начавшие выезжать в свет, успевают блистать, как говорится, везде и всюду. Они бывают полезны на этих особого рода представлениях, именуемых вечерами, раутами, на которые они готовы тащиться в полумертвом состоянии, лишь бы ни одного из них не пропустить. Это статистки, на которых всегда можно рассчитывать, которые боятся пропустить хотя бы одно торжество. Юные глупцы, не понимающие, что это звезды поддельные, видят в них олицетворение высшего шика, и, чтобы втолковать им, почему в г-же Стандиш, о которой они понятия не имеют и которая вдали от света разрисовывает подушки, уж, во всяком случае, не меньше благородства, чем в герцогине де Дудовиль, потребовалась бы целая лекция.
Обычно взгляд у герцогини Германтской был рассеянный и чуть-чуть печальный; пламенем мысли она зажигала свои глаза, только когда здоровалась с кем-нибудь из друзей, как будто это был не друг, а живая острота, прелестная шутка, изысканное блюдо, вызывающее на лице гурмана, который отведал его, выражение утонченного наслаждения. Но на многолюдных сборищах, где приходилось то и дело здороваться, каждый раз потом гасить в глазах огонь – это ей казалось чересчур утомительным. Знаток художественной литературы, только успев войти в театр, где сегодня идет пьеса известного драматурга, уже выражает уверенность в том, что он недаром потратит вечер: сдавая гардеробщице верхнее платье, он складывает губы в многозначительную улыбку, а своим оживившимся глазам придает лукаво-одобрительное выражение; вот так и герцогиня тотчас по приезде зажигалась уже на весь вечер. Сняв свое вечернее манто дивного красного, как на картинах Тьеполо, цвета, открыв для взоров целую цепь рубинов, стягивавшую ей шею, бросив на платье последний быстрый взгляд, цепкий и все замечающий, как у портнихи, – взгляд светской женщины, – Ориана убедилась, что глаза ее светятся не менее ярко, чем все остальные ее драгоценности. Напрасно «соболезнователи» вроде де Жанвиля загородили герцогу дорогу: «Вы знаете, что бедный Мама при смерти? Его уже соборовали». – «Знаю, знаю, – отвечал герцог Германтский, оттесняя надоедливого господина. – После причастия ему стало гораздо лучше», – добавил он, улыбаясь от удовольствия при мысли о бале, на который он решил непременно поехать прямо от принца. «Мы приехали сюда втайне от всех», – сказала мне герцогиня. Она не подозревала, что принцесса выдала мне ее, сообщив, что мельком видела Ориану и что та обещала сегодня быть у нее. Герцог целых пять минут не отводил от жены докучного взгляда. «Я рассказал Ориане о ваших колебаниях», – наконец проговорил он. Теперь, удостоверившись, что мои сомнения были необоснованны и что ей ничего не нужно предпринимать, чтобы их рассеять, Ориана заметила, что глупо с моей стороны было колебаться, и долго подтрунивала надо мной: «Надо же было вбить себе в голову, что вас не пригласили! Сюда всех приглашают. Ну а я на что же? Неужели вы думаете, что принцесса отказала бы мне в моей просьбе и не пригласила бы вас?» Должен заметить, что впоследствии Ориана нередко оказывала мне более важные услуги, но сейчас я не решался придать ее словам тот смысл, что я был чересчур деликатен. Я уже более или менее точно знал истинную цену звучащему и немому языку аристократической любезности – любезности, которая бывает рада пролить бальзам на ощущение своей низкости, испытываемое тем, на кого эта любезность распространяется, но которая, однако, не ставит себе целью совершенно избавить человека от этого ощущения, потому что тогда она утратила бы свой смысл. «Вы нам ровня, вы даже выше нас», – казалось, говорили все поступки Германтов, говорили необыкновенно мило – так, чтобы вы полюбили Германтов, восхищались ими, но так, чтобы вы им не верили; различать поддельность этой любезности значило, с точки зрения Германтов, проявить благовоспитанность; верить в то, что это любезность искренняя, значило доказать, что ты дурно воспитан. Вдобавок немного погодя я получил урок, благодаря которому я потом уже безошибочно определял размеры и пределы некоторых форм проявления аристократической любезности. Это было на утреннем приеме, который герцогиня де Монморанси устраивала в честь английской королевы; к буфету двигалось что-то вроде немноголюдного шествия во главе с королевой, которую вел под руку герцог Германтский. В это время вошел я. Свободной рукой герцог на расстоянии, по крайней мере, сорока метров начал делать мне знаки, выражавшие дружеское расположение, подзывавшие меня и как будто говорившие, что я смело могу подойти, что меня не съедят вместо сандвичей с честером. Но так как я уже начал оказывать успехи в изучении придворного языка, то не сделал ни шагу вперед – на расстоянии сорока метров я низко поклонился, даже не улыбнувшись, точно незнакомому человеку, а затем проследовал в противоположном направлении. Если бы я написал какое-нибудь замечательное произведение, Германты не так высоко оценили бы его, как этот мой поклон. Его запомнил не только герцог, которому в тот вечер пришлось, однако, ответить больше чем на пятьдесят поклонов, но и герцогиня, – встретив потом мою мать, она рассказала ей, как я поклонился, но не сочла нужным заметить, что напрасно-де я не подошел. Напротив: она сообщила, что ее муж в восторге от моего поклона, и добавила от себя, что этим поклоном было сказано все. В нем видели множество достоинств, кроме самого важного – скромности; меня за него долго хвалили, но я воспринимал эти похвалы не столько как награду за прошлое, сколько как указание на будущее, вроде того, какое делают ученикам директора учебных заведений: «Помните, дети, что мы награждаем не столько вас, сколько ваших родителей, для того, что они послали вас в школу и на будущий год». Так виконтесса де Марсант, когда у нее появлялся человек не из ее круга, хвалила его в присутствии тактичных людей, которые «тут как тут, когда они нужны, а вообще держатся в тени»; так слуге, от которого дурно пахнет, дают это понять, намекая, что ванны очень полезны для здоровья.
Я еще не кончил разговора с герцогиней Германтской, все еще стоявшей в вестибюле, как вдруг услышал один из тех голосов, которые впоследствии я различал без малейшего труда. В данном случае это был голос де Вогубера, беседовавшего с де Шарлю. Врачу-клиницисту не нужно даже, чтобы больной, находящийся под его наблюдением, поднял рубашку, не нужно проверять, как он дышит, – ему важен голос больного. Сколько раз потом где-нибудь в гостиной меня поражали чьи-нибудь интонации или смех: так мог говорить и смеяться человек определенного рода занятий, известного круга, напускавший на себя чопорность или, наоборот, разнузданность, но по фальшивому тону этого человека мой слух, чуткий, точно камертон настройщика, мгновенно угадывал: «Это один из Шарлю». Тут как раз в полном составе, раскланиваясь с де Шарлю, проследовало посольство. Хотя я только в тот самый день открыл для себя особую болезнь (понаблюдав за де Шарлю и Жюпьеном), однако для установления диагноза мне незачем было ни задавать вопросы, ни выслушивать. Но де Вогубер, беседовавший с де Шарлю, казалось, пребывал в нерешительности. А между тем период сомнений, через который проходит молодость, для него уже миновал, и он должен был бы знать, как себя вести. Извращенный сначала думает, что таких, как он, нет больше во всей вселенной, а потом ему представляется другая крайность, что человек нормальный – это единственное исключение. Но де Вогубер, тщеславный и трусоватый, давно уже не предавался тому, от чего прежде получал удовольствие. Дипломатическая карьера имела для него такое же влияние, как монашеский обет. Двадцатилетний Вогубер уже сочетал в себе прилежание ученика Школы политических наук с нравственностью христианина. А так как все органы чувств теряют свою силу и восприимчивость, атрофируются оттого, что ими перестают пользоваться, то и у де Вогубера, – подобно тому как у человека цивилизованного уже не та сила и не та тонкость слуха, как у человека пещерного, – не стало той особенной проницательности, которая редко изменяла де Шарлю; на официальных обедах, как в Париже, так и за границей, полномочный посол был уже не способен установить, что люди в форменном платье – по существу такие же, как он. Имена, которые называл де Шарлю, приходивший в негодование, когда о нем упоминали в связи с его пристрастием, но неизменно получавший удовольствие, когда ему предоставлялась возможность сообщить, что такое же точно пристрастие питает еще кто-нибудь, приводили де Вогубера в отрадное изумление. Не то чтобы ему после стольких лет воздержания хотелось чем-нибудь поживиться. Но эти внезапные откровения, подобные тем, благодаря которым в трагедиях Расина Аралия и Абнер узнают, что Иоад – из племени Давидова, а что у Есфири, восседающей в пурпуре, родители – жиды, меняли облик …ского посольства или такого-то департамента министерства иностранных дел, задним числом придавали им такую же таинственность, какой полны храм в Иерусалиме или тронный зал в Сузах. При виде посольства, молодые сотрудники которого, все до одного, пожимали де Шарлю руку, у де Вогубера появилось выражение восторга, с каким Элиза восклицает в «Есфири»:
О, сколько юных дев! Благие небеса,
Как восхитительна их чистая краса!
Да не коснется их малейшая невзгода!
Благословен оплот избранного народа! [2]
Затем де Вогубер, чтобы «привести дело в ясность», глупо-вопросительно и двусмысленно посмотрел на де Шарлю. «Ну конечно», – произнес де Шарлю с видом знатока, просвещающего невежду. После такого ответа де Вогубер (барона это очень раздражало) уже не спускал глаз с молодых чиновников, которых …ский посол во Франции, старый воробей, подобрал не случайно. Де Вогубер молчал; я ловил только его взгляды. Но, привыкнув с детства переводить даже речь бессловесную на язык классических произведений, я заставлял глаза де Вогубера читать стихи, в которых Есфирь объясняет Элизе, что Мардохей крепко держится за свою веру, – вот почему он окружил царицу такими девушками, которые эту веру исповедуют:
К народу своему приверженный без меры,
Призвал он во дворец тех, кто одной с ним веры,
И эти юные созданья расцвели
Здесь, на чужой земле, от родины вдали;
А он (этот восхитительный посол) их пестует,
благого полон рвенья,
Являя им пример, давая наставленья [3].
Наконец Вогубер заговорил не только взглядами. «Кто знает, – сказал он печально, – может быть, и в той стране, где я нахожусь, такие же нравы». – «Вполне возможно, – подхватил де Шарлю, – начать с короля Феодосия, хотя ничего определенного я о нем сказать не могу». – «Да нет, что вы!» – «Тогда не надо делать такого вида. И эти его ужимочки! Он из той породы людей, которые обращаются к вам: „Дорогуша!“ – а я это терпеть не могу. Мне было бы стыдно показаться с ним на улице. Ну да ведь вам-то он должен быть ясен, его все знают как облупленного». – «Он совсем не такой, каким вы его себе рисуете. Да и потом, он человек совершенно очаровательный. В тот день, когда было подписано соглашение с Францией, он меня обнял. Как я был тронут!» – «Вот тут-то вы бы ему и сказали, чего вам хочется». – «Ах, Боже мой, если б он только заподозрил – какой это был бы ужас! Но у меня нет оснований опасаться». Под влиянием разговора, который я слышал, так как находился поблизости, я мысленно продекламировал:
Этот диалог, наполовину безгласный, наполовину звучащий, был весьма краток. Мы с герцогиней Германтской прошли несколько шагов по гостиной, как вдруг ее остановила маленькая, необыкновенно красивая брюнетка:
– Я бы очень хотела у вас побывать. Д'Аннунцио видел вас из ложи; принцесса Т. получила от него письмо – он пишет, что никогда не видел такой красивой женщины. Он готов отдать жизнь за десятиминутный разговор с вами. Во всяком случае, даже если вы не можете или не хотите, письмо у меня. Назначьте мне встречу у вас дома. Здесь я всего сказать не могу. Вы меня, должно быть, не узнаете? – обратилась она ко мне. – Я с вами познакомилась у герцогини Пармской (я у нее никогда не был). Русский император изъявил желание, чтобы вашего отца назначили послом в Петербург. Приезжайте во вторник – там как раз будет Извольский, он с вами поговорит. Дорогая! Я вам приготовила подарок, – снова заговорила она с герцогиней, – такого подарка я бы никому, кроме вас, не сделала. Ибсен переслал мне через старика, который ухаживал за ним во время болезни, рукописи трех своих пьес. Одну из них я оставлю себе, а две подарю вам.
Герцог Германтский был не в восторге от этих даров. Он не был уверен, умерли Ибсен и д'Аннунцио или еще живы, и ему уже чудились прозаики, драматурги, являющиеся с визитами к его жене и выводящие ее в своих произведениях. Светские люди представляют себе книгу в виде куба без одной стороны, куда автор спешит «ввести» людей, которые ему встретились. Конечно, это некрасиво, так могут поступать только дрянные людишки. Впрочем, встречаться с ними «на ходу» небесполезно – благодаря им читаешь книгу или статью – и знаешь «подоплеку», тебе видна «изнанка». А все-таки лучше иметь дело с покойниками. Из всей пишущей братии герцог Германтский считал «вполне приличным» человеком только того, кто писал некрологи для «Голуа». Этот господин, по крайней мере, ограничивался тем, что называл имя герцога Германтского в числе лиц, достойных «особого упоминания» в отчетах о похоронах – в отчетах, на которых герцог расписывался. В тех случаях, когда герцог предпочитал, чтобы его имя не указывалось, он посылал семье умершего соболезнующее письмо с выражением самых грустных чувств. Если же по просьбе семьи в газете подчеркивалось: «Среди писем, полученных семьею покойного, считаем нужным отметить письмо герцога Германтского» и т. д., то это была вина не хроникера, а, к примеру, сына, брата или отца умершей, и герцог обзывал их за это «подлипалами» и собирался с ними порвать (так как герцог не понимал смысла некоторых выражений, то в таких случаях он говорил, что намерен «быть с ними не в ладах»). Как бы то ни было, при имени Ибсена и при имени д'Аннунцио герцог, неуверенный в том, существуют ли они на свете, нахмурился, хотя находился близко от нас и не мог не слышать, как маркиза Тимолеон д'Амонкур осыпает его жену комплиментами. Это была прелестная женщина – за ум ее можно было любить не меньше, чем за красоту. Родилась она не в той среде, где вращалась теперь, мечтала сперва только о литературном салоне, была в приятельских отношениях – в приятельских, но не в близких, ее строгая нравственность не вызывала сомнений, – со всеми большими писателями, а те дарили ей все рукописи, писали для нее, и теперь, когда она по воле судьбы оказалась в Сен-Жерменском предместье, причастность ее к литературе ей пригодилась. Теперь она могла кого угодно осчастливить одним своим присутствием. Но, пройдя в свое время школу светского обхождения с его изворотами, с необходимостью оказывать услуги, она упорно продолжала делать одолжения, хотя надобность в этом отпала. Она всегда была готова открыть вам государственную тайну, познакомить вас с важной особой, подарить вам акварель известного художника. Конечно, во всех этих ненужных приманках заключалась некоторая доля фальши, но они превращали ее жизнь в искрящуюся комедию с хитросплетенной интригой: было точно известно, что от нее зависит назначение префектов и генералов.
Идя рядом со мной, герцогиня Германтская излучала голубой свет своих глаз в пространство, чтобы не смотреть на людей, с которыми ей не хотелось разговаривать и от встреч с которыми она старалась уклониться заранее, как от столкновения с подводными камнями. Стоявшие в два ряда гости, между которыми мы проходили, знали, что им никогда не представится возможность познакомиться с Орианой, и пределом их мечтаний было показать ее своим женам как некую достопримечательность: «Урсула, скорей, скорей, вон герцогиня Германтская, та, что разговаривает с молодым человеком!» Казалось, чтобы им было лучше видно, они вот-вот вспрыгнут на стулья, как на параде 14 июля или на скачках. Проявляли они такое любопытство совсем не потому, чтобы салон у герцогини Германтской был аристократичнее, чем у принцессы. Салон герцогини часто посещали люди, которых ни за что бы не позвала принцесса – главным образом из-за своего мужа. Она не пригласила бы к себе г-жу Альфонс де Ротшильд, такую же близкую приятельницу герцогини де ла Тремуй и герцогини Саганской, как и Ориана, постоянно у Орианы бывавшую. Точно так же обстояло дело и с бароном Гиршем, которого принц Уэльский ввел в дом к ней, но не к принцессе, потому что он бы ей не понравился, равно как и с весьма важными лицами из бонапартистских или даже республиканских кругов; герцогиню эти лица интересовали, а вот принц, убежденный роялист, их бы не принял из принципа. Его антисемитизм, тоже строго принципиальный, не делал исключений даже для людей прекрасно воспитанных, влиятельных, и если он принимал у себя старинного своего друга Свана, хотя из всех Германтов только он называл его «Сван», а не «Шарль», то на это у него были особые причины: он слыхал, будто бабушка Свана, протестантка, вышедшая замуж за еврея, была любовницей герцога Беррийского, и время от времени заставлял себя верить легенде, превращавшей отца Свана в незаконного сына принца. Согласно этой гипотезе, кстати сказать – неверной, Сван, сын католика, внук одного из Бурбонов, был чистокровным христианином.
– Как, разве вы не видели всего этого великолепия? –спросила меня герцогиня, имея в виду дом, где мы с ней находились. Но, расхвалив дворец своей родственницы, она поспешила добавить, что ей в тысячу раз милее ее «убогая лачужка». – Здесь все чудно, пока ты в гостях . Но я умерла бы с тоски, если бы меня оставили ночевать в одной из комнат, где произошло столько исторических событий. У меня было бы такое чувство, будто обо мне забыли и нечаянно заперли в замке Блуа, в Фонтенбло или даже в Лувре, и у меня одно утешение – твердить себе, что я нахожусь в той комнате, где был убит Мональдески. Но это плохое успокоительное. А вот и маркиза де Сент-Эверт! Мы у нее только что ужинали. Завтра у нее тьма-тьмущая гостей, которых она в этот день созывает ежегодно, и я думала, что она рано ляжет спать. Но чтобы она когда-нибудь пропустила хоть один званый вечер! Если б он был за городом, она добралась бы туда любым способом – хоть в фургоне для мебели.
На самом деле маркиза де Сент-Эверт приехала сегодня к Германтам не столько для того, чтобы получить удовольствие от их вечера, сколько для того, чтобы упрочить успех своего, чтобы завербовать еще кое-кого из своих присных и, так сказать, произвести in extremis[5] смотр войскам, которые завтра на ее garden-party[6] покажут свое маневренное искусство. Надо заметить, что уже довольно давно общество, собиравшееся у Сент-Эверт, сильно изменилось. Блестящие женщины из окружения Германтов, некогда появлявшиеся у Сент-Эверт в кои веки раз, постепенно – очарованные любезностью маркизы – ввели к ней в дом своих приятельниц.
Одновременно, действуя наступательно, но только в противоположном направлении, маркиза де Сент-Эверт год от году сокращала число гостей, не пользовавшихся известностью в высшем свете. Переставала звать то того, то другого. Некоторое время у нее существовала система «для всех прочих», система вечеров, о которых маркиза не распространялась и на которые она приглашала ею отсеянных, – пусть себе варятся в своем соку, – это избавляло ее от необходимости объединять их с людьми порядочными. Чего же еще им было надо? Разве им не предлагали (panem et circenses ) [7] печенье и превосходные музыкальные вечера? Потому-то среди высшего круга у маркизы в наши дни можно было различить всего две чужеродные ему особи, приглашавшиеся как бы для симметрии с двумя герцогинями-изгнанницами, которые в былое время, когда салон де Сент-Эверт только-только еще открывался, поддерживали его ненадежные своды: старую маркизу де Говожо и архитекторшу с красивым голосом, которую часто просили спеть. Но у маркизы де Сент-Эверт они никого уже не знали, оплакивали утраченных своих подруг, чувствовали, что они здесь лишние, и вид у них был как у вовремя не улетевших, замерзающих ласточек. А на следующий год их перестали приглашать. Графиня де Франкто попросила за свою родственницу, страстно любившую музыку. Но так как ответ был уклончивый: «Отчего же нет? Музыку всегда можно прийти послушать», – то маркиза де Говожо, найдя, что это не слишком любезное приглашение, не пошла.
Коль скоро маркизе де Сент-Эверт удалось совершить превращение: салон прокаженных преобразить в салон великосветских дам (такое он теперь производил впечатление – впечатление высшего шика), то, казалось бы, зачем особе, которая завтра устраивает самый роскошный званый вечер в сезоне, приезжать накануне, чтобы обратиться с последним призывом к своим войскам? Дело в том, что салон Сент-Эверт имел преимущество перед всеми только в глазах тех, кто составляет себе представление о светской жизни по отчетам об утренних приемах и вечерах в «Голуа» или «Фигаро», никогда на них не бывая. Для такого рода светских людей, видевших свет через газетный лист, перечисления имен супруги английского посла, супруги австрийского посла и т. д., герцогинь д'Юзес, де ла Тремуй и т. д., и т. д. было достаточно, чтобы они, не задумываясь, поставили салон Сент-Эверт на первое место среди парижских салонов, тогда как на самом деле он был одним из последних. Отчеты не лгали. Большинство упомянутых лиц присутствовало на вечерах маркизы. Но каждую из этих особ удавалось туда заманить мольбами, любезностями, услугами, и являлись они к маркизе де Сент-Эверт с таким видом, как будто это для нее великая честь. Такого сорта салоны, скорее избегаемые, чем притягательные, куда ездят, так сказать, по обязанности, пленяли только читательниц «светской хроники». Взор этих читательниц скользит мимо вечеров, где собирается действительно изысканное общество: на такие вечера хозяйка дома могла бы созвать всех герцогинь, жаждущих быть «в числе избранных», а приглашает двух-трех и не называет имен своих гостей в газете. Она не придает гласности того значения, какое гласность приобрела в наше время, или же не считается с нею, и, несмотря на это, испанская королева видит в ней аристократку чистой воды, а толпа не признает ее, потому что королева имеет понятие, что та собой представляет, а толпа не имеет.
Маркиза де Сент-Эверт была другого пошиба: подобно трудолюбивой пчеле, она прилетела к Германтам, чтобы собрать назавтра мед подтверждений со всех приглашенных. Де Шарлю не был приглашен – он всегда отказывался. Но он со столькими перессорился, что маркиза де Сент-Эверт могла объяснить это его плохим характером.
Ради одной Орианы маркиза де Сент-Эверт могла бы не приезжать: маркиза пригласила ее лично, и приглашение было принято с той чарующей обманчивой благосклонностью, в искусстве которой так сильны иные академики, что кандидаты уходят от них растроганные, твердо уверенные, что могут рассчитывать на их голос. Но дело было не только в ней. Приедет ли принц Агригентский? А г-жа де Дюрфор? И вот, чтобы не выпустить из рук своих жертв, маркиза де Сент-Эверт сочла наиболее целесообразным собственной персоной явиться к Германтам; вкрадчивая с одними, властная с другими, она всем намекала на то, что их ожидают неслыханные увеселения, которых в другой раз уже не увидишь, и каждому обещала, что он у нее встретится с тем, с кем ему хотелось или нужно было встретиться. И вот эта обязанность, которую она раз в год возлагала на себя, – так в древнем мире возлагали на себя обязанности судьи, – обязанность устроительницы самого пышного garden-party в сезоне, на время прибавляла ей весу в обществе. Список был составлен окончательно; маркиза медленно обходила гостиные принцессы, чтобы шепнуть то тому, то другому на ухо: «Не забудьте обо мне завтра», и ее охватывало чувство гордости, когда она, продолжая улыбаться, внезапно отводила глаза, если замечала дурнушку, встречи с которой следовало избежать, или дворянчика из провинции, которого принимал Жильбер как своего старого товарища по коллежу, но чье присутствие не украсило бы ее garden-party . Она предпочитала не заговаривать с ними, чтобы потом иметь возможность сказать: «Я всех приглашала лично, а с вами мы, к сожалению, не встретились». Так, будучи всего-навсего Сент-Эверт, она рыщущими своими глазами производила в составе приглашенных на вечер к принцессе «разборку». И в это время она воображала себя самой настоящей герцогиней Германтской.
Надо заметить, что герцогиня не так свободно, как можно было предполагать, распоряжалась своими приветствиями и улыбками. Разумеется, в иных случаях она отказывала в них добровольно. «Она мне осточертела, – признавалась герцогиня, – стану я битый час толковать с ней о ее вечере!»
Мимо нас прошла некая герцогиня, жгучая брюнетка, которую по причине ее уродливости и глупости, а равно и по причине ее до известной степени предосудительного поведения, изгнали, правда, не из всех кругов общества, а только из наиболее изысканно-интимных. «Ах, вот оно что! – прошептала герцогиня Германтская, смерив ее наметанным, искушенным взглядом знатока, которому показывают фальшивый камень. – Оказывается, здесь и таких принимают!» Герцогине Германтской достаточно было посмотреть на эту блекнувшую женщину, все лицо которой было в бородавках с черными волосками, чтобы составить себе невысокое мнение о нынешнем вечере. Когда-то они вместе воспитывались, но потом герцогиня прекратила с ней всякие отношения; на ее поклон она ответила надменным кивком. «Я не понимаю, – заговорила герцогиня таким тоном, как будто извинялась передо мной, – зачем Мари-Жильбер смешивает нас с этим отребьем? Тут у нее всякой твари по паре. У Мелани де Пурталес было гораздо лучше. Она могла собирать у себя и Святейший синод, и Темпль де л'Оратуар, если это ей было почему-нибудь нужно, но, по крайней мере, нас она в такие дни не звала». Зачастую разборчивость герцогини объяснялась опасливостью, боязнью, как бы муж, не желавший, чтобы она принимала артистов и т. п., не закатил скандал (Мари-Жильбер, напротив, благоволила к артистам, так что у нее надо было быть начеку, чтобы с вами не заговорила какая-нибудь знаменитая немецкая певица), а также страхом перед национализмом, который она, обладавшая, как и де Шарлю, умом Германтов, презирала с точки зрения светской (теперь раболепство перед генеральным штабом доходило до того, что генерала-плебея пропускали вперед, а кое-кто из герцогов шел сзади), но которому, однако, зная, что ее считают вольнодумкой, она делала большие уступки – вплоть до того, что боялась в кругу антисемитов подать руку Свану. Сегодня она была на этот счет спокойна: она знала, что принц увел Свана и вступил с ним в «какие-то пререкания». Она боялась при всех заговаривать с «милым Шарлем» – она предпочитала быть с ним ласковой в домашнем кругу.
– А это кто такая? – воскликнула герцогиня Германтская, увидев, что дама небольшого роста и довольно странного вида, в черном, совсем простеньком платьишке, внушавшем подозрение, что она беднячка, вместе со своим мужем низко ей кланяется. Герцогиня не узнала ее, а так как нрав у нее был заносчивый, то она сейчас же приняла гордый вид, как будто ей нанесли оскорбление, и, не ответив на поклон, окинула даму недоуменным взглядом. «Кто это, Базен?» – с удивлением спросила она герцога, который, чтобы загладить неучтивость Орианы, поклонился даме и пожал руку ее мужу. «Да это госпожа де Шоспьер, вы были с ней очень невежливы». – «Не знаю я никаких Шоспьер». – «Ее муж – племянник старухи Шанливо». – «Я их знать не обязана. Кто это женщина, с какой стати она мне кланяется?» – «Заладили! Это дочь госпожи де Шарлеваль, Анриетта Монморанси». – «Ах, вот оно что! Я прекрасно знала ее мать – это была прелестная, очень остроумная женщина. Почему же ее дочь породнилась со всеми этими, которых я в глаза не знаю? Вы говорите, ее фамилия – де Шоспьер?» – спросила герцогиня, произнося фамилию по слогам и неуверенно глядя на мужа, словно боялась ошибиться. Герцог сердито посмотрел на нее. «Носить фамилию Шоспьер – это совсем не так смешно, как вам, видимо, кажется! Старик Шоспьер – брат Шарлеваль, которую я уже упоминал, брат госпожи де Сенкур и виконтессы дю Мерлеро. Все это люди почтенные». – «Ну, довольно, довольно! – воскликнула герцогиня – подобно укротительнице, она всегда старалась не показать вида, что ее пугают кровожадные взгляды хищников. – Вы приводите меня в восторг, Базен. Не знаю, где вы откопали эти фамилии, но я не могу не отдать вам должное. Я понятия не имела о Шоспьере, но зато я читала Бальзака, – не вы один его читали, – я даже читала Лабиша. Я с уважением отношусь к Шанливо, я ничего не имею против Шарлеваля, но верх совершенства – это, по-моему, дю Мерлеро. А впрочем, надо сознаться, что и Шоспьер – тоже недурно. Вы все это нарочно подобрали, в жизни так не бывает. Раз вы собираетесь писать книгу, – обратилась она ко мне, – вам не мешает запомнить Шарлеваля и дю Мерлеро. Лучше не придумаете». – «Против него возбудят судебное дело, только и всего, и он сядет в тюрьму; вы очень плохая советчица, Ориана». – «Я за него спокойна: если у него есть охота выслушивать дурные советы, а главное – следовать им, то он всегда найдет кого-нибудь помоложе меня. Книга – это еще далеко не самое страшное!» На некотором расстоянии от нас мягко выделялась фигура прелестной, горделивой молодой женщины в белом тюлевом, усыпанном бриллиантами платье. Герцогиня Германтская обратила на нее внимание в то время, когда она разговаривала с целой группой гостей, поддавшихся ее обаянию.
– Ваша сестра всегда красивее всех; сегодня она просто очаровательна, – садясь на стул, сказала герцогиня проходившему мимо нее принцу де Шиме. Полковник де Фробервиль (у него был дядя-генерал, носивший ту же фамилию) сел рядом с нами, и граф де Бресте тоже, а маркиз де Вогубер, изгибаясь (от чрезмерной учтивости, которую он проявлял даже во время игры в теннис: прежде чем отбить мяч, он всякий раз испрашивал на то соизволения у важных особ, за каковым соизволением неминуемо следовал промах), снова направлялся к де Шарлю (который почти весь был скрыт от взоров юбкой графини Моле – женщины, по его собственному признанию, производившей на него наиболее сильное впечатление) как раз в тот момент – это вышло совершенно случайно, – когда члены одной из новых дипломатических миссий в Париже здоровались с бароном. При виде молодого секретаря с на редкость умным лицом де Вогубер улыбнулся барону, и в этой его улыбке явственно обозначался только один вопрос. Сам де Шарлю, вероятно, с удовольствием скомпрометировал бы кого угодно, но что чья-то недвусмысленная улыбка компрометирует его – это было ему не по нраву: «У меня никаких сведений нет, ваше любопытство в данном случае совершенно неуместно. Я его ни в малой мере не разделяю. Тем более что тут вы дали маху. Я уверен, что этот молодой человек – совсем не то, что вы думаете». Де Шарлю, обозленный тем, что в его тайну проник болван, говорил неправду. Если б он говорил правду, то секретарь представлял бы собой исключение в этом посольстве. Там служили действительно очень разные люди, были среди них и жалкие ничтожества, так что если б кто-нибудь заинтересовался, почему приняли на службу именно их, то он убедился бы, что их брали только за извращенность. Те, кто назначил главою этого маленького дипломатического Содома посла, который, в противоположность подчиненным, обожал женщин, проявляя это свое обожание с комической преувеличенностью водевильного актера, и который следил за тем, чтобы его батальон ряженых не нарушал строя, по-видимому, действовал по закону контраста. Несмотря на всю очевидность того, что делалось у него под носом, он не верил в извращенность своих подопечных. Это он тут же и доказал, выдав родную сестру за поверенного в делах, которого он, глубоко ошибаясь, считал юбочником. С тех пор он стал помехой для всех, так что вскорости пришлось заменить его новым «превосходительством», и вот оно-то и обеспечило однородность личного состава. Другие посольства пытались соперничать с этим, но взять над ним верх не смогли (так на конкурсе какое-нибудь одно училище всегда выходит на первое место); потребовалось более десяти лет, чтобы в это единое целое могли попасть чужеродные атташе и другое посольство отняло наконец у него тлетворную пальму первенства и вырвалось вперед.
Герцогиня Германтская была спокойна: разговор со Сваном ей не грозил, и теперь ее занимало одно: о чем он говорит с хозяином дома. «Вы не знаете, о чем у них идет беседа?» – спросил графа де Бресте герцог. «Я слышал, что о пьеске, которую поставил у Сванов писатель Бергот. Должно быть, премилая пьеска. Но, кажется, актер загримировался под Жильбера, а господин Бергот действительно хотел его изобразить». – «Ах, вот что! Я бы дорого дала, чтобы посмотреть, как передразнивают Жильбера», – с мечтательной улыбкой произнесла герцогиня. «Вот по поводу этого домашнего спектакля, – выпятив нижнюю челюсть – челюсть грызуна, снова заговорил граф де Бресте, – Жильбер и потребовал объяснений от Свана, а тот, по общему мнению, очень остроумно ему ответил: „Да нет, что вы, он совсем не был на вас похож, вы же гораздо смешнее“. Как бы то ни было, – продолжал граф де Бресте, – пьеска, по слухам, прелестная. На спектакле была графиня Моле, она смеялась до упаду». «Как, графиня Моле бывает у Свана? – с изумлением спросила герцогиня. – А, это, наверное, дело рук Меме! С домами вроде дома Сванов так всегда и кончается. Все в один прекрасный день оказываются там, а я из принципа решила не появляться в этом доме, и вот теперь я осталась в одиночестве и вынуждена скучать по вечерам у себя дома». После того что сейчас рассказал граф де Бресте, герцогиня Германтская изменила свое отношение если не к салону Свана, то, во всяком случае, к встрече с ним самим, которая могла произойти в любую минуту. «Все это – плод вашего воображения, и только, – обращаясь к графу де Бресте, заметил полковник де Фробервиль. – И я берусь это доказать. Просто-напросто принц накинулся на Свана и, как говаривали наши отцы, отказал ему от дома за то, что Сван проповедует. И я считаю, что мой дядя Жильбер совершенно прав, что накинулся на Свана, он должен был выставить этого отъявленного дрейфусара еще полгода назад».
Бедный де Вогубер, превратившийся из чересчур медлительного теннисиста в безвольный теннисный мяч, который перебрасывают без всяких церемоний, отлетел к герцогине Германтской и засвидетельствовал ей свое почтение. Ориана поздоровалась с ним довольно неприветливо – она держалась того мнения, что все дипломаты (и вообще политические деятели) из ее круга – олухи.
Де Фробервилю не мог не быть выгоден почет, какой с некоторых пор стали оказывать в обществе военным. К несчастью, хотя родство его жены с Германтами было бесспорно, однако это была очень бедная родственница, а так как сам он лишился своего состояния, то они ни с кем не поддерживали отношений; они принадлежали к числу тех, о ком не вспоминали, кроме особых случаев, когда, на их счастье, кто-нибудь из родственников умирал или сочетался браком. Только тогда они приобщались к высшему свету – так католики только по названию подходят к алтарю не чаще раза в год. Их материальное положение было бы просто плачевным, если бы маркиза де Сент-Эверт, в память о дружбе с покойным генералом де Фробервилем, не помогала им то тем, то другим, не заботилась о двух дочках Фробервилей – об их нарядах и об их развлечениях.
Но полковник, которого все считали славным малым, был человек неблагодарный. Его покровительница без конца и без умолку восславляла свою роскошь, а де Фробервиль ей завидовал. Ежегодная garden-party доставляла ему, жене и детям огромное удовольствие, от которого они не отказались бы ни за какие блага в мире, но это удовольствие было для них отравлено мыслью о том, как эта garden-party тешит самолюбие маркизы де Сент-Эверт. Объявление о garden-party в газетах, а затем маккиавелическая заключительная фраза из подробного ее описания: «Мы еще вернемся к этому чудному празднику», похвалы, несколько дней подряд расточавшиеся каждой мелочи того или иного наряда, – все это Фробервили воспринимали крайне болезненно, и хотя они не были избалованы увеселениями, а приглашение на этот утренний прием было им обеспечено, все же они каждый год надеялись, что из-за дурной погоды его отменят, смотрели на барометр и с радостью следили за предвестниками грозы, потому что в случае грозы празднество отменялось.
– О политике я с вами, Фробервиль, спорить не буду, – заговорил герцог Германтский, – а вот что касается Свана, то тут я должен сказать откровенно: по отношению к нам он ведет себя недопустимо. Его ввели в высший свет мы, герцог Шартрский, а он, как я слышал, открыто перешел на сторону дрейфусаров. Я никогда бы про него этого не подумал – про него, гурмана, человека с ясным умом, коллекционера, любителя старых книг, члена Джокей-клоба, про него, пользующегося всеобщим уважением, превосходного филателиста, человека, присылавшего нам наилучший портвейн, поклонника изящных искусств, отца семейства. Ах, как я в нем заблуждался! Не буду говорить о себе, я – старая калоша, мое мнение ничего не значит, я что-то вроде вечного скитальца, но хотя бы ради Орианы он не должен был так поступать, он должен был громогласно отречься от евреев и от сторонников осужденного. Да, помня о дружеских чувствах, какие питала к нему моя жена, – продолжал герцог, по-видимому, считавший, что, обвиняя Дрейфуса в государственной измене, как бы он к нему ни относился в глубине души, он словно бы выражает благодарность за прием, оказываемый ему в Сен-Жерменском предместье, – он должен был отмежеваться. Ведь, – спросите Ориану, – она действительно была с ним дружна.
Герцогиня, решив, что простодушие и спокойствие сообщат ее словам большую искренность и драматичность, произнесла наивным тоном школьницы, как бы желая, чтобы правда сказалась сама собой, и только глазам она придала чуть-чуть печальное выражение:
– Да, это верно, я не скрываю, что была искренне привязана к Шарлю!
– Ну что? Я же ее за язык не тянул. Только такой неблагодарный человек, как он, мог стать дрейфусаром!
– Кстати о дрейфусарах, – вставил я, – я слышал, что принц Вон тоже дрейфусар.
– Как хорошо, что вы о нем заговорили! – воскликнул герцог Германтский. – Я чуть не забыл, что он пригласил меня на ужин в понедельник. А дрейфусар он или нет – это мне совершенно безразлично, поскольку он иностранец. Плевать мне на это с высокого дерева. С французами дело обстоит иначе. Сван, правда, еврей. Но до сих пор – простите меня, Фробервиль, – я по своему легкомыслию думал, что еврей может быть французом: я имею в виду еврея уважаемого, человека светского. И Сван мне казался именно таким – в полном смысле слова. Ну что ж! Значит, я в нем ошибался, раз он заступается за Дрейфуса (а между тем этот самый Дрейфус, виновен он или нет, совсем не из его круга, Сван ни за что бы не стал с ним встречаться), идет наперекор обществу, которое открыло перед ним двери, которое считало его своим. Да что там говорить! Мы все ручались за Свана, я был уверен в его патриотизме, как в своем собственном. Да, вот как он нас отблагодарил! Признаюсь, я от него этого не ожидал. Я был о нем лучшего мнения. Он человек умный – правда, ум у него своеобразный. Я же знаю, что он имел глупость вступить в позорный брак. А знаете ли, кого женитьба Свана очень расстроила? Мою жену. Ориана часто, я бы сказал, напускает на себя бесчувственность. В действительности она все принимает близко к сердцу.
Этот анализ характера герцогини Германтской доставлял ей большое удовольствие, но слушала она герцога с видом скромным и не произнесла ни слова: ей было неловко поддакивать ему, а главное – она боялась прервать его. Герцог Германтский способен был целый час разглагольствовать на эту тему, а внимавшая ему герцогиня – оставаться еще неподвижней, чем когда она слушала музыку. «Так вот, я помню, что, когда она узнала о женитьбе Свана, она восприняла это как личное оскорбление; она считала, что те, кто получил от нас столько тепла, так не поступают. Она очень любила Свана; она была очень огорчена. Ведь правда, Ориана?» Герцогиня Германтская сочла нужным ответить на прямо поставленный вопрос – таким образом она как бы неумышленно давала понять, что принимает похвалы мужа, а намекнуть на это следовало именно сейчас, перед тем как он перестанет ее хвалить. С застенчивым и простодушным видом, заученно «прочувствованным» тоном, в котором должна была звучать сдерживаемая нежность, она подтвердила:
«Да, так оно и было, Базен прав». – «И это еще не все. Любовь есть любовь, тут уж ничего не поделаешь, хотя, по-моему, и любовь не должна переходить известные границы. Я бы это еще мог простить юнцу, сопляку, в голове у которого всякие фантазии. Но Сван, человек здравомыслящий, тонко чувствующий живопись, друг-приятель герцога Шартрского, самого Жильбера!» В тоне герцога Германтского слышалась глубокая симпатия без малейшей примеси пошлости, которая была для него столь характерна. Он говорил с грустью, подернутой негодованием, вместе с тем от него веяло мягкой внушительностью, в которой заключено благодушное и щедрое обаяние иных созданий Рембрандта – например, бургомистра Сикса. Чувствовалось, что вопрос о безнравственности отношения Свана к делу Дрейфуса у герцога даже и не возникал, настолько она была для него очевидна, – безнравственность Свана огорчала его, как может огорчать отца семейства то, что один из его сыновей, ради которого он пошел на огромные жертвы, чтобы дать ему образование, собственными руками разрушает созданное для него блестящее положение и своими проказами, которых не допускают принципы или предрассудки его семьи, бесчестит свое доброе имя. Надо заметить, что когда герцог Германтский узнал, что Сен-Лу – дрейфусар, то он не был так глубоко и так неприятно удивлен. Но, во-первых, он привык смотреть на своего племянника как на юношу, сбившегося с пути, юношу, который, пока не исправится, уже ничем его не удивит, а Сван, как отзывался о нем сам же герцог Германтский, был «человек уравновешенный, человек, принадлежащий к цвету общества». Самое главное, с начала дела Дрейфуса прошло довольно много времени, в течение которого, хотя с точки зрения исторической события как будто бы доказали правоту дрейфусаров, нападки антидрейфусарской оппозиции стали еще ожесточеннее, и из чисто политической оппозиция превратилась в социальную. Теперь уже речь шла о милитаризме, о патриотизме, и волны гнева, поднявшиеся в обществе, приобрели такую силу, какой не обладают волны, когда буря только еще начинается. «Понимаете ли, – продолжал герцог Германтский, – даже с точки зрения дорогих его сердцу евреев, раз уж у него такая охота за них заступаться, Сван допустил промах, последствия которого неисчислимы. Он доказал, что евреи тайно связаны между собой и почитают за должное оказывать поддержку своему единоплеменнику, хотя бы даже они ничего о нем не знали. Это опасно для общества. Мы были чересчур мягкотелы, – теперь это ясно, – а бестактность Свана наделает тем больше шуму, что к Свану относились с уважением, его даже принимали в хороших домах: ведь он был почти единственный еврей, с которым мы были знакомы. А теперь станут говорить: Ab uno disce omnes»[8]. (И только удовлетворение при мысли о том, что он как раз кстати извлек из памяти подходящее изречение, озарило горделивой улыбкой печаль обманутого барина.)
Мне очень хотелось узнать, что именно произошло между Сваном и принцем, и повидаться со Сваном, если он еще не ушел. «Должна сознаться, – заметила герцогиня, от которой я этого не утаил, что я не жажду видеть его: когда я была у маркизы де Сент-Эверт, мне передали, будто он желает, чтобы я познакомилась с его женой и дочерью, пока он еще жив. Боже мой, мне его бесконечно жаль, но прежде всего я не думаю, чтобы его болезнь была уж так серьезна. А потом, в конце концов, это еще не причина, иначе все было бы очень просто. Бездарному писателю стоило бы только сказать: „Голосуйте в Академии за меня, потому что моя жена при смерти и мне хочется доставить ей эту последнюю радость“. Если бы пришлось знакомиться со всеми умирающими, то закрылись бы салоны. Мой кучер мог бы ко мне пристать: „Моя дочь тяжело больна – попросите герцогиню Пармскую, чтобы она меня приняла“. Я обожаю Шарля, мне было бы очень трудно ему отказать, и я избегаю с ним встречи, чтобы он не мог обратиться ко мне со своей просьбой. Я твердо надеюсь на то, что он выживет, хотя сам он уверен в обратном, но, право же, если б этому и суждено было случиться, сейчас время для меня не подходящее для того, чтобы знакомиться с двумя женщинами, из-за которых я на целых пятнадцать лет лишилась моего самого близкого друга и которых он оставил бы мне вместо себя, как раз когда я не могла бы уже воспользоваться этим знакомством, чтобы видеться с Шарлем, раз его не было бы в живых!»
Между тем граф де Бресте все никак не мог пережить обиду, которую причинил ему полковник де Фробервиль, опровергнувший его версию.
– Я, дорогой друг, не сомневаюсь, – заговорил он, – что вы точно передали все, что вам сообщили, но мой источник – самый что ни на есть достоверный. Мне об этом рассказывал принц де ла Тур д'Овернь.
– Мне странно, – перебил его герцог Германтский, – что такой ученый, как вы, все еще величает его принцем де ла Тур д'Овернь, – вы же знаете, что никакой он не принц. Остался только один представитель этого рода. Это дядя Орианы, герцог Бульонский.
– Брат маркизы де Вильпаризи? – вспомнив, что она – урожденная герцогиня Бульонская, спросил я.
– Так точно. Ориана! Герцогиня де Ламбрезак с вами здоровается.
В самом деле, по временам было видно, как вдруг падучей звездой промелькнет слабая улыбка, которой герцогиня де Ламбрезак улыбалась кому-нибудь из знакомых. Но эта улыбка, вместо того чтобы сложиться во что-то определенное, действенное, в язык безмолвный, но понятный, почти тотчас же растворялась в каком-то неземном восторге, ничего перед собой не видевшем, а в это время ее голова блаженно и благословляюще склонялась, точно голова слегка расслабленного прелата, склоняющаяся над толпой причастников. В герцогине де Ламбрезак никакой расслабленности не наблюдалось. Но мне была знакома эта разновидность старомодной учтивости. В Комбре и в Париже все приятельницы моей бабушки имели обыкновение здороваться в обществе, устремляя на знакомых столь серафический взгляд, как будто они встретились с ними в церкви, во время возношения даров, или на похоронах, когда их приветственный шелест тотчас переходит в молитвенный. То, что мне сказал герцог Германтский, подтвердило верность моего сравнения. «Вы же видели герцога Бульонского, – обратился ко мне герцог Германтский. – Он выходил из моего кабинета, как раз когда вы входили, – господин маленького роста, совершенно седой». Это был тот, кого я принял за комбрейского обывателя, – теперь, когда я припомнил мою встречу с ним, его сходство с маркизой де Вильпаризи стало для меня несомненным. Одинаковость мгновенных поклонов герцогини де Ламбрезак и поклонов приятельниц моей бабушки заинтересовала меня – она свидетельствовала о том, что в замкнутых, узких кругах, будь то мещанство или знать, старинные манеры не исчезают, и мы, как археологи, по ним угадываем, каковы были в эпоху виконта д'Арленкура и Луизы Пюже воспитание и просвечивающие в нем душевные качества людей. Полное внешнее сходство между комбрейским обывателем и его ровесником герцогом Бульонским окончательно убедило меня теперь (я был поражен этим, еще когда увидел деда Сен-Лу по материнской линии, герцога де Ларошфуко, на дагерротипе: все у него было общее с моим двоюродным дедом – одежда, выражение лица, осанка), что различия социальные и даже индивидуальные на таком далеком расстоянии теряются в единообразии эпохи. Дело в том, что схожесть одежд и дух времени, отражающийся на лице, гораздо важнее, чем кастовая принадлежность человека, которая имеет значение только для его самолюбия, которая имеет значение только в воображении людей, так что для того, чтобы удостовериться, что вельможа времен Луи-Филиппа меньше отличается от своего современника – мещанина, чем от вельможи времен Людовика XV, нам незачем обходить галереи Лувра.
В эту минуту с Орианой поздоровался длинноволосый баварский музыкант, которому покровительствовала принцесса Германтская. Ориана поклонилась ему, а герцог, в бешенстве от того, что его жена здоровается с незнакомым ему человеком, у которого странная внешность и, как полагал герцог, очень скверная репутация, посмотрел на жену вопрошающе– грозно, будто хотел сказать: «Это еще что за пещерный человек?» Для бедной герцогини Германтской положение создалось критическое, и если бы в душе у музыканта нашлась хоть капля жалости к супруге-страдалице, он бы удалился немедленно. Но то ли он был не в силах стерпеть оскорбление, нанесенное ему публично, при его старинных друзьях из круга герцога, присутствие которых отчасти, быть может, оправдывало его молчаливый поклон, и ему хотелось показать, что он имел право поздороваться с герцогиней Германтской как со своей знакомой, то ли он находился под неосознанным и необоримым влиянием своего промаха, который понуждал его – именно тогда, когда следовало бы довериться разуму – соблюсти все правила светского обхождения, но только музыкант еще ближе подошел к герцогине Германтской и сказал: «Ваша светлость! Я хочу просить вас оказать мне честь – представить меня герцогу». Герцогиня Германтская была в полном отчаянии. Но в конце концов, хотя герцог ей изменял, все-таки она была герцогиня Германтская, и ни у кого не должно было возникать подозрений, что у нее отнято право представлять мужу своих знакомых. «Базен! – сказала она. – Позвольте вам представить господина д'Эрвека».
– Я вас не спрашиваю, будете ли вы завтра у маркизы де Сент-Эверт, – чтобы рассеять неприятное впечатление, произведенное неуместной просьбой д'Эрвека, заговорил с герцогиней Германтской полковник де Фробервиль. – Там будет весь Париж.
Между тем, единым движением и всем телом повернувшись к нескромному музыканту и став к нему лицом, герцог Германтский, величественный, безмолвный, разгневанный, похожий на мечущего громы Юпитера, несколько секунд сохранял неподвижность, сверкая глазами, полными яростного удивления, со встопорщившимися волосами, точно вздыбившимися над кратером. Затем, словно под действием силы, принуждавшей его во что бы то ни стало оказать просимую любезность, всем своим устрашающим видом как бы призывая в свидетели присутствовавших, что он не знает баварского музыканта, заложив за спину руки в белых перчатках, он подался вперед и поклонился музыканту так низко, так внезапно, так стремительно, в этом его поклоне было столько изумления и столько злобы, что музыкант задрожал и, раскланиваясь, начал пятиться назад, чтобы не получить страшного удара головой в живот.
– А меня не будет в Париже, – ответила полковнику де Фробервилю герцогиня. – Должна вам сказать (хотя мне и стыдно в этом признаваться), что я столько лет прожила на свете и так и не удосужилась посмотреть витражи в Монфор-л'Амори. Это позор, но это факт. И вот, чтобы меня нельзя уже было упрекнуть в преступном невежестве, я дала себе слово завтра туда съездить.
Граф де Бресте лукаво усмехнулся. Он, конечно, понял, что если уж герцогиня до сих пор не видела витражей в Монфор-л'Амори, то в этой поездке с эстетическими целями не могло быть никакой срочности и спешности, что она не была решена «сгоряча», и раз ее откладывали более двадцати пяти лет, то еще на двадцать четыре часа ее смело можно было отложить. Просто-напросто герцогиня задумала издать в излюбленной Германтами форме указ, объявляющий салон Сент-Эверт домом, где порядочным людям не место, что вас туда приглашают, чтобы потом украсить вашим именем отчет в «Голуа», что это дом, накладывающий печать высшего благородства на тех или, по крайней мере, на ту, – если она окажется в одиночестве, – кого там не будет. Для графа это была легкая забава с примесью поэтического наслаждения, испытываемого светскими людьми при виде того, как герцогиня Германтская совершает поступки, на которые они не могли решиться в силу занимаемого ими более низкого положения, но которые вызывали на их лицах улыбку привязанного к своей ниве землепашца, следящего за тем, как где-то там, вверху, проходят люди, свободные и счастливые, однако утонченное наслаждение, написанное на лице графа де Бресте, не имело ничего общего с безумным восторгом, мгновенно охватившим де Фробервиля, хотя он и пытался его сдержать.
От усилий, которые затрачивал де Фробервиль, чтобы не было слышно, что он смеется, он покраснел как рак, и все-таки, перебивая свою речь икотой сдавливаемого хохота, он не мог не проговорить участливо: «Бедная тетушка Сент-Эверт! Она сляжет! Ах, несчастная женщина – она не увидит герцогиню! Какой удар! Это может свести ее в гроб!» – добавил он, корчась от смеха. Он был в таком упоении, что даже притоптывал ногой и потирал руки. Одним глазом и углом рта улыбнувшись де Фробервилю, герцогиня Германтская, благодарная ему за желание угодить ей, но не вынесшая смертельной скуки, какую он навевал, в конце концов решила его покинуть. «Вы знаете, мне придется с вами проститься, – сказала она, вставая со смиренно-печальным видом, как будто ей тяжело было от него уходить. Ласковый, музыкальный голос герцогини звучал так, словно вам слышались жалобы какой-нибудь волшебницы, а ее колдовские голубые глаза усиливали это впечатление. – Базену хочется, чтобы я поговорила с Мари».
На самом деле ей надоел Фробервиль, который все твердил, как он завидует ей, что она едет в Монфор л'Амори, хотя она прекрасно знала, что он первый раз в жизни слышит о его витражах и что он ни за что на свете не пропустил бы прием у Сент-Эверт. «Всего хорошего! Мы ведь с вами только-только разговорились, так устроена жизнь: люди друг с другом не видятся, не говорят того, что хотят, это общее явление. Одна надежда, что на том свете условия будут лучше. Во всяком случае, не надо будет всегда ходить с открытой шеей. А впрочем, почем мы знаем? Может, еще придется по большим праздникам выставлять напоказ свои кости и своих червей? А собственно, почему бы нет? Вот, поглядите на бабусю Рампильон – такая ли уж большая разница между ней и скелетом в открытом платье? Впрочем, для нее закон уже не писан – ведь ей по меньшей мере сто лет. Когда я еще только начинала выезжать, у нее уже была такая богомерзкая рожа, что я не могла заставить себя с ней поздороваться. Я думала, что она давно умерла; если б я была права, тогда было бы оправдано то зрелище, какое она сейчас нам устраивает. В этом есть что-то потрясающее, что-то погребальное. Как будто мы на Кампо-Санто!» Герцогиня отошла от Фробервиля; он догнал ее:
– Мне нужно вам сказать всего два слова.
– Что такое? – взглянув на него свысока, с легким раздражением в голосе спросила она.
Фробервиль боялся, как бы она в последнюю минуту не отказалась от Монфор л'Амори:
– Я сперва не осмеливался вам об этом сообщить, потому что боялся огорчить маркизу де Сент-Эверт, но раз вы все равно к ней не поедете, то теперь я могу сказать, что очень рад за вас: ведь у нее в доме корь!
– Ах ты Господи! – воскликнула Ориана – она боялась болезней. – Впрочем, мне это не страшно – я переболела корью. А два раза ею не болеют.
– Так уверяют врачи, а я знаю людей, которые болели корью четыре раза. Словом, мое дело – предупредить.
А сам де Фробервиль пропустил бы увеселение у Сент-Эверт, которого он столько времени ждал, лишь в том случае, если б он сам действительно был болен этой придуманной корью и лежал в постели. Ведь ему предстояло удовольствие попасть в такое блистательное общество! И еще большее удовольствие – подмечать промахи, а главное – получить возможность еще долго хвастаться тем, кого из звезд он там видел, и сокрушаться о допущенных ими промахах, которые он подчеркивал бы или сочинял.
Когда герцогиня ушла от де Фробервиля, я тоже встал и решил зайти в курительную, чтобы там навести справки о Сване. «Не верьте ни одному слову из того, что рассказывал Бабал, – обратилась ко мне герцогиня. – Ни за что бы маленькая Моле туда не сунулась. Все это говорится для того, чтобы нас залучить. Они никого не принимают и ни от кого не получают приглашений. Он же сам признается: „Мы оба сидим у камелька в полнейшем одиночестве“. Он всегда говорит мы не в том смысле, в каком употребляет его король, а имея в виду и свою жену, так что в его устах мы меня не коробит. Но мне это точно известно». Тут мы оба столкнулись с двумя молодыми людьми, которые своей ослепительной, но разной красотой были обязаны одной женщине. Это были сыновья маркизы де Сюржи, теперешней любовницы герцога Германтского. Совершенства матери сияли и у того и у другого, но у каждого – особые. Одному передалась, волнообразная и в теле мужчины, царственность маркизы де Сюржи, и та же золотистая, жаркая, аскетическая бледность покрывала мраморные щеки матери и этого сына; а его брату достались греческий лоб, правильный нос, скульптурная шея, бездонные глаза; состоявшая из различных даров, которые распределила между ними богиня, двуединая их красота доставляла наслаждение уму, ибо она наводила на мысль, что первооснова этой красоты находится вне их; можно было подумать, что основные черты матери нашли себе воплощение в двух разных телах, что один сын взял себе осанку матери и цвет ее лица, а другой – взгляд: так к Марсу перешла мощь, а к Венере – красота Юпитера. Преисполненный почтения к герцогу Германтскому, о котором оба говорили: «Это большой друг наших родителей», старший сын, однако, счел за благо не поклониться герцогине, так как знал, что она питает к его матери враждебные чувства, хотя, быть может, и не догадывался, что тому причиной: увидев нас, он чуть-чуть отвел голову в бок. Младший брат был глуп, да вдобавок еще и близорук, а потому, не решаясь иметь свое мнение, во всем подражал старшему, и теперь он под тем же углом повернул голову, и оба, один за другим, как две аллегорические фигуры, проскользнули в игорную залу.
Когда я подошел к этой зале, меня остановила маркиза де Ситри, все еще красивая, но сейчас – едва ли не с пеной у рта. Происходила она из довольно знатного рода, ей хотелось сделать блестящую партию, и ей это удалось: она вышла замуж за маркиза де Ситри, прабабушка которого была Омаль-Лорен. Но как только она получила от этого удовлетворение, ее всеотрицающая натура почувствовала отвращение к людям из высшего света, что не мешало ей вести жизнь отчасти светскую. На каком-нибудь вечере она глумилась решительно над всеми, глумилась столь беспощадно, что такому глумлению просто злобный смех не соответствовал бы, и оттого он переходил у нее в хриплый свист. «Какова? – сказала она мне, указывая на герцогиню Германтскую, только что со мной расставшуюся и уже успевшую отойти на довольно значительное расстояние. – Меня поражает: как она может вести такую жизнь!» Кем были сказаны эти слова? Возмущенной святой, дивящейся тому, что язычники не сами приходят к истине, или анархистом, жаждущим резни? Во всяком случае, это было и неубедительно, и необоснованно. Прежде всего «жизнь, которую вела» герцогиня Германтская, очень немногим отличалась (если не считать презрения к ней) от той, какую вела маркиза де Ситри. Маркиза де Ситри недоумевала, как могла герцогиня пойти на такую страшную жертву – быть на вечере у Мари-Жильбер. Надо заметить, что маркиза де Ситри очень любила принцессу, действительно чудную женщину, и она знала, что, приехав к принцессе на вечер, она доставит ей большое удовольствие. Она даже отменила, чтобы попасть на это увеселение, визит танцовщицы, которую она считала талантливой и которая должна была посвятить ее в тайну русской хореографии. Еще снижало убедительность в сгустке ярости, какая пробуждалась у маркизы де Ситри при виде здоровающейся с гостями Орианы, то, что у герцогини Германтской наблюдались симптомы той же болезни – правда, не в такой сильной форме, – что и у маркизы де Ситри. Мы уже знаем, что у герцогини болезнь эта была врожденная. И наконец, герцогиня Германтская была умнее маркизы де Ситри и, в сущности, у нее было больше прав на такого рода нигилизм (не шедший дальше нигилизма светского), но дело в том, что благодаря иным достоинствам, какими обладает человек, он легко переносит недостатки ближнего, он не так страдает от них; очень одаренный человек обычно меньше обращает внимания на чужую глупость, чем глупец. Мы подробно описывали склад ума герцогини – и удостоверились, что хотя он ничего общего не имел с высоко развитым интеллектом, но все-таки это был ум, ум, искусно пользовавшийся (подобно переводчику) различными синтаксическими приемами. А вот маркиза де Ситри, видимо, не обладала ни одним из этих качеств, и ничто не давало ей права презирать в других то, что было в высшей степени присуще ей самой. Она всех считала идиотами, но из ее высказываний, равно как и из ее писем, явствовало, что она, пожалуй, ниже тех, о ком отзывалась с таким пренебрежением. Вообще маркиза де Ситри так жаждала разрушения, что, после того как она постепенно удалилась от света, другие развлечения, которые ей заменили его, испытали на себе, одно за другим, ее необоримую разлагающую силу. Перестав посещать музыкальные вечера, она говорила: «Вы уверяете, что любите музыку? Ах, Боже мой, ведь это как когда! Но до чего же это бывает нудно! Ваш Бетховен – такая скучища!» Если речь заходила о Вагнере, потом о Франке, о Дебюсси, то она даже не восклицала: «Скучища!», а просто корчила гримасу скуки. Скоро ей приелось все. «Красивые вещи – как это скучно! При виде картин можно с ума сойти от тоски… Вы правы: писать письма – это такая тощища!» Наконец она объявила нам, что вся жизнь – «тоска зеленая», и нам так и не удалось выяснить, откуда она почерпнула это выражение.
Не знаю, может быть, еще когда я в первый раз ужинал у герцогини Германтской, у меня под влиянием ее рассказа создалось определенное впечатление от игорной или курительной с ее узорчатым паркетом, треножниками, фигурами божеств и животных, смотревших на вас, сфинксами, вытянувшимися на подлокотниках кресел, а главное – с ее громадным мраморным столом, украшенным мозаикой из эмали и символическими знаками, в которых чувствовалось подражание этрусскому и египетскому искусству, но только эта комната показалась мне сейчас поистине волшебной. Например, де Шарлю, сидевший в кресле, придвинутом к блестящему авгурскому столу, и не притрагивавшийся к картам, безучастный к тому, что происходило вокруг, и не заметивший, что я вошел, напоминал именно чародея, сосредоточившего всю силу своей воли и разума на составлении гороскопа. Как у пифии на треножнике, глаза у него выкатывались из орбит, а дабы ничто не отвлекало его от трудов, не допускавших самых простых движений, он даже положил около себя сигару, которую только что держал во рту, но которую не стал докуривать, потому что куренье лишало его свободы мышления. При виде двух божеств, вытянувших лапы на подлокотниках кресла, стоявшего напротив него, можно было подумать, что барон силится разрешить загадку сфинкса, но то была скорее загадка юного живого Эдипа, севшего именно в это кресло, чтобы принять участие в игре. И в самом деле: черты, на изучении которых де Шарлю с таким напряжением сосредоточил свои умственные способности и которые, откровенно говоря, были не из тех, что исследуются more geometrico[9], являлись чертами лица юного маркиза де Сюржи; де Шарлю так углубленно изучал их, что казалось, будто перед ним некое слово, начертанное в виде ромба, загадка, алгебраическая задача, и ему не терпится разгадать загадку, вывести формулу. Вещие знаки, фигуры, начертанные перед ним на скрижали Завета, – все это было как бы тайнописью, по которой старый чернокнижник мог определить дальнейшую судьбу юноши. Вдруг, заметив, что я на него смотрю, он, словно проснувшись, поднял голову и, покраснев, улыбнулся мне. В это время другой сын маркизы де Сюржи подошел к тому, который играл, и заглянул в его карты. Когда де Шарлю узнал от меня, что это братья, он не мог скрыть восхищение, которое вызывала в нем семья, создавшая великолепные и такие разные произведения искусства. Барон пришел бы в еще больший восторг, если б узнал, что оба сына маркизы де Сюржи-ле-Дюк – не только от одной матери, но и от одного отца. Дети Юпитера не похожи друг на друга, но это оттого, что прежде он женился на Метиде, которой суждено было произвести на свет благоразумных детей, затем – на Фемиде, потом – на Эвриноме, на Мнемозине, на Лето, последней же его женой была Юнона. А у маркизы де Сюржи от одного мужа родились два сына, и обоих она одарила прекрасными своими чертами, но только каждого из них – различными.
Наконец меня обрадовал своим появлением Сван, но эта комната была такая большая, что сначала он меня не заметил. К моей радости примешивалась грусть – грусть, которой, быть может, не ощущали другие гости: для них она претворялась в некую завороженность неожиданными, особыми признаками близкой смерти – той смерти, которая, как говорит народ, уже написана на лице. И с почти невежливым изумлением, складывавшимся из нескромного любопытства, из жестокости, из мыслей о себе, в которых тревога уживалась с умиротворенностью (сочетавших в себе и snave mare magno[10] и memento quia piflvis[11], как сказал бы Робер), все остановили взгляд на этом лице, на щеках, которые напоминали луну на ущербе – так их изглодала болезнь, и только под одним углом – по всей вероятности, под тем самым, под каким Сван смотрел на себя в зеркало, – они круто не обрывались: так обман зрения придает устойчивость шаткой декорации. То ли потому, что щеки у Свана впали, отчего лицо его стало меньше, то ли из-за атеросклероза, который ведь тоже есть не что иное, как отравление организма, от которого лицо Свана стало красным, как у пьяницы, и который изуродовал его, как уродуются лица под действием морфина, но только нос Свана – нос Полишинеля, – в течение долгого времени остававшийся незаметным на привлекательном лице, теперь казался огромным, распухшим, багровым, – такой нос скорее может быть у старого иудея, чем у любопытного Валуа. Впрочем, пожалуй, за последнее время на лице Свана особенно отчетливо проступили характерные внешние черты его расы, между тем как в его душе росло чувство нравственной солидарности с другими евреями – солидарности, о которой Сван всю свою жизнь как будто бы забывал и которую, наслаиваясь одно на другое, пробудили в нем смертельная болезнь, дело Дрейфуса и антисемитская пропаганда. Некоторые иудеи, люди, надо сознаться, очень тонкие, изысканно светские, держат в себе про запас, прячут за кулисами для того, чтобы, как на спектакле, в нужный момент выпустить на сцену или хама, или пророка. Сван приближался к возрасту пророка. Конечно, поскольку в его лице под влиянием болезни исчезли целые сегменты, точно в глыбе тающего льда, от которой отваливаются целые куски, он очень изменился. Но меня особенно поражало, как сильно изменился он в моих глазах. Я не мог уяснить себе, почему в былое время я овевал этого милейшего человека, человека большой культуры, с которым мне и сейчас было отрадно встретиться, такой жутью таинственности, что стоило мне завидеть его на Елисейских полях, как у меня начинало колотиться сердце; такой жутью, что я стеснялся подойти поближе к его пелерине с шелковой подкладкой; такой жутью, что у дверей дома, где обитало это таинственное существо, я с трепетом и безумным страхом нажимал кнопку звонка: все это теперь улетучилось не только из его жилища, но и из его личности, – вот отчего мысль о разговоре с ним могла быть мне приятна или неприятна, но на моей нервной системе она не отражалась.
Изменился он даже за сегодняшний день, с того времени, когда мы с ним встретились – каких-нибудь несколько часов назад – в кабинете герцога Германтского. Может быть, у него в самом деле произошел крупный разговор с принцем и этот разговор взволновал его? Я напрасно ломал себе голову. Малейшее усилие, которое требуется от тяжело больного, мгновенно доводит его до полного изнеможения. Стоит ему, уже уставшему, погрузиться в духоту званого вечера – и вот уже лицо его искажается и синеет: так меньше чем за день портится груша, так быстро прокисает молоко. Вдобавок волосы Свана местами поредели и, как выражалась герцогиня Германтская, нуждались в услугах скорняка; казалось, будто они пропитаны – и притом неудачно – камфарой. Я только было собрался пройти через всю курительную и заговорить со Сваном, как вдруг, к несчастью, чья-то рука легла мне на плечо:
– Здравствуйте, мой милый! Я пробуду в Париже два дня. Я проехал прямо к тебе, мне сказали, что ты здесь, – следовательно, моя тетка обязана моим присутствием на ее вечере тебе.
Это был Сен-Лу. Я ему сказал, что в восторге от этого дома.
– Да, это не дом, а музей. Но только, по-моему, это невыносимо скучно. Подальше от дяди Паламеда, а то он к нам привяжется! Графиня Моле (ведь сейчас он носится с ней) уехала, и он совсем как потерянный. Говорят, это был целый спектакль: он не отходил от нее ни на шаг, пока не усадил в карету. Я за это на дядю не в претензии, но мне смешно, что семейный совет, который ко мне так строг, состоит главным образом из родственников, которые повесничали больше всех, начиная с главного распутника, дяди Шарлю, моего второго опекуна, – женщин у него было столько же, сколько у Дон Жуана, и он все еще не угомонился. Одно время надо мной собирались учредить официальную опеку. Когда все эти старые греховодники собирались для обсуждения вопроса и вызывали меня, чтобы отчитать и пожурить за то, что я огорчаю свою мать, они, наверно, не могли смотреть друг на друга без смеха. Если ты поинтересуешься, из кого состоял совет, то невольно подумаешь, что он был нарочно подобран из тех, которые больше, чем кто-либо, не давали спуску женскому полу.
Если оставить в стороне де Шарлю, поведение которого, по-моему, напрасно удивляло моего друга, то по ряду причин, на которые, однако, я потом стал смотреть по-другому, Робер был глубоко не прав, возмущаясь тем, что уроки хорошего поведения преподают молодому человеку родственники, которые сами прежде дурачились и продолжают дурачиться по сей день.
Дело далеко не только в атавизме, в наследственности, по законам которой у дяди, имеющего поручение распушить племянника, неизбежно обнаруживаются общие с распекаемым недостатки. Между прочим, дядя в данном случае не кривит душой: его ввела в заблуждение истинно человеческая черта – при всех обстоятельствах считать, что «это совсем не то», черта, из-за которой люди допускают ошибки в своих суждениях об искусстве, о политике и т. д. и не замечают, что теперь они хвалят новую школу живописи за то, что десять лет назад представлялось им недопустимым, не замечают, что теперь они уже не так смотрят на политику, в прежние времена вызывавшую их резкое осуждение, не замечают, что они, как будто бы уже свободные от былых заблуждений, вновь в них впадают, потому что заблуждения предстают перед людьми в новом обличье и те не узнают их. Впрочем, наследственность играет известную роль, даже если грехи у дяди не такие, как у племянника; следствие не всегда бывает похоже на причину, как копия – на оригинал. И если за дядей водятся более тяжкие грехи, он смело может считать их грехами сравнительно мелкими.
Выражая свое негодование Роберу, который, между прочим, понятия не имел о том, каковы истинные пристрастия дяди, тем более если это было во времена, когда дядя осуждал подобного рода пристрастия, де Шарлю мог быть вполне искренен, полагая, с точки зрения светского человека, что Робер неизмеримо грешнее его. Разве когда дяде было поручено наставить Робера на путь истинный, Робер не рисковал очутиться вне своего круга, разве над ним не висела угроза быть забаллотированным в члены Джокей-клоба, разве он не представлял собою мишень для насмешек, оттого что не жалел никаких денег на женщину самого низкого пошиба, знался с такими людьми – писателями, актерами, евреями, – которые не принадлежали к светскому кругу, высказывал взгляды, в которых сходился с предателями, мучил своих близких? Чем этот постыдный образ жизни походил на образ жизни де Шарлю, который ухитрился не просто сохранить, но и поднять свое значение – значение представителя рода Германтов – до такой степени, что находился теперь на совершенно особом положении, что знакомства с ним домогались, что перед ним заискивали в самом изысканном обществе, что, женившись на принцессе Бурбонской, женщине замечательной, он сумел составить ее счастье, а после ее кончины чтил ее память благоговейнее и ревностнее, чем это даже принято в свете, и тем доказал, что он не только хороший сын, но и хороший муж?
– А ты уверен, что у де Шарлю было так много любовниц? – спросил я, конечно, не с демонической целью открыть Роберу тайну, в которую я проник, а потому, что меня раздражала уверенность и самонадеянность, с какой Робер приписывал де Шарлю то, в чем он был неповинен. В ответ на мое возражение, с его точки зрения – наивное, Робер пожал плечами: «Да я его вовсе не осуждаю; на мой взгляд, он поступает совершенно правильно». И тут он начал развивать теорию, которой сам бы ужаснулся в Бальбеке (там он утверждал, что заклеймить соблазнителя недостаточно, что единственно справедливая мера наказания за такое преступление – смертная казнь). Тогда он был еще влюблен и ревнив. А сейчас договорился до того, что в веселых домах есть своя хорошая сторона: «Только там и найдешь обувь по ноге – то, что у нас в полку мы называем габаритом». К подобного рода заведениям он уже не испытывал того чувства гадливости, какое охватило его в Бальбеке, когда я о них заговорил; сейчас, выслушав его мнение, я признался, что Блок меня с ними познакомил, но Робер сказал мне в ответ, что дом, куда водил меня Блок, наверно, «что-нибудь очень паскудное, рай бедняка». «А впрочем, все зависит от обстоятельств. Где это?» Я ответил уклончиво – я тут же вспомнил, что именно там отдавалась за луидор Рахиль, которую так любил Робер. «Как бы то ни было, я покажу тебе кое-что сортом куда выше – там ты увидишь умопомрачительных женщин». Я попросил Робера как можно скорее сводить меня в какой-нибудь из знакомых ему домов, которые безусловно должны были быть намного лучше того, куда мы ходили с Блоком, но Робер сказал, что, как это ему ни печально, на сей раз он не может исполнить мое желание, потому что завтра уезжает обратно. «До следующего моего приезда, – объявил Робер. – Вот ты увидишь: там есть даже молоденькие девушки, – продолжал он с таинственным видом. – Там есть барышня, мадемуазель де… кажется, д'Оржвиль, ручаюсь: ее родители – люди весьма почтенные; мать чуть что не урожденная Ла Круа-л'Эвек; это – сливки общества; если не ошибаюсь, дальние родственники моей тетушки Орианы. Да стоит хотя бы мельком взглянуть на девочку, чтобы понять, что это дочь людей порядочных! (Тут я почувствовал, что по голосу Робера прошла тень духа Германтов, – так на большой высоте, не останавливаясь, проплывает облако.) Это что-то потрясающее. Родители вечно больны и ею не занимаются. Ну, понятно, девочке хочется повеселиться, – надеюсь, ты сумеешь развлечь малютку». – «Когда же ты теперь приедешь?» – «Не знаю; если тебе не обязательно нужны герцогини (титул герцогини в аристократической среде означал принадлежность к самому высокому рангу, как для народа – титул принцессы), то – совсем в другом роде – могу предложить твоему вниманию камеристку баронессы Пютбю».
В игорную вошла разыскивавшая сыновей маркиза де Сюржи. Увидев ее, де Шарлю пошел к ней навстречу с радостной улыбкой, тем более приятно поразившей маркизу, что она ожидала крайней холодности от барона, который во всех случаях принимал сторону Орианы и, один во всей семье, чересчур снисходительной к прихотям герцога – снисходительной в чаянии получить от него наследство и из ревности к герцогине, – неумолимо держался на почтительном расстоянии от возлюбленных своего брата. Словом, маркиза де Сюржи отлично поняла бы, почему де Шарлю проявляет по отношению к ней сухость – именно этого она и опасалась, – но ей было невдомек, почему он так рад ее видеть. Он с большой похвалой отозвался о портрете, который некогда писал с нее Жаке. Его восхищение переросло в восторг, и этот восторг, если имел корыстную цель – загородить маркизе дорогу, «взять ее в обжим», как выражался Робер, подразумевая под этим стремление задержать силы неприятеля на определенном месте, тем не менее был искренен. Ведь если другие любовались в сыновьях царственной осанкой и глазами маркизы де Сюржи, то барон мог испытывать наслаждение противоположное, однако не менее сильное при виде совмещения красивых этих черт в матери, как на портрете, который непосредственно не вызывает желаний, но подогревает эстетическим наслаждением желания, возникшие благодаря ему. Эти желания ретроспективно придавали сладострастную прелесть портрету Жаке, и сейчас барон с удовольствием приобрел бы его, чтобы по нему изучать физиологическую генеалогию двух братьев Сюржи.
– Ты же видишь: я не преувеличиваю, – заметил Робер. – Погляди, как мой дядюшка расстилается перед маркизой де Сюржи. И в данном случае меня это удивляет. Если б Ориана про это узнала, она пришла бы в неистовство. Если уж на то пошло, мало, что ли, на свете баб? Почему надо набрасываться именно на эту? – добавил он; как все, кто не влюблен, он воображал, что любимого человека выбирают после долгих раздумий, приняв во внимание те или иные его свойства, выбирают по разным соображениям. Ошибочно считая своего дядю женолюбом, Робер, ослепленный гневом, судил о де Шарлю чересчур поверхностно. Для человека не всегда проходит безнаказанно то, что он кому-либо доводится племянником. Очень часто через дядю рано или поздно передается та или иная наследственная черта. Можно было бы собрать целую портретную галерею, взяв для нее название немецкой комедии «Дядя и племянник», и посетители галереи увидели бы, как ревниво, хотя и не отдавая себе в этом отчета, дядя следит за тем, чтобы племянник в конце концов стал на него похож. Скажу больше: галерея была бы неполной, если бы в ней не были представлены дяди, на самом деле не имеющие с племянником никакой родственной связи, потому что они доводятся дядями только женам племянников. Бароны де Шарлю убеждены в том, что таких мужей, как они, не найдешь, что только их жены не имеют оснований ревновать своих мужей, и обычно из хорошего отношения к племяннице по жене они выдают ее замуж за какого-нибудь Шарлю. И это запутывает клубок сходств. Сердечное расположение к племяннице иногда переносится на жениха. Подобного рода браки – не редкость, и часто это такие браки, которые называются счастливыми.
«О чем мы говорили? Ах да, об этой высокой блондинке, камеристке баронессы Пютбю! Она любит и женщин, но тебе, я думаю, это безразлично; говорю тебе, положа руку на сердце: такой красавицы я еще никогда не видал». – «Что-нибудь во вкусе Джорджоне?» – «Да еще какого Джорджоне! Ах, если б я жил в Париже! Как чудно здесь можно было бы проводить время! Надоест – к другой. Потому что любовь – это, понимаешь ли, чепуха, я с ней покончил». Вскоре я с удивлением заметил, что покончил он и с литературой, тогда как от нашей последней встречи я вынес впечатление, что он разочаровался только в литераторах. («Почти все они – шантрапа», – сказал он, и это мнение могло быть объяснено вполне оправданной злобой, какую вызывал в нем кое-кто из дружков Рахили. Им удалось убедить Рахиль, что из нее не выйдет настоящей актрисы, если она не освободится от влияния Робера, «человека другой расы», заодно с ней они издевались над ним во время ужинов, которые он же для них и устраивал.) Но, в сущности, Робер любил литературу не глубоко, эта любовь не коренилась в его натуре – она являлась всего лишь следствием его любви к Рахили и прошла вместе с омерзением к прожигателям жизни и с преклонением перед женской добродетелью.
– Какие странные молодые люди! Посмотрите, маркиза: вот это действительно страстные игроки, – сказал де Шарлю, показывая маркизе де Сюржи на ее сыновей с таким видом, словно он в первый раз их видит. – Должно быть, это восточные люди; в них есть нечто характерное; может быть, это турки, – добавил он, во-первых, для того, чтобы маркиза окончательно уверилась в том, что он якобы их не знает, а во-вторых, для того, чтобы дать ей почувствовать свою легкую антипатию к ним, которая затем, сменившись благожелательностью, доказала бы ей, что он относится к ним благожелательно только как к ее сыновьям и что он переменил к ним свое отношение только после того, как узнал, кто они. Может быть также, де Шарлю, дерзкий от природы и любивший дерзить, хотел воспользоваться минутой, в течение которой он имел право не знать, как зовут этих молодых людей, чтобы потешиться над маркизой де Сюржи и по своему обыкновению подпустить ей шпилек, – так Скапен, пользуясь тем, что его господин вырядился в другой костюм, бьет его палкой по чем попало.
– Это мои сыновья, – пояснила маркиза де Сюржи, покраснев, а между тем, будь она проницательнее, но не доброжелательнее, она бы не покраснела. Она поняла бы, что совершенно равнодушный или насмешливый вид, какой де Шарлю принимал при встрече с молодым человеком, был так же неискренен, как его насквозь фальшивый восторг перед женщинами, не выражавший подлинной его сущности. У той, которую он без конца осыпал самыми изысканными комплиментами, могло бы пробудиться ревнивое чувство, если б она перехватила взгляд, который де Шарлю, разговаривая с ней, бросал на мужчину, хотя он потом и уверял, что не заметил его. Это был не тот взгляд, каким де Шарлю смотрел на женщин; это был особенный взгляд, исходивший из глубин его существа, взгляд, который даже на званом вечере простодушно устремлялся на молодых людей – так взгляд портного изобличает его род занятий, потому что мгновенно приковывается к одежде.
– Ах, как интересно! – нагловато заметил де Шарлю с таким видом, будто его мысль проделала долгий путь, прежде чем привести его к истине, абсолютно не соответствовавшей его предположениям. – А я ведь с ними не знаком, – боясь, что слишком далеко зашел в выражении своей антипатии и отбил у маркизы всякую охоту познакомить его с ними, добавил он. «Вы мне позволите представить их вам?» – робко спросила маркиза де Сюржи. «Боже мой, мне не надо вам объяснять, как я был бы рад, но, быть может, им, таким молодым, будет со мной скучно», – пропел де Шарлю холодно и нерешительно, как будто из него вытягивали учтивые фразы.
– Арнюльф, Виктюрньен, подите сюда! – позвала маркиза де Сюржи. Виктюрньен встал, не колеблясь. Арнюльф – тень своего брата – послушно двинулся за ним.
– Теперь пришла очередь сыновей, – сказал Робер. – Можно умереть со смеху. Он всех старается ублажить, всех – вплоть до собаки хозяина. Он же не выносит сопляков – вот что во всем этом самое уморительное. А ведь ты только посмотри, с каким серьезным лицом он их слушает. Если б познакомить его с ними взбрело в голову мне, он бы меня послал ко всем чертям. Послушай, мне надо пойти поздороваться с Орианой. В Париже я пробуду недолго, вот я и хочу повидать здесь побольше народу, а то иначе придется завозить карточки.
– Как хорошо они воспитаны, какие у них прекрасные манеры! – разливался между тем де Шарлю.
– Вы находите? – спросила польщенная маркиза де Сюржи.
Сван, увидев меня, подошел к нам с Сен-Лу. В еврейском остроумии Свана было меньше тонкости, чем в шутках Свана – светского человека.
– Здравствуйте! – сказал он. – Господи! Все трое в сборе – можно подумать: заседание синдиката. Не хватает еще, чтобы спросили, где касса!
Сван не видел, что за его спиной стоит и слушает его де Босерфей. У генерала непроизвольно сдвинулись брови. Теперь голос де Шарлю был слышен совсем близко от нас. «Так вас зовут Виктюрньен, как героя „Музея древностей“?» – чтобы завязать разговор с молодыми людьми, спросил барон. «Как у Бальзака, да», – ответил старший де Сюржи – он не читал ни одной строчки этого писателя, но учитель несколько дней назад обратил его внимание на то, что у него и у д'Эгриньона имя одно. Маркиза де Сюржи была в восторге, что ее сын блеснул своими познаниями и что на де Шарлю это произвело благоприятное впечатление.
– Говорят, Лубе всецело на нашей стороне, я об этом знаю из достоверного источника, – уже не так громко, чтобы генерал не мог слышать его, сказал Роберу Сван – теперь, когда ничто так не волновало его, как дело Дрейфуса, связи его жены с республиканскими кругами приобрели для него интерес. – Говорю я вам об этом потому, что, насколько мне известно, вы наш верный союзник.
– Ну нет, не совсем; вы глубоко ошибаетесь, – возразил Робер. – Это дело темное, и я очень жалею, что в него ввязался. Нечего мне было лезть. Если бы оно опять началось, я бы, конечно, держался в стороне. Я – солдат, армия для меня прежде всего. Если ты еще побудешь с господином Сваном, то я скоро сюда вернусь – я иду к тетке.
Однако я увидел, что Робер разговаривает с мадемуазель д'Амбрезак, и мне стало обидно при мысли, что он солгал мне относительно их возможной помолвки. Успокоился я, только когда узнал, что Робера всего лишь полчаса назад познакомила с ней виконтесса де Марсант, мечтавшая об этом брачном союзе, потому что Амбрезаки были очень богаты.
– Наконец-то я встретился с образованным молодым человеком, который читал Бальзака, который имеет о нем представление, – обратился барон к маркизе дю Сюржи. – Мне это особенно приятно, потому что встретились мы с ним в таком месте, где это большая редкость; потому что молодой человек – один из мне равных, потому что он – нашего круга, – делая упор на этих словах, добавил он. Хотя Германты и притворялись, будто для них все люди равны, но в торжественных случаях, когда они находились в обществе людей «знатных», а в особенности – не столь уже «знатных», которым они хотели и могли польстить, они, не задумываясь, вытаскивали на свет Божий старинные семейные предания. – В былые времена аристократами называли лучших людей, лучших по их умственным способностям и душевным качествам. А сейчас я впервые вижу среди нас человека, который знает, кто такой Виктюрньен д'Эгриньон. Впрочем, нет, не впервые. Есть же еще Полиньяк и Монтескью, – прибавил де Шарлю – он понимал, что, услышав сравнение с двумя такими именами, маркиза растает. – Ну да ведь вашим сыновьям в смысле образованности было в кого пойти – у их деда по материнской линии была знаменитая коллекция восемнадцатого века. Я покажу вам мою, если вы захотите доставить мне удовольствие как-нибудь позавтракать у меня, – обратился барон к Виктюрньену. – Я покажу вам любопытное издание «Музея древностей» с поправками, сделанными рукой Бальзака. Я буду счастлив устроить у себя свидание двух Виктюрньенов.
Я не мог бросить Свана. Он устал уже до такой степени, когда тело больного представляет собой всего лишь реторту, в которой происходят химические реакции. Его лицо покрылось точечками цвета берлинской лазури, в которых, казалось, нет ничего живого, и пахло от его лица так, как пахнет в школах, в кабинетах «естественных наук», после «опытов», из-за чего там бывает очень неприятно оставаться. Я спросил Свана, не было ли у него долгого разговора с принцем Германтским и если был, то нельзя ли узнать – о чем.
– Да, был, – ответил Сван, – побудьте немного с де Шарлю и с маркизой де Сюржи, а я вас подожду здесь.
Дело в том, что барон предложил маркизе де Сюржи перейти отсюда в другую комнату и там посидеть, потому что здесь было очень жарко, но он обратился с просьбой пойти с ними не к ее сыновьям, а ко мне. Сначала поманив их, теперь он представлялся, что они ему совершенно неинтересны. Мне же он оказывал любезность, для него не трудную, потому что охотников проводить время с маркизой де Сюржи-ле-Дюк здесь набралось бы немного.
К несчастью, только мы расположились в фонаре, как показалась маркиза де Сент-Эверт – мишень для острых словечек барона. Быть может, для того, чтобы притвориться, будто она не замечает неприязни, какую она вызывает у де Шарлю, отчасти для того, чтобы показать, что эта неприязнь ей глубоко безразлична, а главное – чтобы все видели, что она близко знакома с дамой, которая вела с ним непринужденную беседу, маркиза де Сент-Эверт пренебрежительно дружественным тоном приветствовала знаменитую красавицу, а та ответила ей, одним глазком поглядывая на де Шарлю и насмешливо улыбаясь. Но фонарь был очень узкий, так что маркиза де Сент-Эверт, за нашими спинами продолжавшая опрос своих завтрашних гостей, попала в западню, откуда ей было не так просто выбраться, а де Шарлю, который только и ждал, чтобы поизощряться в остроумии перед матерью двух молодых людей, не преминул воспользоваться этим необыкновенно удобным случаем. Праздный вопрос, заданный мною барону без всякого злого умысла, послужил ему поводом для уничтожающей тирады, которую несчастная де Сент-Эверт, почти неподвижно стоявшая за нами, принуждена была выслушать от слова до слова.
– Можете себе представить: этот неделикатный молодой человек осмелился задать мне вопрос, поеду ли я к маркизе де Сент-Эверт. Нет, слуга покорный, я в ее сент-эвертеп не ходок. Уж больно она сент-эвертлява. Правда, послушать ее крайне любопытно. Сколько у нее сохранилось воспоминаний, имеющих историческое значение, сколько впечатлений и переживаний, связанных с эпохой Первой империи и Реставрации, сколько она могла бы рассказать историй из своей личной жизни – наверно, нескромных, если судить по не утратившим до сих пор своей упругости ляжкам этой сент-эвертячки! Но мне эта сент-эвертунья, сент-эвертушка, сент-эвертихвостка не по нутру. Я слишком чистоплотен, чтобы выносить ее дурно пахнущее и в переносном и в буквальном смысле общество. Когда она со мной говорит, прямо хоть зажимай нос. Как будто чистят сент-эвертыгребную яму. Ведь вы же понимаете, что если б я имел несчастье к ней поехать, то выгребная яма превратилась бы в громадную бочку с нечистотами. Имя у нее, однако, мистическое, и оно неизменно наводит меня на веселую мысль, хотя для нее самой пора веселья давно должна бы миновать, – на мысль о стихе, который принято считать «декадентским»:
«Ах, молодо, ах, зелено тогда так было мне!..» Но я люблю зелень почище. Я слышал, что неутомимая бегунья устраивает garden-party , а я назвал бы это прогулками по сточным трубам. Неужели вы к ней поедете? А вы не боитесь запачкаться? – спросил барон маркизу де Сюржи, которой было сейчас не по себе. Ей хотелось утвердить барона в мысли, что она туда не поедет; с другой стороны, она отдавала себе отчет, что за то, чтобы присутствовать на увеселении у Сент-Эверт, она пожертвовала бы несколькими днями своей жизни, а потому предпочла уклониться от прямого ответа, то есть не сказать ни «да», ни «нет». Эту уклончивость она выразила до глупости неумело, ее ответ был шит белыми нитками, так что де Шарлю, не боясь обидеть маркизу де Сюржи, которую он все-таки старался очаровать, расхохотался, давая ей понять, что у нее «ничего не получается».
– Меня всегда удивляют люди, которые строят планы, – сказала она, – я часто отменяю свои решения в последний момент. Все может измениться из-за летнего платья. Я живу минутой.
Я был возмущен омерзительной выходкой де Шарлю. Мне хотелось чем-нибудь осчастливить устроительницу garden-party . Но вот беда: в светском кругу, равно как и в кругах политических, жертвы до того трусливы, что нельзя долго сердиться на палачей. Маркизе де Сент-Эверт все-таки удалось выбраться из фонаря, хотя мы и загораживали ей дорогу, но, проходя мимо нас, она нечаянно толкнула барона и по снобистскому рефлексу, от которого у нее сразу прошла вся злость, а быть может, в надежде завязать разговор, тем более что подобного рода попытки она, вероятно, делала уже неоднократно, воскликнула: «Ах, простите, барон! Надеюсь, я не больно вас толкнула?» – воскликнула таким тоном, словно на коленях вымаливала прощение у своего господина. Вместо ответа, которым барон ее не удостоил, он залился издевательским хохотом, а потом все же соизволил процедить: «Добрый вечер!», но это было еще одно оскорбление для маркизы, поскольку он сделал вид, что заметил ее только после того, как она первая поклонилась ему. Наконец маркиза де Сент-Эверт пошла на крайнее унижение, так что мне стало за нее больно, – она отвела меня в сторону и зашептала мне на ухо: «Ну что я сделала барону де Шарлю? Говорят, он находит, что я для него недостаточно шикарна!» – сказала она и захохотала во все горло. Я даже не улыбнулся. Прежде всего, я считал, что глупо делать вид, будто ты уверена, глупо стараться убедить других, что шикарнее тебя в самом деле нет никого на свете. Притом люди, которые так весело смеются своим же словам, на самом деле отнюдь не смешным, тем самым освобождают вас от обязанности вторить им, потому что эту обязанность – устраивать взрывы хохота – они берут на себя.
– От других я слышала, будто он обижен, что я его не зову. Но я не хочу навязываться. Он, видимо, дуется на меня. (Я подумал, что это мягко сказано.) Постарайтесь разузнать, а завтра мне расскажете. Но если все-таки ему станет совестно и он выразит желание поехать вместе с вами, то привезите его. Незамолимых грехов не бывает. Я была бы даже отчасти рада его приезду – мне хочется позлить маркизу де Сюржи. Я предоставляю вам полную свободу действий. У вас на такие вещи ох какое тонкое чутье! Я не хочу, чтобы обо мне подумали, будто я зазываю к себе гостей. Словом, я на вас рассчитываю.
Я подумал, что Сван, наверно, истомился, ожидая меня. К тому же мне надо было вернуться домой пораньше из-за Альбертины, поэтому я поспешил распрощаться с маркизой де Сюржи и с бароном де Шарлю и вернулся к больному в игорную. Я задал ему вопрос, отзывался ли он о пьеске Бергота, разговаривая с принцем в саду, так, как нам это передал граф де Бресте (Свану я его не назвал). Сван рассмеялся. «Тут нет ни одного слова правды, ни единого, все от начала до конца выдумано, и притом ужасно глупо. Нет, в самом деле, в таком мгновенном возникновении ложных слухов есть что-то непостижимое. Я вас не спрашиваю, кто вам об этом сказал, а все же было бы очень занятно исподволь проследить в таком узком кругу, как все это образовывается. Одного не могу взять в толк: почему людям так важно знать, что мне сказал принц? Люди до крайности любопытны. Сам-то я никогда не был любопытен – только уж если был влюблен и ревновал. А что это мне дало? Вы ревнивы?» Я ответил Свану, что ревность мне незнакома, что я о ней понятия не имею. «В таком случае я вас поздравляю. Когда человек ревнует чуть-чуть, это даже отчасти приятно – приятно по двум причинам. Во-первых, благодаря этому люди нелюбопытные начинают интересоваться жизнью других или, по крайней мере, жизнью одной какой-нибудь женщины. А во-вторых, благодаря этому вы более или менее ясно предощущаете, какую радость доставляет обладание, – это когда вы садитесь в экипаж рядом с женщиной, не оставляете ее одну. Но ревность приятна только в самом-самом начале болезни или уж когда наступает почти полное выздоровление. В промежутке – это мучительнейшая пытка. Впрочем, должен сознаться, даже те два приятных ощущения, которые я имею в виду, я почти не изведал: первое – из-за моей натуры, не способной на долгие размышления; второе – в силу обстоятельств, по вине женщины, то есть, я хочу сказать, по вине женщин, которых я ревновал. Но это несущественно. Когда мы уже чем-нибудь не дорожим, нам все-таки не вполне безразлично, что раньше оно было нам дорого, а другим этого не понять. Мы сознаем, что воспоминание о минувших чувствах только внутри нас, и больше нигде; чтобы воспоминание вырисовалось перед нами, нам нужно вернуться внутрь себя. Не смейтесь над моим идеалистическим лексиконом, я просто хочу сказать, что я очень любил жизнь и что я очень любил искусства. Ну и вот, теперь я так устал, что мне трудновато жить с людьми, и мои былые чувства, мои и больше ничьи, – это свойство всех, помешанных на коллекционерстве, – стали для меня драгоценностями. Я открываю самому себе мое сердце, точно витрину, и рассматриваю одну за другой мои влюбленности, которые никто, кроме меня, не узнает. И вот об этой-то коллекции, которая мне теперь дороже всех остальных, я говорю себе, почти как Мазарини о своих книгах, хотя и без малейшей боли в сердце, что расставаться с ней мне будет невесело. А теперь перейдем к моей беседе с принцем; расскажу я о ней только одному человеку: этот человек – вы». Слушать Свана мне мешали бесконечные разглагольствования де Шарлю, вернувшегося в игорную. «А вы тоже читаете книги? Чем вы занимаетесь?» – спросил он графа Арнюльфа. Тот даже имени Бальзака никогда не слыхал, но от того, что он был близорук и все видел в очень уменьшенных размерах, казалось, что он видит очень далеко, и – поэтическая черта, изредка встречающаяся в статуе греческого бога! – в его зрачках как бы вычерчивались далекие таинственные звезды.
– Пройдемтесь по саду, – предложил я Свану, а в это время граф Арнюльф, сюсюкая, – этот недостаток речи как будто свидетельствовал о его недоразвитости, во всяком случае умственной, – отвечал на вопрос де Шарлю с простодушной и словоохотливой точностью:
– О нет, я больше по части гольфа, тенниса, мяча, пешеходных прогулок, главное – по части поло.
Так Минерва, раздвоившись, в некоторых городах переставала быть богиней Мудрости и воплощала часть самой себя в божество чисто спортивное, в божество конно-беговое – в Афину Гиппию. Походил он на лыжах в Сен-Морице, ибо Паллада Тритогения посещает выси гор и настигает всадников. «А-а!» – протянул де Шарлю со снисходительной улыбкой человека, занимающегося умственным трудом, человека, который даже не считает нужным скрывать, что он посмеивается над другими, который считает, что он выше всех, презирает даже и не таких уж глупых и почти не делает разницы между ними и непроходимо глупыми, а если и делает, то лишь когда эти глупцы могут представлять для него интерес с другой точки зрения. Де Шарлю полагал, что, беседуя с Арнюльфом, он тем самым возвышает его над другими, что у других это должно вызывать зависть и что превосходство Арнюльфа должно быть всеми признано. «Нет, – сказал Сван, – я устал, и ходить мне трудно, лучше посидим в уголке, я еле стою на ногах». Это была истинная правда, и все же, заговорив, он слегка оживился. Дело в том, что даже непритворная усталость, особенно у людей нервных, частично зависит от того, поглощено ли усталостью их внимание и помнят ли они про свое утомление. Человек внезапно устает, как только к нему закрадывается боязнь усталости, – чтобы приободриться, ему достаточно о ней позабыть. Конечно, Сван не целиком принадлежал к породе изнуренных, но неутомимых людей, которые, придя куда-нибудь, в состоянии полного изнеможения, поблекшие, валящиеся с ног от усталости, оживают во время разговора, как цветы в воде; такие люди могут целыми часами черпать силы в своих словах, но, к сожалению, они не наделены даром заражать бодростью своих слушателей, напротив: чем сильнее у них подъем, тем заметнее упадок у слушателей. Зато Сван был из могучего еврейского племени, чья живучесть, чье сопротивление смерти передаются и отдельным его представителям. Общая болезнь всего племени – гонение, отдельные же его представители болеют разными болезнями, и во время мучительной агонии они бьются в бесконечных судорогах, которые могут продолжаться невероятно долго – до тех пор, когда у страждущего видна только борода, как у пророка, а над ней торчит громадный нос с расширяющимися ноздрями, напоследок втягивающими воздух, пока, наконец, не послышатся полагающиеся по обряду молитвы, после чего начинается строго торжественное шествие дальних родственников, двигающихся механически, точно на ассирийских фризах.
Мы сели, но, прежде чем отойти от группы, которую образовали де Шарлю и оба молодых Сюржи с их матерью, Сван не мог не задержать долгого взгляда знатока, взгляда, широко захватывающего и плотоядного, на ее стане. Чтобы лучше видеть, Сван воспользовался моноклем, и потом, разговаривая со мной, он все посматривал на нее.
– Вот вам слово в слово, – начал Сван, когда мы с ним сели, – мой разговор с принцем, а если вы вспомните, что я вам сейчас говорил, то поймете, почему я решил открыть это именно вам. Есть и еще одна причина, о которой вы когда-нибудь узнаете. «Дорогой Сван! – сказал мне принц Германтский. – Если вам с некоторых пор стало казаться, что я вас избегаю, то простите меня. (А я и не заметил – я болен и сам всех избегаю.) Во-первых, я слышал от других, да и предугадывал, что ваш взгляд на злосчастное дело, разбившее страну на два лагеря, диаметрально противоположен моему. И мне было бы невероятно тяжело, если б вы начали высказывать свои взгляды при мне. Вот до чего я был взвинчен: два года назад зять принцессы, великий герцог Гессенский, сказал ей, что Дрейфус невиновен, – она вспылила, но, чтобы не раздражать меня, мне об этом не сказала ничего. Почти одновременно в Париже побывал наследный принц Шведский; по всей вероятности, он от кого-то услышал, что императрица Евгения – дрейфусарка, но спутал ее с принцессой (согласитесь, что это довольно странно: как можно было спутать мою жену, принадлежащую к высшей знати, с испанкой, гораздо более худородной, даже чем о ней думают, вышедшей замуж просто за Бонапарта!), и он ей сказал: „Принцесса! Я счастлив вас видеть вдвойне – мне известно, что на дело Дрейфуса мы с вами смотрим одинаково, и это меня не удивляет, потому что вы, ваше сиятельство, родились в Баварии“. А она ему на это: „Ваше высочество! Теперь я – французская принцесса, и больше никто, и я придерживаюсь тех же взглядов, что и мои соотечественники“. Но вот в чем дело, дорогой Сван: года полтора назад, после разговора с генералом де Босерфеем, у меня закралось подозрение, что в ходе судебного разбирательства были допущены не просто ошибки, а грубые нарушения закона».
Нас прервал (Сван не хотел, чтобы кто-нибудь слышал наш разговор) де Шарлю (кстати сказать, не обращавший на нас внимания), – провожая маркизу де Сюржи, он проходил мимо и вдруг остановился, чтобы задержать ее, то ли ради сыновей, то ли потому что им руководило присущее Германтам желание – оттянуть конец данного мига, желание, которое погружало их в какую-то тревожную неподвижность. Немного позднее Сван сообщил мне некоторые подробности, отнявшие у фамилии Сюржи-ле-Дюк тот ореол поэзии, каким я его окружил. Маркиза де Сюржи-ле-Дюк во много раз превосходила и положением в обществе, и кругом знакомств своего двоюродного брата, графа де Сюржи, обедневшего, жившего у себя в имении. Но окончание ее фамилии – «ле-Дюк» – совсем не имело того смысла, какой я в него вкладывал и по которому я ставил его рядом с Бур-л'Аббе, Буа-ле-Руа и т. п. Просто-напросто один из графов де Сюржи в эпоху Реставрации женился на дочери богатейшего промышленника Ледюка, или Ле Дюка, – сын владельца химического завода, он был самым богатым человеком своего времени, получившим звание пэра Франции. Король Карл Х основал для ребенка, родившегося от этого брака, маркизат Сюржи-ле-Дюк, так как маркизат Сюржи в этом роду уже был. Присоединение буржуазной фамилии не воспрепятствовало этой ветви породниться, благодаря громадному состоянию, с самыми именитыми семьями во всем королевстве. И нынешняя маркиза де Сюржи-ле-Дюк, столь благородного происхождения, могла бы стать в обществе звездой первой величины. По наущению демона порочности маркиза, однако, пренебрегла унаследованным ею блестящим положением и, убежав от мужа, повела беспутную жизнь. В двадцать лет, когда великосветское общество падало перед ней ниц, она им пренебрегла, но по прошествии десяти лет, в течение которых никто, кроме двух-трех верных подруг, ей не кланялся, она отчаянно затосковала по этому обществу и решила напрячь все усилия, чтобы постепенно отвоевать то, чем она владела от рождения (такие случаи бегства и возвращения наблюдаются довольно часто).
Что же касается ее вельможных родственников, от которых она в свое время отреклась и которые отреклись от нее, то она оправдывала радость, какую ей сулило восстановление отношений с ними, тем, что их связывают воспоминания детства, и теперь, мол, ей будет с кем вспоминать его. Говорила она это для того, чтобы скрыть свой снобизм, и все-таки, неведомо для нее самой, она была не так уж далека от истины. «Базен – да это же вся моя молодость!» – воскликнула она в тот день, когда он к ней вернулся. И доля правды в этом была. Но маркиза добилась того, что он стал ее любовником, и тут она просчиталась. Дело в том, что все подруги герцогини Германтской не могли не принять ее сторону, и маркизе де Сюржи снова приходилось спускаться с крутизны, на которую ей так трудно было взобраться. «Ну так вот! – продолжал де Шарлю – ему явно не хотелось обрывать разговор. – Засвидетельствуйте мое почтение прекрасному портрету. Как он поживает? Что с ним стало?» – «Но вы же знаете, что у меня его больше нет, – ответила маркиза де Сюржи, – моему мужу он не понравился». – «Не понравился? Не понравился один из шедевров нашего времени, который можно сравнить только с портретом Натье, написавшим герцогиню де Шатору, и который, кстати сказать, запечатлел черты столь же величественной и смертоносной богини? Ах, этот синий воротничок! Да сам Вермеер и тот ни разу не превзошел автора вашего портрета в технике, когда писал материю!.. Только давайте говорить тише, а то как бы нам не досталось от Свана – он своего любимого художника, дельфтского мастера, в обиду не даст». Маркиза, обернувшись, улыбнулась и протянула руку Свану – тот встал и поздоровался с ней. Уже не украдкой, – то ли потому, что с возрастом он почти перестал что-либо делать украдкой, то ли потому, что он обладал сильной волей, то ли потому, что к общественному мнению он относился равнодушно, или потому, что тут было что-то чувственное, что в нем вспыхнуло желание, а пружины, сдерживающие желание, ослабли, но только, пожимая руку маркизе и смотря сверху вниз, он, едва увидев совсем близко от себя ее грудь, тотчас устремил за корсаж изучающий, строгий, задумчивый, почти озабоченный взгляд, а его ноздри, с наслаждением вдохнувшие запах духов, затрепетали, как бабочки, опускающиеся на цветок. Это опьянение тут же у него прошло, но даже маркиза, хотя и была смущена, хотя и тайком, а все-таки глубоко вздохнула – до того заразительно бывает иногда желание. «Художник обиделся и забрал портрет, – сказала она барону. – Я слышала, что теперь он у Дианы де Сент-Эверт». – «Вот уж никогда бы не подумал, что у шедевра такой плохой вкус!» – заметил де Шарлю.
– Он говорит с ней о ее портрете. У меня нашлось бы о нем сказать не меньше, чем у Шарлю, – провожая взглядом удалявшуюся пару, циничным тоном, подчеркивая слова, проговорил Сван. – И уж, конечно, это доставило бы мне больше удовольствия, чем Шарлю, – добавил он.
Я спросил, верить ли молве о де Шарлю, и в этом моем вопросе была двойная ложь: хотя я ничего такого о нем не слышал, но в соответствии действительности того, на что я намекал, у меня с недавних пор не оставалось и тени сомнения. Сван пожал плечами с видом человека, которому кто-то сморозил чушь.
– То есть лучшего друга, чем он, не найдешь. Но его дружеские чувства носят характер чисто платонический – это яснее ясного. Он сентиментальнее других, только и всего, а с женщинами дело у него никогда не заходит слишком далеко, оттого-то нелепым слухам, о которых вы со мной заговорили, кое-кто и придал значение. Я допускаю, что Шарлю очень привязан к своим друзьям, но можете быть уверены, что эта его любовь не выходит за пределы головы и сердца… Ну, наконец мы с вами, кажется, хоть несколько минут можем поговорить спокойно. Так вот, дальше принц Германтский сказал мне следующее: «Откровенно говоря, мысль о беззакониях, возможно чинившихся на суде, была для меня нестерпимо тяжела, потому что, как вам известно, я боготворю армию; я имел еще один разговор с генералом, и вот этот разговор – увы! – положил конец моим колебаниям. Скажу вам по чистой совести: мысль, что невинный человек может быть приговорен к позорнейшему из наказаний, как раз не волновала меня. Но под влиянием мысли о беззакониях я стал изучать то, от чего раньше отмахивался, и вот тут-то меня начали одолевать сомнения – теперь уже не в законности, а в виновности. Я решил ничего не говорить об этом принцессе. Видит Бог: она стала такой же француженкой, как я. Ведь я же все-таки, женившись на ней, из кожи вон лез, чтобы показать ей нашу Францию во всей ее красоте, а чем Франция, с моей точки зрения, может больше всего гордиться, так это армией, и мне было бы слишком больно делиться с принцессой моими сомнениями, тем более что они касались только некоторых офицеров. Но я из военной среды, и я отказывался верить, что эти офицеры могли ошибиться. Я опять заговорил с Босерфеем, и он сообщил мне, что преступные махинации затевались, что хотя бордеро составлено, может быть, и не Дрейфусом, но неоспоримое доказательство виновности Дрейфуса налицо. Это был „документ Анри“. А через несколько дней выяснилось, что документ подложный. После этого, втайне от принцессы, я взял себе за правило каждый день прочитывать „Век“ и „Зарю“; вскоре все мои сомнения рассеялись, я перестал спать. Я не утаил моих душевных переживаний от нашего друга, аббата Пуаре, – к моему удивлению, оказалось, что и он того же мнения, тогда я попросил его служить молебны о здравии Дрейфуса, его несчастной жены и его детей. Прошло еще некоторое время, иду я утром к принцессе и встречаюсь с ее горничной – горничная что-то держит в руке, но при виде меня прячет. Я спрашиваю со смехом, что это такое; она краснеет, но в ответ – ни звука. До сего времени я верил своей жене безгранично, однако этот случай привел меня в крайнее замешательство (да безусловно и самое принцессу; камеристка, конечно, рассказала ей про нашу встречу, потому что за завтраком моя милая Мари все время отмалчивалась). В тот же день я спросил аббата Пуаре, может ли он завтра отслужить молебен о здравии Дрейфуса…» – Ну вот опять! – перебив себя, вполголоса проговорил Сван.
Я поднял голову и увидел, что к нам направляется герцог Германтский. «Простите, дети мои, я вам помешал. Вот что, мой мальчик, – обратился он ко мне, – меня послала к вам Ориана. Мари и Жильбер попросили ее остаться у них отужинать вместе с герцогиней Гессенской, принцессой де Линь, госпожой де Тарант, госпожой де Шеврез, герцогиней д'Арнберг – всего будет человек пять-шесть. К сожалению, мы не можем остаться – мы едем на скромный костюмированный бал». Я внимательно выслушал герцога, но ведь каждый раз, когда нам нужно в какой-то момент поступить так или иначе, мы поручаем кому-то, привыкшему исполнять такого рода обязанности, следить за часами и вовремя извещать нас. Этот внутренний мой слуга напомнил мне, – о чем я его несколько часов назад как раз и просил, – что Альбертина, от которой в этот миг мысли мои были далеко, должна приехать ко мне после театра. И я отказался от ужина. Не потому чтобы у принцессы Германтской мне не понравилось. Человек может получать удовольствие от многого. Настоящее для него удовольствие – это то, ради которого он жертвует другим. Правда, из-за этого другого желания, если оно заметно для окружающих или даже если оно одно и заметно, может быть неправильно истолковано желание настоящее, оно усыпляет бдительность ревнивцев или же сбивает их со следа, оно обманывает общественное мнение. Но посулите нам немного счастья или немного душевной боли – и мы поступимся любым удовольствием ради истинного. О третьем разряде удовольствий, более трудоемких, зато более насущных, в иных случаях мы долго не подозреваем, и они дают нам знать о своем существовании, только когда вызывают у нас сожаление или упадок духа. И все же именно такого рода удовольствия в конце концов перевешивают. Возьмем самый простой пример: военный в мирное время пожертвует светским образом жизни ради любви, но как только объявят войну (и дело тут не в патриотических чувствах), он пожертвует любовью ради более сильной страсти – страсти сражаться. Сван уверял меня, что ему страх как хочется рассказать мне о принце, но я-то чувствовал, что беседа со мной из-за позднего времени и скверного самочувствия довела его до такого изнеможения, которое у людей, осведомленных о том, что излишества и бессонные ночи для них пагубны, вызывает, как только они возвращаются домой, порыв отчаяния, подобного тому, какое охватывает мота после очередной бешеной траты денег, что не мешает ему на другой же день снова бросить деньги на ветер. В определенной стадии слабости – вызвана ли она возрастом или болезнью – любое удовольствие, которое человек доставляет себе за счет сна, которое выбивает его из колеи, любое нарушение режима нервируют его. Он продолжает говорить из вежливости или потому, что он возбужден, но он знает, что время, когда он мог бы заснуть, уже прошло, и еще он знает, как горько будет он себя упрекать, когда для него начнется пытка бессонницы и переутомления. Притом даже это мимолетное удовольствие улетучилось, тело и ум опустошены, и человеку уже не под силу поддерживать разговор, который его собеседнику представляется любопытным. Его тело и ум напоминают квартиру в день отъезда или переезда, когда сидеть с гостями на чемоданах, глядя на часы, невмоготу.
– Наконец мы одни, – сказал Сван. – Не помню, на чем я остановился. Кажется, я дошел до того, как принц спросил аббата Пуаре, нельзя ли отслужить молебен о здравии Дрейфуса. «Нет, – сказал мне аббат (я говорю „мне“, – пояснил Сван, – потому что я дословно передаю рассказ принца, понимаете?), – на завтра утром мне заказали молебен, и тоже за Дрейфуса». – «Ах, вот как! – сказал я. – Значит, нашелся еще один католик, который, как и я, убежден в невиновности Дрейфуса?» – «По-видимому». – «Но этот сторонник Дрейфуса убедился в его невиновности, должно быть, позднее меня?» – «Да нет! Этот сторонник заказывал мне молебны, когда вы еще полагали, что Дрейфус виновен». – «Ну, это, как видно, кто-нибудь не из нашего круга». – «Ошибаетесь». – «То есть как? Среди нас есть дрейфусары? Вы меня заинтриговали; как бы мне хотелось излить ему душу, если только я знаком с этим редким экземпляром!» – «Знакомы». – «Кто же это?» – «Принцесса Германтская». Я боялся задеть националистические взгляды моей дорогой жены, ее любовь к Франции, а она в это же самое время со страхом думала о том, как бы не оскорбить мои религиозные убеждения, мои патриотические чувства. Но мы с ней были единомышленниками, только к тем же выводам она пришла раньше меня. А горничная ежедневно покупала для нее «Зарю» и прятала в ее комнате. Дорогой Сван! После этого я все время думал о том, как вы будете рады, когда узнаете от меня, что у нас с вами никаких разногласий в этом вопросе нет; простите, что я не сразу вам об этом сказал. Если, как вы теперь знаете, я таился даже от принцессы, то вас не должно удивлять, что сходство во мнениях с вами отдалило бы меня от вас в большей степени, чем разномыслие. Касаться этого предмета мне было мучительно трудно. Чем для меня яснее, что была допущена ошибка, более того – что были совершены преступления, тем сильнее болит у меня душа за армию. Я воображал, что вы ничуть от этого не страдаете, и вдруг недавно узнаю, что вы возмущены оскорблениями, сыплющимися на армию, а также теми из дрейфусаров, кто заодно с ее хулителями. Тогда я решился; скажу вам по чистой совести: мне было больно признаваться вам в том, что я думаю о некоторых офицерах, к счастью – о немногих, но теперь я испытываю облегчение при мысли, что мне уже не надо вас сторониться, а главное, вы теперь знаете, что, как бы я ни был настроен, в обоснованности приговора я не сомневался. А после того, как сомнение зародилось, я желал одного: чтобы ошибка была исправлена». Должен вам сказать, что исповедь принца Германтского глубоко взволновала меня. Если б вы его знали так же хорошо, как я, если б вы понимали, как дорого дался ему переход в наш стан, вы преклонились бы перед ним, и есть за что. Впрочем, его точка зрения меня не удивляет: ведь он на редкость порядочный человек!
Еще сегодня Сван доказывал мне, – но об этом он успел позабыть, – что в основе отношения к делу Дрейфуса лежит атавизм. Единственное исключение он делал для людей умных: так, например, в Сен-Лу именно ум взял верх над атавизмом, и благодаря этому Сен-Лу стал дрейфусаром. Победа эта была, однако, недолгой: на глазах у Свана Сен-Лу переметнулся в другой лагерь. И вот ту роль, какую Сван отводил уму, сейчас он отводил порядочности. В этом нет ничего удивительного: мы всякий раз поздно устанавливаем причину, по которой люди примыкают к враждебной нам партии, слишком поздно приходим к выводу, что дело тут не в том, насколько эта партия права, и что наших единомышленников именно ум – если их душевная организация не столь тонка, чтобы имело смысл пытаться воздействовать на нее, – или врожденная порядочность – если они недостаточно проницательны, – привлекают на нашу сторону.
Теперь Сван всех, кто был одних с ним воззрений, считал умными людьми: и своего старого друга принца Германтского, и моего приятеля Блока – все время он старался держаться от Блока подальше, а тут вдруг пригласил на завтрак. Блок очень заинтересовался, когда узнал от Свана, что принц Германтский – дрейфусар: «Надо попросить его подписаться под нашим протестом против дела Пикара; его имя произведет потрясающее впечатление». Однако иудейская пылкость в отстаивании своих убеждений уживалась у Свана со сдержанностью светского человека, повадки которого так укоренились в нем, что теперь ему было уже поздно от них освобождаться, и он отсоветовал Блоку посылать принцу – пусть даже эта мысль возникла будто бы стихийно – бумагу для подписи: «Он не подпишет; ни от кого нельзя требовать невозможного, – твердил Сван. – Это человек необыкновенный – он проделал к нам огромный путь. Он может нам быть очень полезен. Но, подпиши он ваш протест, он только скомпрометирует себя в глазах своего окружения, пострадает за нас, может быть, раскается и перестанет с кем бы то ни было откровенничать». Этого мало: Сван отказался поставить и свою подпись. Он считал, что его фамилия чересчур еврейская и оттого может произвести неблагоприятное впечатление. А потом, ратуя за пересмотр дела, он не хотел, чтобы о нем думали, будто он в какой-то мере причастен к антимилитаристской кампании. Раньше он никогда не носил, а теперь стал носить орден, который он получил в ранней молодости, в 70-м году, когда служил в национальной гвардии, и сделал добавление к своему завещанию, выражая просьбу, чтобы в отмену его прежних распоряжений ему, как кавалеру ордена Почетного легиона, на похоронах были возданы воинские почести. Вот почему вокруг комбрейской церкви потом собрался целый эскадрон тех самых кавалеристов, участь которых в давнопрошедшие времена оплакивала Франсуаза, допуская возможность новой войны. Короче говоря, Сван отказался подписаться под протестом Блока, хотя многие смотрели на него как на завзятого дрейфусара, а мой приятель считал его умеренным, считал, что он заражен национализмом, и называл его охотником за орденами. Сван, уходя, не пожал мне руки, чтобы не прощаться со всеми в этой зале, где у него было полно друзей, – он только сказал мне: «Вам следовало бы повидать вашу приятельницу Жильберту. Она так повзрослела и так изменилась, что вы ее не узнаете. Она будет очень-очень рада!» Я разлюбил Жильберту. Она была для меня как бы покойницей, которую долго оплакивали, потом забыли и которая, если б она воскресла, уже не сумела бы врасти в жизнь, потому что эта новая жизнь ей чужда. Мне уже не хотелось видеть ее, даже не хотелось показать ей, что я не желаю видеться с ней, а между тем, когда я любил ее, я каждый день давал себе слово, что, разлюбив, непременно дам ей почувствовать свое нежелание.
Вот почему, направляя в данный момент усилия только на то, чтобы Жильберта вообразила, будто я всем своим существом стремлюсь к возобновлению отношений с ней, чему мешали обстоятельства, которые, как принято выражаться, «от нас не зависят», хотя на самом деле эти обстоятельства складываются с известной последовательностью так, а не иначе, именно потому, что наша воля этому не препятствует, я живо откликнулся на приглашение Свана и расстался с ним только после того, как взял с него слово подробно объяснить дочери, что служило и еще какое-то время будет служить мне помехой для того, чтобы с нею видеться. «А впрочем, как только приеду домой, я сейчас же напишу ей письмо, – прибавил я. – Но только предупредите ее, что это будет письмо угрожающее, потому что месяца через два я буду совершенно свободен, и тогда горе ей: я буду столь же частым вашим гостем, как прежде».
Прощаясь со Сваном, я спросил, как он себя чувствует. «Да ничего, – ответил он. – Но ведь я вам уже говорил, что я устал от жизни, и, что бы со мной ни случилось, я ко всему отнесусь спокойно. Вот только, откровенно говоря, обидно было бы умереть до окончания дела Дрейфуса. Что-что, а морочить головы вся эта мразь насобачилась. В конце концов с ней справятся – в этом я не сомневаюсь, – но ведь она очень сильна, у нее везде заручка. Как будто опасаться уже нечего – и вдруг: трах! Все насмарку. Я бы хотел дожить до того часа, когда Дрейфуса оправдают, а Пикар будет полковником».
Когда Сван уехал, я вернулся в большую гостиную и увидел принцессу Германтскую, ту самую, с которой – о чем я тогда и не подозревал – судьба свяжет меня тесными узами дружбы. Ее страсть к де Шарлю открылась мне не сразу. Я только стал замечать вот что: с некоторых пор барон, никогда не проявлявший к принцессе Германтской враждебного чувства – а с его стороны это было бы как раз неудивительно, – был с нею, пожалуй, даже нежнее прежнего, но когда при нем заходил о ней разговор, то это вызывало у него неудовольствие и раздражение. Ее имя уже не значилось в списке тех, с кем ему хотелось вместе поужинать.
Еще раньше один светский злопыхатель говорил при мне, что принцесса очень изменилась, что она влюблена в де Шарлю, но я отнесся к его словам как к возмутительной клевете. Однако вот что меня удивляло: если я, рассказывая о себе, упоминал де Шарлю, внимание принцессы так чутко настораживалось, как настораживается оно у больного, который, когда мы говорим ему о себе, естественно, слушает нас с рассеянным и скучающим видом, но который, едва лишь ему послышится название его болезни, вдруг радостно встрепенется. Стоило мне сказать, например: «Как раз от де Шарлю я об этом узнал…» – и принцесса мгновенно натягивала удила своего внимания. Как-то я сказал в ее присутствии, что де Шарлю увлечен одной дамой, и, к моему удивлению, в глазах у принцессы мелькнули особые черточки, как бы трещинки, нанесенные мыслью, которую мы, сами того не желая, заронили в душу собеседника, – мысль сокровенную, которая не выразится в словах, а лишь прихлынет из всколыхнутых нами глубин к поверхности взгляда, отчего взгляд на мгновение замутится. Но я не догадывался, чем я так взволновал принцессу.
А вскоре она сама заговорила со мной о де Шарлю – и почти без обиняков. Она намекала на слухи, кое-кем распускавшиеся о бароне, лишь как на вздорные и грязные сплетни. Но говорила она и другое: «Я считаю, что у женщины, которая полюбит такого большого человека, как Паламед, должны быть широкие взгляды, она должна быть всецело ему предана, чтобы понимать его во всем, чтобы принимать его таким, как он есть, со всеми его странностями, чтобы не посягать на его свободу, чтобы только о том и думать, как бы облегчить ему жизнь, как бы утешить его в горе». И вот в этих-то – правда, весьма неопределенных – словах обнаруживалось стремление принцессы Германтской превознести де Шарлю таким образом, как превозносил он сам себя. Сколько раз говорил он при мне людям, которые были не уверены, возводят на него напраслину или все так и есть: «В моей жизни было много взлетов и много падений, кого я только не знал: от воров до королей, – и, скажу откровенно, воры мне, в общем, нравились больше, – я искал красоту во всех ее проявлениях…» и т. д.; я неоднократно был свидетелем того, как он, с помощью этих монологов, которые ему самому представлялись необычайно хитроумными, опровергая слухи, еще не дошедшие до тех, с кем он вел беседу (а быть может, он – из прихоти, считая нужным проявить чувство меры, заботясь о правдоподобии, – делал истине уступку, которую только он один и считал незначительной), рассеивал последние сомнения у одних и зарождал первые сомнения у других. Дело в том, что из всех видов укрывательства самый опасный для преступника – это укрывательство преступления в его сознании. Неотвязная мысль о преступлении не дает ему возможности установить, в самом ли деле никто не догадывается и отнесутся ли к нему с полным доверием, если он станет на путь решительного запирательства, а с другой стороны, не дает возможности определить, где в его правдивых словах, которые ему кажутся невинными, начинается признание. В сущности, у него не было оснований таиться, потому что нет такого порока, который не нашел бы в высшем свете услужливого сочувствия; в одной усадьбе надо было уложить спать на одной кровати двух сестер, и это вызвало целый кавардак, начавшийся после того, как все поверили, что они любят друг дружку только как сестры. А на любовь принцессы мне внезапно пролило свет одно обстоятельство; но здесь я на нем подробно останавливаться не буду, ибо оно имеет прямое отношение к рассказу о том, как де Шарлю ушел от умирающей королевы, чтобы не упустить парикмахера, обещавшего сделать ему мелкую завивку, а завивкой барон хотел угодить омнибусному контролеру, перед которым он почему-то страшно заискивал. Так вот, чтобы покончить с любовью принцессы, я сейчас расскажу, какая чистая случайность открыла мне глаза. Однажды мы ехали с ней вдвоем в экипаже. Когда мы проезжали мимо почты, она сказала кучеру, чтобы он остановился. Лакея она с собой не взяла. Вытащив наполовину из муфты письмо, она совсем уже собралась выйти из экипажа, чтобы опустить письмо в ящик. Я попытался удержать ее, она оказала слабое сопротивление, однако нам обоим сейчас же стало ясно, что попытка выйти с письмом из экипажа бросает на нее тень, так как можно подумать, будто она охраняет какую-то тайну, а моя попытка – попытка нескромная, так как можно подумать, будто я хочу вырвать у нее тайну. Первая взяла себя в руки принцесса. Густо покраснев, она отдала мне письмо, я послушно взял его, но, опуская в ящик, нечаянно обнаружил, что оно адресовано де Шарлю.
А теперь возвращаюсь к моему рассказу и к первому моему вечеру у принцессы Германтской: герцог и герцогиня предложили отвезти меня домой, но они очень спешили, и я пошел проститься с принцессой. Герцогу захотелось проститься с братом. Маркиза де Сюржи успела где-то в дверях сказать герцогу, что де Шарлю был очарователен и с ней, и с ее сыновьями; необычайная любезность, какую барон впервые проявил в таких обстоятельствах, глубоко тронула Базена и пробудила в нем родственные чувства, впрочем, никогда надолго не засыпавшие в нем. Когда мы прощались с принцессой, герцог решил, прямо не высказывая де Шарлю своей благодарности, проявить к нему нежность – то ли потому, что она в самом деле переполняла его, то ли чтобы барон запомнил, что брат не мог не оценить его поведение на сегодняшнем вечере, – так собаке, стоящей на задних лапах, бросают кусок сахару, чтобы у нее всегда связывалось с этим приятное воспоминание. «Что ж это ты, братец? – остановив де Шарлю и ласково взяв его под руку, заговорил с ним герцог. – Проходишь мимо старшего брата и даже не здороваешься? Мы с тобой совсем не видимся, Меме, и ты не можешь себе представить, как мне тебя не хватает. Я разбирал старые письма и нашел письма покойной мамы – она с такой нежностью всегда о тебе пишет!» – «Спасибо, Базен», – прерывающимся голосом вымолвил де Шарлю – о своей матери он не мог говорить без волнения. «Позволь мне обставить для тебя флигель в Германте», – предложил герцог. «Как хорошо, когда братья так друг к другу привязаны!» – обратилась принцесса к Ориане. «О да! Такие отношения между братьями – редкость. Я как-нибудь приглашу вас и де Шарлю, – обещала мне Ориана. – Ведь вы с ним, кажется, в дружбе?.. Однако о чем это они говорят?» – забеспокоилась она: ей плохо был слышен их разговор. В герцогине неизменно шевелилось ревнивое чувство, когда она видела, как приятно герцогу вспоминать с братом прошлое, а жену он держал от своего прошлого на некотором расстоянии. Она чувствовала, что им отрадно побыть вдвоем и что если бы она, не в силах сдержать нетерпеливое свое любопытство, присоединилась бы к ним, то ее появление не доставило бы им удовольствия. Но сегодня к обычной ее ревности примешалась иная. Дело было вот в чем: маркиза де Сюржи рассказала герцогу Германтскому, как его брат был с нею мил, для того, чтобы герцог выразил ему благодарность, а в это же самое время верные подруги четы Германтов сочли своим долгом довести до сведения герцогини, что любовницу ее супруга видели наедине с его братом. Вот что не давало покоя герцогине Германтской. «Помнишь, как нам чудесно жилось в Германте? – обращаясь к де Шарлю, продолжал герцог. – Если б ты наезжал туда летом, для нас с тобой вновь настали бы счастливые времена. Помнишь старика Курво? – Почему купцов называют купцами? Потому что они все покупают и ску… ску… – скупают, – произнес де Шарлю таким тоном, как будто отвечал своему учителю. – А раз скупают, то они не только купцы, но и ск… – скупцы. – Прекрасно! Экзамен, вы, конечно, выдержите, получите хорошую отметку, и ее светлость подарит вам китайский словарь». «Милый Меме, да как же мне это не помнить! А старинная китайская ваза, которую тебе привез Эрве де Сен-Дени? Она стоит у меня перед глазами. Ты даже грозился уехать в Китай навсегда – так он тебя интересовал; и ты уже тогда любил кутнуть напропалую. О, ты был совсем особенный; смело могу сказать, что твои вкусы буквально ни в чем не совпадали…» Но тут лицо герцога, как говорится, пошло красными пятнами: он не был твердо уверен, какого его брат поведения, но уж репутацию-то его он знал хорошо. Герцог никогда с ним об этом не говорил, и оттого, что его слова можно было принять за намек, он почувствовал себя особенно неловко. «Кто тебя знает, – чтобы замять неловкость, после секундного молчания снова заговорил он, – может, ты был влюблен в китаянку – еще до того, как начал ухаживать то за одной, то за другой белой женщиной и пользоваться их благосклонностью, в чем я мог убедиться на примере одной дамы, с которой ты только что беседовал и, видимо, доставил ей большое удовольствие. Она от тебя без ума». Герцог дал себе слово ни с кем не говорить о маркизе де Сюржи, но из-за допущенной им бестактности мысли его мешались, и он ухватился за первую попавшуюся – именно за ту, которой он не должен был касаться, хотя она как будто и служила ему веским доказательством. Де Шарлю заметил, что его брат покраснел. И, как преступник, который, когда при нем заходит речь о преступлении, якобы им не совершенном, делает вид, что ничуть не смущен, и считает выгодным поддержать опасный для него разговор, он сказал герцогу: «Я, конечно, польщен, но мне бы хотелось вернуться к тому, о чем ты говорил перед этим, – по-моему, ты глубоко прав. Ты утверждал, что у меня на все был свой, особенный взгляд, – это очень верно, – ты утверждал, что вкусы у меня были специфические». – «Да нет!» – возразил герцог – он и в самом деле не употреблял этого выражения и, может быть, даже не верил, что оно применимо к его брату. А кроме того, он не считал себя вправе волновать барона из-за его наклонностей, во всяком случае – сомнительных, таинственных и нимало не вредивших тому исключительно высокому положению, какое барон занимал в обществе. Более того: герцог, понимая, что его возлюбленный барон, занимающий такое положение, глядишь, когда-нибудь и пригодится, внушал себе, что ради этого не мешает быть поснисходительнее; даже если б герцога Германтского и поставили в известность о какой-нибудь «особой» симпатии брата, то, в надежде на его поддержку, да еще к тому же связанный с ним святостью воспоминаний о прошлом, он пропустил бы это мимо ушей, посмотрел бы сквозь пальцы, а в случае чего и помог бы ему. «Ну, Базен, нам пора. До свидания, Паламед! – сказала герцогиня – она пылала гневом и любопытством и уже не в силах была сдерживаться. – Если вы, Базен, намерены пробыть здесь до утра, тогда пойдемте ужинать. Из-за вас мы с Мари стоим тут битых полчаса». Герцог нарочито крепко обнял брата, и мы втроем подошли к необъятных размеров лестнице дома принцессы.
Обе стороны верхних ее ступеней были усеяны парами, поджидавшими свои экипажи. Герцогиня, статная, отчужденная, стояла слева, между мужем и мной, уже в манто, как на полотне Тьеполо, с ожерельем из рубинов, стягивавшим ей шею, и ее пожирали глазами мужчины и женщины, пытавшиеся проникнуть в тайну ее изящества и красоты. Дожидаясь экипажа на той же ступени, что и герцогиня Германтская, но только на противоположной стороне, герцогиня де Галардон, уже давно потерявшая надежду, что родственница когда-нибудь к ней пожалует, повернулась спиной, чтобы никто не подумал, что она видит Ориану, а главное – чтобы никто не заметил, что герцогиня Германтская с ней не здоровается. Герцогиня де Галардон была очень зла, потому что ее спутники не нашли ничего лучше, как заговорить об Ориане. «Я совсем не жажду встречаться с ней, – объявила герцогиня де Галардон. – Я ее только что видела на вечере – она начинает стареть и, должно быть, все никак не может с этим смириться. Ведь уж Базен прямо ей об этом говорит. И, право, я ее понимаю: она не умна, она – злюка, не умеет держать себя в обществе, – не может же она не сознавать, что, когда ее красота отцветет, у нее ничего больше не останется».
Я уже надел пальто, а герцог Германтский, спускаясь по лестнице, пожурил меня за это – он боялся, как бы не простудиться при выходе из жаркого помещения на воздух. Так как поколение людей из высшего круга, в той или иной степени прошедшее школу епископа Дюпанлу, говорит на ужасном французском языке (кроме семьи Кастелан), то герцог выразил свою мысль следующим образом: «Лучше, во всяком случае, в общей сложности не одеваться, пока не выйдете на улицу…» Я так и вижу этот уход гостей, так и вижу на лестнице, если только память мне не изменяет, портрет, отделившийся от рамы, – герцога Саганского, для которого этот выезд в свет оказался последним и который, свидетельствуя свое почтение герцогине, таким широким движением руки в белой перчатке под цвет гардении в его петлице снял цилиндр, что скорей можно было подумать, будто это фетровая шляпа с перьями, какие носили при старом режиме, тем более что на его лице отчетливо проступал особый, наследственный отпечаток того времени. Он постоял около герцогини очень недолго, но даже те позы, какие он принимал на одно мгновение, представляли собой живую картину, как бы сцену из исторической пьесы. Теперь его уже нет на свете, а при жизни я видел его мельком, и он стал для меня действительно историческим лицом – во всяком случае, человеком, игравшим роль в истории высшего света, – так что мне бывает трудно представить себе, что моя знакомая женщина или мужчина – это его сестра или племянник.
Когда мы спускались с лестницы, по ней поднималась с выражением утомленности, от которого она казалась интереснее, дама моложе своих лет, на вид – лет сорок. Это была, по слухам – внебрачная дочь герцога Пармского, принцесса д'Орвилье, в чьем нежном голосе слышался легкий австрийский акцент. В шелковом платье с цветами по белому полю, высокого роста, она шла, слегка наклоняясь, и сквозь брильянтовые и сапфировые доспехи видно было, как вздымается ее прелестная, усталая, тяжело дышащая грудь. Встряхивая головой, точно лошадь царя, которой мешает жемчужный недоуздок огромной ценности и непомерного веса, она задерживала свой мягкий, обворожительный взгляд на том, на другом из расходившихся гостей, с большинством приветливо здоровалась, и, по мере того как синева ее глаз меркла, их выражение становилось все ласковей. «Вы как раз вовремя, Полетта!» – заметила герцогиня. «Ах, мне так досадно! Но у меня действительно не было физической возможности», – ответила принцесса д'Орвилье: она переняла подобные обороты речи у герцогини Германтской, но только в ее устах – оттого что она была мягкой от природы – они звучали мягче, а кроме того, они были для нее органичнее, потому что в ее голосе, хотя он и отличался необычайной нежностью, все-таки ощущалась едва уловимая жесткость германского акцента. Она как будто намекала на трудности жизни, о которых долго рассказывать, а не на такие мелочи, как званые вечера, хотя сегодня она уже успела побывать на нескольких. Нет, не из-за них она приехала сюда так поздно. Принц Германтский в течение многих лет не разрешал своей жене принимать принцессу д'Орвилье; когда же запрет был снят, принцесса д'Орвилье в ответ на приглашения, – чтобы не подавать вида, будто она их жаждет, – только завозила карточки. Прошло года два-три, а потом она начала приезжать на вечера к Германтам, но только очень поздно, якобы после театра. Этим она показывала, что вовсе не стремится на званый вечер, не стремится к тому, чтобы все ее там видели, а приезжает с визитом к принцу и принцессе только ради них, из симпатии к ним, в такое время, когда больше половины гостей уже разъедется и ей можно будет «вполне насладиться их обществом». «Нет, правда, как низко пала Ориана! – брюзжала герцогиня де Галардон. – Я отказываюсь понимать Базена – как он позволяет ей разговаривать с принцессой д'Орвилье? От герцога де Галардона мне бы так за это досталось!» В принцессе д'Орвилье я узнал ту женщину, которая около дома Германтов смотрела на меня долгим завораживающим взглядом, оборачивалась, останавливалась у витрин. Герцогиня Германтская представила ей меня; принцесса д'Орвилье была со мной очаровательна – не чересчур любезна, но и не натянута. Кроткие ее глаза смотрели на меня так же, как смотрели на всех… Потом я уже больше не замечал при встречах с ней попыток к сближению. Иные взгляды как будто бы говорят о том, что вас узнали: так некоторые женщины – и некоторые мужчины – смотрят на молодого человека только до той минуты, когда они с ним знакомятся и выясняется, что и он дружен с их приятелями.
Нам объявили, что лошади поданы. Герцогиня Германтская, перед тем как спуститься с лестницы и сесть в экипаж, подобрала свою красную юбку, но тут она, быть может, почувствовав угрызения совести или желание доставить удовольствие, а главное – желание воспользоваться кратким временем, которое в силу обстоятельств было ей отпущено на эту скучнейшую церемонию, посмотрела на герцогиню де Галардон; затем, словно только сейчас заметив ее, по внезапному вдохновению перешла на другую сторону ступени и, подойдя к своей просиявшей родственнице, протянула ей руку. «Сколько лет, сколько зим!» – сказала она и, удовольствовавшись этой поговоркой, вмещавшей в себя и сожаление, и убедительные оправдания, испуганно оглянулась на герцога, а тот, уже спустившись вместе со мной, рвал и метал, видя, что его жена направилась к герцогине де Галардон и теперь задерживает другие экипажи. «Ориана все-таки еще очень хороша!» – заметила герцогиня де Галардон. – Мне смешно, когда говорят, будто между нами холодок; мы можем по причинам, которые вовсе не обязательно знать всем и каждому, не видеться годами, но нас связывает столько воспоминаний, что мы никогда не порвем друг с другом, и в глубине души она чувствует, что любит меня больше, чем многих других, с кем видится ежедневно, – людей не ее круга». Герцогиня де Галардон очень напоминала отвергнутую влюбленную, которая всячески пытается убедить других, что ее предмет пылает к ней более сильной страстью, нежели к тем, кого он пригревает на своей груди. Совершенно не думая о том, что за несколько минут до этого она говорила нечто прямо противоположное, герцогиня де Галардон этими похвалами герцогине Германтской косвенно доказала, что Ориана в совершенстве постигла правила, коими надлежит руководствоваться в жизни знатной даме, которая, заметив, что ее дивное платье вызывает не только восхищение, но и зависть, сообразит, что для того чтобы эту зависть обезоружить, ей нужно сию же минуту перейти на другую сторону лестницы. «По крайней мере хоть туфли-то не промочите» (только что прошла несильная гроза), – сказал герцог; он все еще кипел, оттого что его заставили ждать.
На обратном пути красные туфельки герцогини Германтской из-за тесноты в карете волей-неволей оказались близко от моих ног, и, боясь, как бы не толкнуть меня, герцогиня обратилась к мужу: «Молодой человек скоро скажет мне то же самое, что было подписано под какой-то карикатурой: „Сударыня! Как можно скорей признайтесь мне в любви, но только не наступайте мне на ноги“. А мои помыслы были сейчас далеко от герцогини Германтской. С тех пор как Сен-Лу рассказал мне про девушку благородного происхождения, посещающую дом терпимости, и про камеристку баронессы Пютбю, к этим двум женщинам устремлялись слитые воедино желания, ежедневно вызывавшиеся в моей душе множеством красавиц двух разрядов: вульгарных, ослепительных, величественных горничных из богатых домов, чванных, надутых, говоривших „мы“, когда они имели в виду герцогинь, и молодых девушек: даже если они не проезжали и не проходили мимо меня, я в них все-таки иногда влюблялся – стоило мне прочитать их имена в отчетах о балах, а затем, добросовестно изучив справочник, где указаны места их летнего пребывания (в именах я очень часто путался), мечтал то о жизни на равнинном Западе, то о жизни среди северных дюн, то о жизни среди сосновых лесов Юга. Но как я ни старался, основываясь на восторгах Сен-Лу, мысленно сплавить все самое обольстительное, что заключалось во внешности легкомысленной девицы и камеристки баронессы Пютбю, чтобы как можно яснее представить их себе, обеим доступным красавицам не хватало все же того, что могло бы мне открыться только при встречи с ними, – их индивидуальных особенностей. В течение нескольких месяцев, когда мне больше нравились девушки, я тщетно пытался вообразить, как сложена и кто такая та, о ком рассказывал мне Сен-Лу, а в течение нескольких месяцев, когда я предпочитал камеристку, я пытался вообразить себе камеристку баронессы Пютбю. Но зато какое спокойствие сменило во мне долго не утихавшую бурю желаний, вызывавшихся летучими существами, чьи имена часто так и оставались мне неизвестными, существами, с которыми в любом случае трудно было встретиться вновь, еще труднее – познакомиться и которых, пожалуй, нельзя было покорить, какое спокойствие я обрел, когда из всей этой рассеянной, летучей, безымянной красы выделились два предоставлявшихся мне на выбор образца с указателями, как их найти, и когда я уверил себя, что в любое время смогу заполучить их! Я отодвигал срок, когда я испытаю двойное наслаждение, так же как отодвигал срок начала работы, но вследствие уверенности в том, что я смогу испытать это наслаждение в любое время, оно уже становилось почти ненужным – так нам достаточно бывает только иметь под рукой снотворные средства, чтобы заснуть и без них. Во всем мире мне были желанны только две женщины, и хотя я не в силах был представить себе их лица, но их имена Сен-Лу мне назвал, поручившись за их податливость. Таким образом, давешнее сообщение Сен-Лу задало трудную задачу моему воображению, но зато моей воле оно дало ощутимую передышку, моей воле был предоставлен продолжительный отдых.
«Послушайте, – обратилась ко мне герцогиня, – на балах вы и так бываете, а в чем-нибудь другом я не могу быть вам полезна? Вы не хотите, чтобы я ввела вас в какой-нибудь салон?» Я высказал опасения, что единственный салон, куда мне хотелось бы попасть, она, наверное, считает далеко не блестящим. «Чей это?» – хриплым голосом, угрожающе, почти не разжимая губ, спросила она. «Баронессы Пютбю». Тут она сделала вид, что действительно возмущена. «Ну уж нет, ни в коем случае! Вы что, смеетесь надо мной? Мне чисто случайно известна фамилия этой твари. Это – отребье. Это все равно, что вы попросили бы меня познакомить вас с моей белошвейкой. Да нет, что я? Моя белошвейка – прелесть. Вы, дитя мое, немножко „того“. Но вот о чем я вас просто умоляю: будьте учтивы с теми, с кем я вас познакомила, завозите им карточки, бывайте у них и не заводите с ними разговора о баронессе Пютбю – они ее и знать-то не знают». Я спросил, не ветрена ли чуть-чуть принцесса д'Орвилье. «О нет, что вы! Вы ошибаетесь, она скорей недотрога. Правда, Базен?» – «Да, насколько я помню, о ней никогда ничего такого не было слышно», – ответил герцог.
– Вы не хотите поехать с нами на костюмированный бал? – обратился он ко мне. – Я дал бы вам венецианский плащ. Я знаю одну особу, которой ваше присутствие на балу доставило бы черт знает какое удовольствие. Об Ориане я не говорю, это само собой разумеется, – нет, я имею в виду принцессу Пармскую. Она вас все время расхваливает, ваше имя у нее на устах. Ваше счастье, – ведь она уже не первой молодости, – что ее нравственность не подлежит никакому сомнению. Иначе она наверняка сделала бы вас своим чичисбеем, как говаривали во времена моей юности, верным рыцарем, что ли.
Меня тянуло не на бал, а на свидание с Альбертиной. Поэтому я отказался. Карета остановилась, выездной лакей сказал, чтоб отворили ворота, лошади от нетерпения били копытами до тех пор, пока ворота не распахнулись, а затем экипаж въехал во двор. «Всех благ!» – сказал мне герцог. «Я иногда жалела, что живу так близко от Мари, – сказала герцогиня, – ее-то я очень люблю, а вот бывать у нее я люблю чуть-чуть меньше. Но я никогда еще так не жалела о том, что мы с ней живем поблизости, как сегодня, потому что из-за этого мне недолго пришлось ехать с вами». – «Довольно болтать, Ориана!» Герцогиня выразила желание, чтобы я хоть на минуточку к ним зашел. И она и герцог расхохотались, когда я сказал, что не могу зайти, так как именно сейчас ко мне должна прийти в гости девушка. «Нашли время, когда принимать гостей!» – заметила герцогиня.
– Ну, милая, идем, идем! – сказал жене герцог Германтский. – Без четверти двенадцать, пора надевать костюмы…
У дверей герцог столкнулся с грозно стоявшими на часах, не побоявшимися спуститься в ночное время со своей вершины, чтобы избавить герцога от неприятностей, двумя дамами с тросточками. «Базен! Мы спешили вас предупредить – боялись, как бы вы не поехали на бал: час назад скончался бедный Аманьен». Герцог растерялся. Он уж было подумал, что его мечта об этом замечательном бале рухнула, раз эти окаянные горянки известили его о кончине д'Осмонда. Но он тут же овладел собой и сказал родственницам фразу, в которой дал понять о своем решении не лишать себя удовольствия и одновременно доказал, что не понимает смысла некоторых слов: «Скончался? Да нет, это преувеличено, это преувеличено!» И, уже не обращая внимания на родственниц, которым предстояло совершить, опираясь на альпенштоки, ночное восхождение, забросал вопросами камердинера:
«Шлем доставили благополучно?» – «Благополучно, ваша светлость». – «А дырочку в нем проделали, чтобы можно было дышать? А то еще, черт побери, задохнешься!» – «Проделана, ваша светлость». – «Проклятье! Какой неудачный вечер! Ориана! Я забыл спросить Бабала, вам ли присланы башмаки с острыми носками». – «Дорогой мой! Костюмер из Комической оперы здесь, он нам скажет. Но я не думаю, чтобы на эти башмаки можно было надеть шпоры». – «Идем к костюмеру, – сказал герцог. – До свиданья, мой дорогой! Я бы с удовольствием позвал вас к нам, чтобы вы посмотрели, как мы будем примерять костюм, – это вам было бы интересно. Но мы заболтаемся, скоро полночь, а чтобы получить от увеселения полное удовольствие, нужно приехать вовремя».
Я тоже не чаял, как дождаться минуты, когда можно будет распрощаться с герцогом и герцогиней Германтскими. «Федра» кончалась в половине двенадцатого. Мы с Альбертиной должны были сойтись у меня в одно время. Я прошел прямо к Франсуазе: «мадемуазель Альбертина приехала?» – «Никто не приезжал».
Боже мой! Неужели она не приедет? Я разволновался; теперь, когда я не был уверен в том, что Альбертина приедет, мне особенно хотелось видеть ее.
Франсуаза тоже была раздосадована, но совсем по другой причине. Она только что усадила за стол свою дочь, чтобы накормить ее вкусным ужином. Услышав, что я иду, она сообразила, что не успеет убрать блюда и разложить иголки и нитки, как будто они тут работают, а не ужинают. «Я ей немножко супцу дала, да еще мозговую кость», – сказала Франсуаза – видимо, она хотела подчеркнуть скудность ужина, а на самом деле ужин был обильный, и поэтому она, вероятно, считала себя преступницей. Даже если я по неосторожности входил в кухню во время завтрака или обеда, Франсуаза делала вид, что все уже кончено, и извиняющимся тоном поясняла: «Я перекусила» или: «Я подзакусила». Но улики были налицо: стол был заставлен блюдами, которые застигнутая врасплох Франсуаза, словно злоумышленник, каковым на самом деле она не являлась, не успела убрать. Она обратилась к дочери: «Ну, иди ложись, ты и так уж наработалась сегодня (ей хотелось, чтобы мы думали, что ее дочка не только ничего нам не стоит и живет впроголодь, но еще и убивается ради нас над работой). Торчишь тут на кухне, только барину мешаешь – он гостей ждет. Иди, иди к себе наверх», – повторила она, точно ей надо было приказать дочери идти спать, хотя дочь, после того как ужин был прерван, оставалась в кухне только для приличия, и если б я задержался здесь на пять минут, она убралась бы отсюда по доброй воле. Затем, обернувшись ко мне, Франсуаза проговорила на прекрасном народном языке, принимавшем порой легкую окраску ее личных языковых пристрастий: «Поглядите-ка, сударь: она и с лица-то спала – так ее тянет на боковую». Я был счастлив, что избавился от разговора с дочерью Франсуазы.
Я уже говорил, что Франсуаза и ее дочь родились хотя и в соседних, но в разных сельских местностях, отличавшихся одна от другой и почвой, и растительностью, и говором, а главное – характерными особенностями жителей. Вот почему «мясничиха» и племянница Франсуазы очень плохо понимали друг друга, но зато у них была одна общая черта: если их куда-нибудь посылали, они несколько часов просиживали у родной сестры или у двоюродной, все никак не могли кончить разговор, в конце концов у них вылетало из головы, зачем же их посылали, так что когда они возвращались и их спрашивали: «Ну так как же, к маркизу де Норпуа можно приехать в четверть седьмого?» – они даже не хлопали себя по лбу и не восклицали: «Ах ты, совсем из головы вон!» – они отвечали: «А я не поняла, что маркиза нужно было об этом спросить, – я думала, ему надо только передать поклон». «Котелок не варил» у них настолько, что они не понимали, о чем им было сказано час тому назад, а с другой стороны, у них никакими силами нельзя было выбить из головы то, что в ней засело после разговора с родной сестрой или двоюродной. Так, «мясничиха» от кого-то слышала, что англичане воевали с нами в 70-м году, тогда же, когда и пруссаки, и сколько я ни объяснял ей, что это неверно, она каждый месяц повторяла, если приходилось к слову: «Это все оттого, что англичане воевали с нами в семидесятом году, тогда же, когда и пруссаки». – «Да я же вам сто раз говорил, что вы ошибаетесь!» Дальнейший ход ее рассуждений свидетельствовал, что она осталась непоколебима в своих взглядах на историю: «Пора бы уж и перестать на них злиться. С семидесятого-то года много воды утекло» и т. д. А как-то раз, доказывая необходимость войны с Англией, против чего я восставал, она заявила: «Конечно, всегда лучше, чтоб без войны; но уж если без нее не обойтись, так уж лучше скорей. Слыхали, что сестра сейчас говорила? С тех пор, как англичане воевали с нами в семидесятом году, торговые договоры для нас – сплошное разоренье. А когда мы их разобьем, то во Францию не впустят ни одного англичанина, пока он не заплатит трехсот франков за въезд, как вот мы платим теперь, чтобы поехать в Англию».
Таковы были, – если не считать безукоризненной честности и дикого упрямства, какое они выказывали в разговоре, не давая перебивать себя, с каким они двадцать раз начинали одно и то же, если их перебивали, что придавало их речам нерушимое тематическое единство фуги Баха, – таковы были отличительные особенности жителей сельской местности, которых и всего-то было не более пятисот, местности, окаймленной каштанами, ивами, картофельными и свекловичными полями.
А вот дочь Франсуазы, считавшая себя женщиной современной, чуждавшаяся пережитков старины, говорила на парижском жаргоне и не упускала случая ввернуть каламбур. Если Франсуаза говорила ей, что я был в гостях у принцессы, то она добавляла: «А! Наверно, у принцессы на горошине». Когда речь заходила о нашем привратнике, она считала нужным вставить: «Ваш привратник любит приврать». Это было не очень остроумно. Но особенно неприятно меня покоробило, когда она в связи с опозданием Альбертины сказала мне в утешение: «Не дождаться вам ее до скончания века. Не придет она. Ох уж эти нынешние сударки!»
Приведенные примеры показывают, что она говорила иначе, чем мать; но вот что представляется еще более любопытным: мать говорила не совсем так, как бабушка, уроженка Байо-ле-Пен. Байо-ле-Пен находится в ближайшем соседстве с родиной Франсуазы, и все же говор в этих двух местностях не один и тот же, как и природа. В волнистой, спускающейся к лощине местности, где родилась мать Франсуазы, растут ивы. Между тем очень далеко оттуда есть во Франции сторонка, где говорят почти так же, как в Мезеглизе. Это сделанное мною открытие обозлило меня. Вот как это вышло: однажды мне довелось услышать оживленную беседу Франсуазы с горничной из нашего дома, уроженкой как раз той местности и говорившей на тамошнем наречии. Они почти все понимали друг у друга, я же ничего не понимал, они это знали и все-таки продолжали, – находя, должно быть, для себя оправдание в том радостном чувстве, какое испытывают при встрече землячки, хотя и родившиеся в разных концах страны, – говорить в моем присутствии на своем языке, как обычно предпочитают люди, когда не хотят, чтобы их поняли. Эти наглядные уроки географической лингвистики и служаночьего товарищества происходили потом у нас на кухне еженедельно и не доставляли мне ни малейшего удовольствия.
У нас в доме каждый раз, когда отворялись ворота, швейцар нажимал кнопку, чтобы осветить лестницу: к этому времени все жильцы обыкновенно возвращались домой; я поспешил уйти из кухни в переднюю и, усевшись, прильнул к той части стеклянной двери, которую не закрывала узковатая для нее портьера, отчего на этой двери, ведшей в нашу квартиру, темнела вертикальная полоса – отражение полутьмы, обволакивавшей лестницу. Если бы полоса стала вдруг светло-золотой, это значило бы, что Альбертина внизу и через две минуты будет здесь; никто больше не мог прийти в этот час. И я все сидел, не отрывая глаз от упорно темневшей полосы; я наклонялся всем туловищем, чтобы лучше было видно; но, как я ни вглядывался, темная вертикальная черта, наперекор страстному моему желанию, не возбуждала во мне той разымчивости, какая охватила бы меня, если б на моих глазах, по внезапному и знаменательному волшебству, черта преобразилась в светящийся золотой прут. Я действительно волновался – и из-за кого? Из-за Альбертины, о которой на вечере у Германтов почти забыл думать! Боязнь лишиться простого физического наслаждения, обострявшая во мне нетерпеливое чувство, с каким я, бывало, ждал других девушек, в особенности – Жильберту, если она запаздывала, причиняла мне нестерпимую душевную боль.
Мне ничего иного не оставалось, как уйти к себе в комнату. Вслед за мной сюда вошла Франсуаза. Полагая, что коли я вернулся с вечера, то розу незачем оставлять в петлице, она пришла вынуть ее. Движение Франсуазы, напомнив мне о том, что Альбертина, пожалуй, не придет, и заставив признаться самому себе, что мне хотелось быть элегантным ради нее, вызвало во мне раздражение, еще усилившееся оттого, что, дернувшись, я смял розу, и оттого, что Франсуаза сказала мне: «Нечего было упрямиться, а теперь вот цветок никуда не годится». Надо заметить, что сейчас самое незначащее ее слово выводило меня из себя. В состоянии ожидания мы очень страдаем оттого, что желанное существо к нам не идет, и присутствие кого-то другого становится для нас невыносимым.
Когда Франсуаза вышла из комнаты, я подумал о том, как жаль, что теперь я ради Альбертины навожу на себя красоту, а прежде, в те вечера, когда я звал ее для новых ласк, она столько раз видела меня небритым, с не подстригавшейся несколько дней бородой! У меня было такое ощущение, что она про меня забыла, что меня ждет одиночество. Чтобы как-то украсить мою комнату на тот случай, если бы Альбертина все-таки пришла, я – в первый раз за несколько лет – положил на стол, около кровати, одну из самых красивых моих вещей: портфельчик с инкрустацией из бирюзы, который Жильберта подарила мне для того, чтобы я в нем держал книжечку Бергота, и с которым я долго не расставался даже во время сна, кладя его рядом с агатовым шаром. Томительное чувство вызывала во мне не только мысль, что Альбертины все нет как нет, но и сознание, что она находится сейчас «где-то там», в месте, более ей приятном, но мне неизвестном, и вот это сознание, вопреки тому, что я час назад говорил Свану относительно моей неспособности ревновать, могло бы, если б я виделся с моей подружкой чаще, превратиться в мучительную потребность знать, где и с кем она проводит время. Я не решался послать к Альбертине: было слишком поздно, но в надежде, что, быть может, ужиная с подругами в кафе, она вздумает мне позвонить, я переключил телефон из швейцарской к себе, тогда как обычно в ночное время связь со станцией поддерживал только швейцар. Казалось бы, проще и удобнее поставить аппарат в коридорчике, куда выходила комната Франсуазы, но толку от этого не было бы никакого. Успехи цивилизации каждому дают возможность обнаружить ранее не замечавшиеся за ним достоинства или новые пороки, из-за которых он становится еще дороже или, напротив, еще несноснее своим знакомым. Так, из-за открытия Эдисона у Франсуазы открылся еще один недостаток, проявлявшийся в том, что она не желала пользоваться телефоном, хотя бы это было удобно, хотя бы это было крайне необходимо. Она всегда находила предлог увильнуть, когда ее хотели научить пользоваться телефоном, так же как иные увиливают от прививки. Вот почему телефон поставили у меня в комнате, а чтобы он не мешал моим родителям, звонок заменили треском вертушки. Из боязни, что я не услышу этот треск, я не шевелился. Я так тихо сидел, что впервые за несколько месяцев тиканье стенных часов касалось моего слуха. Вошла Франсуаза, чтобы поставить что-то на место. Она заговорила со мной, но мне была противна ее однообразно пошлая болтовня, под непрерывный звук которой мои чувства менялись каждую минуту, переливаясь из страха в тревогу, из тревоги в полное отчаяние. Я поневоле выражал ей в самых неопределенных словах свое удовлетворение и в то же время чувствовал, какой у меня несчастный вид, так что в конце концов мне пришлось сослаться на ревматизм, чтобы объяснить несоответствие между моим напускным безразличием и страдальческим выражением лица; вдобавок я боялся, как бы Франсуаза, хотя говорила она вполголоса (не из-за Альбертины, так как была уверена, что в столь поздний час она не явится), не заглушила спасительный зов, который больше не повторится. Наконец Франсуаза пошла спать; я выпроводил ее ласково, но решительно, чтобы из-за той возни, какую она могла бы поднять перед тем как уйти, не пропустить треск телефона. И снова я начал прислушиваться, начал терзаться; когда мы ждем, двойное расстояние от уха, воспринимающего звуки, до сознания, которое сортирует их и анализирует, и от сознания до сердца, которому оно сообщает итог, укорачивается, так что мы даже не ощущаем его длины – нам кажется, что мы слушаем сердцем.
Меня донимали беспрестанные приступы все более настойчивого, но так пока и не исполнявшегося желания услышать призывный звук; когда же я совершил по спирали мучительное восхождение на самый верх одинокой моей тоски, из недр многолюдного ночного Парижа, внезапно приблизившегося ко мне, к моим книжным шкафам, послышался металлический, дивный, точно развевающийся шарф в «Тристане» или игра пастушьей свирели, звук телефонной вертушки. Я бросился к аппарату – звонила Альбертина. «Ничего, что я так поздно?..» – «Что вы! – ответил я, сдерживая радость, а радость была вызвана тем, что упоминание о неурочном часе, скорей всего, означало, что Альбертина придет сейчас, придет так поздно, и извиняется передо мной за это, а не за отказ прийти. – Вы придете?» – равнодушным тоном спросил я. «Пожалуй… нет, если только вам не очень трудно будет без меня».
Одной частью моего существа, к которой тянулась и другая, я жил в Альбертине. Она во что бы то ни стало должна была прийти ко мне, но сразу я ей этого не сказал; так как теперь между нами возникла телефонная связь, я решил, что и в последнюю секунду смогу заставить ее прийти ко мне или разрешить примчаться к ней. «Да, я очень близко от своего дома, – сказала она, – и Бог знает как далеко от вас. Я сперва невнимательно прочитала вашу записку. Сейчас я ее перечла и испугалась, что вы все еще меня ждете». Я чувствовал, что она говорит неправду, и теперь, от злости, мне хотелось заставить ее прийти не столько потому, что я мечтал с ней увидеться, сколько для того, чтобы причинить ей беспокойство. Но меня подмывало сперва отказаться от того, что вскоре должно было быть достигнуто мною. Но где же она? К звукам ее голоса присоединялись другие звуки: гудок мотоциклиста, пение женщины, дальняя игра духового оркестра, и все это слышалось не менее явственно, чем милый голос, словно для того, чтобы доказать мне, что это именно Альбертина, вместе со всем, что сейчас ее окружает, – тут со мной, – так ком земли мы уносим вместе с травой. Те же звуки, что долетали до меня, впивались и в слух Альбертины и отвлекали ее: то были жизненные подробности, не имевшие к ней отношения, сами по себе ненужные, но необходимые для того, чтобы подтвердить несомненность чуда, прелестные скупые мазки, воссоздававшие какую-нибудь парижскую улицу, или резкие, жесткие, живописавшие какой-то званый вечер, из-за которого Альбертина не пришла ко мне после «Федры». «То, что я вам сейчас скажу, не поймите как просьбу приехать; в такой поздний час ваш приезд был бы для меня очень утомителен, я и без того умираю как хочу спать… – сказал я. – И потом тут какая-то страшная путаница. Смею вас уверить, что в моем письме никаких недомолвок не было. Вы мне ответили, что непременно. Ну так если вы не поняли моего письма, что же вы хотели этим сказать?» – «Я действительно сказала: непременно, вот только не могу вспомнить, что непременно. Но вы сердитесь, – это мне неприятно. Я жалею, что пошла на „Федру“. Если б я знала, что из этого выйдет целая история…» – добавила она – так всегда говорят в чем-либо виноватые, но притворяющиеся, будто они убеждены, что их обвиняют в чем-то другом. «Федра» тут ни при чем – ведь это я уговорил вас на нее пойти». – «А все-таки вы на меня обиделись; жаль, что сейчас поздно, но завтра или послезавтра я приеду и извинюсь». – «Нет, нет, Альбертина, не надо, я из-за вас потерял вечер, оставьте меня в покое хоть на несколько дней. Я буду свободен не раньше, чем через две-три недели. Послушайте: если вам неприятно, что мы с вами расстаемся, поссорившись, – и, пожалуй, вы правы, – я предлагаю вам, – мы тогда будем по части усталости квиты, – раз уж я вас так долго ждал и раз вы все равно еще не дома, приехать ко мне сейчас же; я выпью кофе для бодрости». – «А нельзя ли до завтра? Ведь утомительно…» Уловив в этом ее виноватом тоне нежелание ехать ко мне, я почувствовал, что к жажде увидеть вновь лицо с бархатистым отливом, которое уже в Бальбеке подгоняло каждый мой день к тому мгновенью, когда на берегу сентябрьского сиреневого моря со мной рядом окажется этот розовый цветок, сейчас ценою отчаянных усилий старался присоединиться совершенно другой оттенок. Мучительную потребность в том, чтобы кто-то был со мной, я испытывал еще в Комбре, когда мне хотелось умереть, если мать передавала через Франсуазу, что не может подняться в мою комнату. Венцом усилий прежнего чувства сочетаться, слиться с другим, новым, сладострастно тянувшимся к разрисованной поверхности, к розовой окраске прибрежного цветка, – венцом этих усилий часто являлось (в химическом смысле) новое тело, существующее всего лишь несколько мгновений. По крайней мере, в тот вечер и еще долго потом оба чувства пребывали разобщенными. Однако, услышав последние слова, которые Альбертина проговорила в телефонную трубку, я начал понимать, что жизнь Альбертины (конечно, не материально) находится на таком расстоянии от меня, что для того чтобы залучить ее к себе, мне каждый раз придется производить длительную разведку, мало того: что ее жизнь устроена так же, как полевые укрепления, да не просто как полевые, а – для большей надежности – как те, что впоследствии получили наименование камуфлированных. Альбертина хоть и стояла на более высокой ступени общественной лестницы, но, в сущности, принадлежала вот к какому разряду женщин: вашему посыльному консьержка обещает передать ваше письмо одной особе, как только та вернется домой, а потом вы случайно узнаете, что особа, которую потом вы встретили на улице и которой вы потом имели неосторожность написать письмо, и есть эта самая консьержка. Она действительно живет – но только в швейцарской – в доме, на который она вам показала рукой (на самом деле это маленький дом свиданий, хозяйкой которого является она). Это жизнь, защищенная несколькими рядами окопов, так что, когда вам захочется увидеть эту женщину и допытаться, кто же она, окажется, что вы забрали слишком вправо или слишком влево, зашли слишком далеко вперед или назад, и так пройдет несколько месяцев, несколько лет, а толку вы все равно не добьетесь.
Я чувствовал, что ничего не узнаю про Альбертину и что мне никогда не выпутаться из переплетения множества достоверных подробностей и придуманных фактов. И что так будет всегда, до самого конца, если только не засадить ее в тюрьму (но ведь и заключенные совершают побеги). В тот вечер эта догадка отзывалась во мне легким волнением, но уже тогда в этом волнении я смутно различал трепет предчувствия долгих страданий.
«Нет, нет, – ответил я, – я ведь вам уже сказал, что освобожусь через три недели, не раньше, и завтра у меня такой же занятой день, как все остальные». – «Ну хорошо… бегу… жаль только, что я у подруги, а она…» (Я уловил в ее голосе надежду на то, что я отвергну ее предложение, которое, следовательно, было сделано нехотя, и решил припереть ее к стенке.) – «До вашей подруги мне никакого дела нет, хотите – приезжайте, как вам будет угодно, ведь не я просил вас приехать, вы сами предложили». – «Не сердитесь, сейчас возьму фиакр, и через десять минут – я у вас».
Итак, из ночной глубины Парижа, откуда уже достиг моей комнаты, определяя радиус действия далекого от меня существа, голос, который вот сейчас возникнет и появится здесь, после этой благой вести ко мне придет та самая Альбертина, которую я в былое время видел под небом Бальбека, когда официантов, расставлявших приборы в Гранд-отеле, слепил свет заката, когда в распахнутые настежь окна с берега, где все еще оставались последние гуляющие, неразличимые веянья вечернего ветра свободно вливались в громадную столовую, где первыми пришедшие ужинать только еще рассаживались, где в зеркале за стойкой проплывал красный отсвет последнего парохода, отходившего в Ривбель, и где надолго оставался серый отсвет его дыма. Я уже не задавал себе вопроса, почему Альбертина опоздала, а когда Франсуаза, войдя ко мне, объявила; «мадемуазь Альбертина пришла», – я, не поворачивая головы, выразил наигранное изумление: «мадемуазь Альбертина? Так поздно?» Но, подняв затем глаза на Франсуазу, как будто мне любопытно было узнать, ответит ли она утвердительно на мой вопрос, заданный притворно искренним тоном, я со смешанным чувством восхищения и ярости обратил внимание на то, что, не уступавшая самой Берма в искусстве наделять даром речи неодушевленные одежды и черты лица, Франсуаза научила, как нужно себя вести в данных обстоятельствах и свой корсаж, и свои волосы, из коих самые седые, извлеченные на поверхность в замену метрического свидетельства, облегали ее шею, согнутую под бременем переутомления и покорности. Они были преисполнены к ней сочувствия: ведь ее разбудили глухою ночью, – в ее-то годы, – вытащили из парного тепла постели, заставили наспех одеться – долго ли подхватить воспаление легких? Вот почему, боясь, как бы Франсуаза не подумала, что я извиняюсь перед ней за поздний приход Альбертины, я добавил: «Во всяком случае, я ей очень рад, это просто чудесно» – и начал бурно выражать свой восторг. Однако беспримесным этот восторг оставался только до той минуты, когда заговорила Франсуаза. Ни на что не жалуясь, даже делая вид, что она силится сдержать бьющий ее кашель, и лишь зябко кутаясь в шаль, она принялась пересказывать мне все, о чем она сейчас говорила с Альбертиной – вплоть до вопроса, как поживает ее тетка. «Я ей так прямо и отрезала: барин, мол, должно, думает, что вы уж не придете: кто же это в такую пору приезжает – ведь на дворе-то скоро утро. Но она, должно, была в таких местах, где уж больно весело, потому она даже ничего не сказала мне: дескать, ей неприятно, что вы ее долго ждали, – чихать она, как видно, на это хотела. „Лучше поздно, чем никогда!“ – вот что она мне ответила». К этому Франсуаза прибавила, пронзив мне сердце: «Может, она и дорого бы дала, чтоб все было шито-крыто, да…»
Во всем этом для меня не было ничего поразительного. Я уже говорил, что Франсуаза, исполнив поручение, предпочитала давать отчет в том, что сказала она, – свои слова она пересказывала по многу раз и с особым удовольствием, – но не в том, что ответили ей. Если же, в виде исключения, она и передавала нам вкратце ответ наших добрых знакомых, то старалась, чтобы мы, иной раз – в выражении, какое принимало ее лицо, иной раз – в тоне, почувствовали то более или менее обидное для нас, что, как она уверяла, угадывалось в их выражении и тоне. В крайнем случае, она довольствовалась сообщением, что поставщик, к которому мы ее посылали, оскорбил ее, – скорее всего, тут она просто сочиняла, – но придавала она своему рассказу такой оттенок, что хотя оскорбил-то он ее, но поскольку она является нашей представительницей и говорит от нашего имени, то оскорбление, нанесенное ей, рикошетом задевает и нас. Приходилось разубеждать ее: она-де не так поняла, у нее мания преследования, не могут же торговцы, все до одного, на нее ополчиться. Но переживания торговцев меня мало трогали. Иначе обстояло дело с Альбертиной. Как только Франсуаза повторила мне сказанные Альбертиной в шутку слова: «Лучше поздно, чем никогда!», моему воображению тотчас же представились приятели, в обществе которых Альбертина провела остаток вечера и с которыми ей было, очевидно, веселей, чем со мной. «Смешная она; шляпенка у нее как все равно блин, а сама глазастая – смотреть-то на нее умора, а уж пальтишко – давным-давно в починку просится: все как есть молью трачено. Чудная!» – с язвительным оттенком в голосе добавила Франсуаза, – хотя ее впечатления редко совпадали с моими, но ей всегда не терпелось поделиться ими со мной. Я даже и вида не хотел подать, что улавливаю в ее тоне презрение и насмешку, но, только чтобы не смолчать, возразил Франсуазе, хотя никогда не видел той шляпки, о которой она говорила: «То, что вы называете „блином“, на самом деле прелестная шляпка…» – «Да за нее гроша ломаного никто не даст», – прервала меня Франсуаза, на сей раз откровенно выразив свое презрение. Тут я – ласковым тоном, растягивая слова, чтобы ложь, содержавшаяся в моем ответе, воспринималась как выражение не злобы, а самой истины, и вместе с тем не теряя времени, чтобы не заставлять Альбертину ждать, – сказал Франсуазе обидные слова. «Вы чудный человек, – медоточиво заговорил я, – вы милейший человек, у вас уйма достоинств, но какой вы приехали в Париж, такой и остались: вы по-прежнему ничего не смыслите в туалетах и по-прежнему произносите слова курам на смех». Последний упрек был особенно бессмыслен: французские слова, правильным произношением которых мы так гордимся, сами могут «насмешить кур», так как ими «смешили кур» галлы, коверкавшие то латинский, то саксонский язык, а ведь наш язык есть не что иное, как неправильное произношение слов, появившихся в других языках. Свойства живой речи, будущее и прошлое языка – вот что должно было бы привлечь мое внимание в ошибках Франсуазы. «Трачено» вместо «изъедено» – не столь же ли это любопытно, как животные, сохранившиеся с незапамятных времен, вроде кита или жирафа, и показывающие, через какие периоды прошел животный мир?
«И, – прибавил я, – раз уж вы за столько лет ничему не научились, то уж теперь так и не научитесь. В утешение могу вам сказать, что это не мешает вам быть хорошим человеком, превосходно готовить говядину в желе и много всякого другого. Шляпка, которая вам показалась простенькой, сделана по образцу шляпы герцогини Германтской, а шляпа герцогини стоила пятьсот франков. Впрочем, в ближайшее время я хочу подарить мадемуазель Альбертине новую, еще лучше этой». Я знал, что нет ничего горше для Франсуазы, чем когда я трачусь на тех, кого она невзлюбила. Она что-то ответила мне, но я не разобрал, потому что с ней вдруг случился приступ удушья. Когда я потом узнал, что у нее больное сердце, как же мучила меня совесть при мысли, что я никогда не мог отказать себе в бесчеловечном и бесплодном удовольствии с ней препираться! Надо заметить, что Франсуаза не выносила Альбертину – от дружбы с беднячкой Альбертиной я ничего не выигрывал сверх тех преимуществ, какие я имел в глазах Франсуазы. Франсуаза благосклонно улыбалась каждый раз, когда меня приглашала к себе маркиза де Вильпаризи. А что Альбертина никогда не зовет меня в гости – это ее возмущало. В конце концов я стал врать, будто такие-то и такие-то вещи подарила мне Альбертина, но Франсуаза ни на волос мне не верила. Особенно не нравилось ей отсутствие основы взаимности в области угощения. Альбертина приходила к нам обедать, если ее звала моя мама, а нас к г-же Бонтан не приглашали (надо сказать, что г-жа Бонтан по полгода не жила в Париже, потому что ее муж, как и в былое время, когда ему становилось невмоготу в министерстве, занимал то одну, то другую «должность» в других городах), и Франсуаза находила, что со стороны моей подружки это неучтиво, на что она и намекала, припоминая комбрейскую прибаутку:
Я сделал вид, что пишу письмо. «Кому это вы писали?» – спросила, войдя, Альбертина. «Одной моей близкой приятельнице, Жильберте Сван. Вы ее не знаете?» – «Нет». Я не стал расспрашивать Альбертину, как она провела вечер; я чувствовал, что начну упрекать ее, а время было уже позднее, мы бы не успели помириться окончательно, и у нас не хватило бы времени для поцелуев и ласк. Вот почему мне хотелось прямо с них и начать. Я стал чуть-чуть спокойнее, но, по правде сказать, у меня не было ощущения, что я счастлив. Чувство утраты компаса, утраты ориентации, характерное для ожидания, не исчезает и после прихода ожидаемого нами человека, – оно, это чувство, вытесняет спокойствие, а ведь именно успокаиваясь, мы и представляли себе появление ожидаемого как огромную радость, но из-за ощущения утраты нам ее вкусить не дано. Альбертина была со мной; расшатанные мои нервы, по-прежнему взвинченные, все еще ждали ее. «Я хочу крепкого поцелуя, Альбертина». – «Сколько угодно, – ответила она, и в этом ответе сказалась вся ее добрая душа. Сейчас она была необыкновенно хороша собой. – Еще?» – «Вы же знаете, что это для меня огромное наслаждение, огромное!» – «А для меня – еще гораздо большее, – подхватила она. – Ах, какой у вас прелестный портфель!» – «Возьмите его себе, я вам его дарю на память». – «Как это мило с вашей стороны!..» Мы раз навсегда исцелились бы от всего романтического, если бы, думая о той, кого мы любим, постарались быть такими, какими станем, когда разлюбим ее. Портфель, агатовый шар Жильберты – все это прежде было мне дорого, но дорого только моей душе, – ведь теперь в моих глазах они представляли собой самый обыкновенный портфель, самый обыкновенный шар.
Я спросил Альбертину, не хочется ли ей пить. «А вон, кажется, апельсины и вода, – сказала она. – На что же лучше?» Таким образом, вместе с поцелуями Альбертины я насладился той свежестью, которая у принцессы Германтской была для меня отраднее свежести поцелуев. Я пил апельсиновый сок с водой, и мне казалось, что он открывал мне тайну созревания плода, открывал мне свое благотворное действие на иные состояния человеческого организма, принадлежащего к миру, столь непохожему на его мир, не таил своего бессилия оживить человеческий организм, но зато обрызгивал его влагой, которая все-таки могла быть ему полезна, – одним словом, сок плода доверил множество тайн моему чувству, но только не уму.
Когда Альбертина ушла, я вспомнил, что обещал Свану написать Жильберте, и решил, что надо это сделать теперь же. Не испытывая ни малейшего волнения, словно доканчивая скучное школьное сочинение, я надписал на конверте имя Жильберты Сван, которым некогда исчерчивал все свои тетради, чтобы создать себе иллюзию переписки с ней. Ведь если прежде имя Жильберты писал я сам, то теперь привычка возложила эту обязанность на одного из многочисленных секретарей, которых она взяла себе в помощники. Секретарь мог совершенно спокойно выписывать имя Жильберты – ведь его совсем недавно устроила ко мне привычка, он совсем недавно поступил ко мне на службу, с Жильбертой он был незнаком, он слышал о ней от меня и знал только, что это девушка, в которую я был влюблен, но за этими словами ничего реального для него не стояло.
У меня не было оснований обвинять Жильберту в холодности. Тот, кем я был теперь по отношению к ней, представлял собою «свидетеля», самого подходящего для того, чтобы осознать, кем была для меня она. Портфель, агатовый шар просто-напросто вновь обрели для меня в моих отношениях с Альбертиной то же значение, какое они имели для Жильберты, то, какое они могли бы иметь для каждого человека, который не бросает на них отблеск внутреннего своего огня. Но теперь моя душа была по-иному смятенна, и это новое смятение тоже искажало понятие об истинной силе слов и вещей. И когда Альбертина, еще раз благодаря меня, воскликнула: «Я так люблю бирюзу!» – я ответил ей: «Так пусть же она у вас не потускнеет!» – вверяя прочности этих камней судьбу нашей дружбы, хотя всякий разговор о будущем был так же бессилен вызвать чувство ко мне у Альбертины, как был он бессилен сохранить чувство, некогда связывавшее меня с Жильбертой.
В те времена наблюдалось явление, заслуживающее упоминания единственно потому, что оно повторяется во все важные исторические эпохи. Когда я писал Жильберте, герцог Германтский, приехав с бала и еще не успев снять шлем, подумал о том, что завтра ему волей-неволей придется надеть траур, и решил на неделю раньше уехать лечиться на воды. Возвратился он через три недели (я забегаю вперед – ведь я только-только дописал письмо Жильберте), и тут друзья герцога, знавшие, что он, в начале дела Дрейфуса проявлявший к нему полнейшее равнодушие, стал потом злейшим антидрейфусаром, остолбенели, услышав от него (можно было подумать, что действие вод распространяется не только на мочевой пузырь) такие слова: «Ну что ж, дело будет пересмотрено, и его оправдают; как же можно осудить человека, когда нет никаких улик? Это надо быть таким слабоумным, как Фробервиль. Офицер готовит для французов побоище, попросту говоря – войну! Вот времечко!» Дело в том, что на водах герцог Германтский познакомился с тремя прелестными дамами (с итальянской принцессой и двумя ее золовками). Услышав их суждения о книгах, которые они читали, о пьесе, которая ставилась в Казино, герцог живо смекнул, что эти женщины умственно развитее его, что, по его собственному выражению, ему с ними не тягаться. Вот почему его так обрадовало приглашение принцессы играть с ними в бридж. Велико же было его изумление, когда он, едва успев войти к принцессе, в пылу своего нетерпимого антидрейфусарства брякнул: «Ведь с пересмотром-то дела пресловутого Дрейфуса все затихло», а принцесса и ее золовки возразили ему: «Напротив, это вопрос ближайшего будущего. Нельзя же держать в каторжной тюрьме ни в чем не повинного человека». – «Да что вы?» – растерянно пролепетал герцог, как будто он узнал, что в этом доме в насмешку над человеком, которого он привык считать умным, дали ему унизительное прозвище. Но несколько дней спустя, подобно тому как мы только по малодушию и из обезьянства, не понимая, в чем тут соль, орем: «Эй, Жожот!» великому артисту, которого так назвали при нас в одном доме, герцог хотя и неуверенно, а все-таки мямлил: «Ну, конечно, раз там ничего такого нет…» Три прелестные дамы находили, что он недостаточно решительно порывает со своими прежними взглядами, и были с ним резковаты: «Да ни один умный человек никогда и не думал, что там что-то есть». Всякий раз, когда против Дрейфуса выдвигалось что-нибудь «потрясающее» и герцог, надеясь переубедить трех прелестных дам, сообщал им новость, они весело смеялись и без труда, с необычайной диалектической тонкостью доказывали ему, что его довод никуда не годится, что он просто смехотворен. Герцог вернулся в Париж рьяным дрейфусаром. И, конечно, мы не станем отрицать, что в данном случае глашатаями истины явились три прелестные дамы. Но все же заметим кстати, что обычно каждые десять лет происходит следующее: даже если человек в чем-либо глубоко убежден, с ним заводят знакомство умные муж и жена или хотя бы одна прелестная дама – и под их влиянием в каких-нибудь несколько месяцев его взгляды круто меняются. Да что там: многие страны ведут себя так же, как этот убежденный человек, многие страны дышат ненавистью к какому-нибудь народу, но проходит полгода – и они преисполняются к нему совсем других чувств и рвут отношения с бывшими союзниками.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу
1
Я не говорю по-французски (англ.).
2
Перевод Мих. Донского.
3
Перевод Мих. Донского.
4
Перевод Мих. Донского.
5
В последний момент (лат.) .
6
Прием гостей в саду (англ.) .
7
Хлеба и зрелищ (лат.) .
8
Здесь: по одному судят обо всех остальных (лат.).
9
Геометрическим способом (лат.) .
10
Сладко, когда на просторах морских… (лат.) – Лукреций. О природе вещей, II, 1–6, перевод Ф. Петровского.
11
Помни, что ты прах (католическая молитва ).
12
Перевод Мих. Донского.