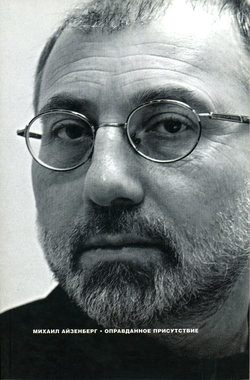Читать книгу Оправданное присутствие: Сборник статей - Михаил Айзенберг - Страница 3
I
Возможность высказывания
ОглавлениеВ 1936–1937 годах поэт Александр Введенский написал одну из самых замечательных своих вещей – «Некоторое количество разговоров». Второй по счету «Разговор об отсутствии поэзии» кончается серией кратких ремарок: «Певец сделал паузу. Диван исчез. Певец умер. Что он этим доказал». Вопросительный знак в конце предложения отсутствует. Автор не спрашивает, а утверждает: певец этим доказал ЧТО. Все нижеследующее есть, собственно, попытка хоть немного разобраться в природе этого ЧТО.
Видимо, в первую очередь следует обратиться к поэтической практике самого Введенского и группы ОБЭРИУ: Объединения Реального Искусства. На слово «реальное» в этом сочетании обычно не обращают внимания, воспринимая его, возможно, как очередное чудачество авторов-эксцентриков, вроде буквы У в названии группы. В манифесте объединения (написанном, по-видимому, Заболоцким) как раз о «реальности» говорится мимоходом и с пропагандистским пафосом. Значительно более внятной и вдохновенной декларацией этой идеи стало частное письмо Хармса 1933 года: «Истинное искусство стоит в ряду первой реальности, оно создает мир и является его первым отражением».
Искусство реально, если оно осуществимо «здесь и теперь». Желаемое, воображаемое искусство превращается в «протокол о намерениях». Намерения, как правило, благие. Реальное искусство определяется реальностями языка и меняющимся отношением к слову. «Глаголы на наших глазах доживают свой век, – пишет Введенский в „Серой тетради“. – В искусстве сюжет и действие исчезают. Те действия, которые есть в моих стихах, нелогичны и бесполезны, их нельзя уже назвать действиями… События не совпадают с временем. Время съело события. От них не осталось косточек». Не случайно ревизия наличного языка, предпринятая Введенским, началась с глаголов и глагольных форм: именно глагольное управление есть чистая инерция языковых правил – иллюзия действия и действенности, не относящаяся уже ни к какой реальности.
Язык вовсе не тот послушный инструмент освоения реальности, которым он иногда представляется. Очень существенна (и очень опасна) его способность устанавливать собственные законы, существовать по этим законам и порождать какую-то новую реальность, ориентирующуюся только на язык. «Производство реальности» уходит в мир языка. Во власти языка оказываются и мышление человека, и – что самое главное – чувство реальности. Язык постепенно начинает его присваивать.
Для обуздания подобных претензий сознанию нужен какой-то новый инструмент, в идеале – второй язык: язык общения с языком. Можно заметить бурное, взрывное усложнение и абсолютизацию всех рефлекторных свойств языка, выделение их в отдельную саморазвивающуюся структуру. Заметно также, что этот зачаток другого языка еще не осознает своей принципиальной новизны и заимствует прежние языковые формы. То есть подчиняет их другой функции, делает двусмысленными. На подобное двойное напряжение первым начинает реагировать именно поэтический язык, сущностно связанный с таким словом, которое соединяет в себе энергию и мысли, и поступка.
Искусство – поиск действенного языка, языкового действия. Любое разобщение этих областей (языка и действия) ощущается автором прежде всего как затрудненность или невозможность прямого художественного высказывания. А самой насущной его задачей становится выяснение того, означает ли это разобщение невозможность любого высказывания – высказывания как такового. Насколько законно побуждение к честному молчанию, следующее за осознанием новой речевой ситуации?
Такое экспериментальное выяснение начали сами обэриуты. Их поэтическая практика ни в коем случае не сводима к чисто деструктивным опытам, но как раз их легче заметить и проще описать. Можно перечислить несколько клишированных определений такого рода: абсурдизм, распад смысловых связей и т. д. Признаки распада как будто налицо, но эмоциональное впечатление понятию «распад» совершенно не соответствует. Здесь явно присутствует новый строй, новая связь через смысловые зияния – нередуцируемые сгущения ощутимого смысла (это при всех различиях близко и практике позднего Мандельштама). Единственно возможная (линейная) связь заменяется пучком возможностей. Природа этих зияний кажется таинственной. Ее трудно описать, но легко почувствовать.
Работа обэриутов не разрушает язык, а деидеологизирует его. Не язык должен владеть сознанием, а сознание – языком. Обэриуты пытаются отобрать у языка власть. Принцип изложения и сами грамматические способности языка трансформируются наподобие того, как реальность трансформирована в сновидении. Всю эту стиховую практику можно представить вещим сном о новых художественных формах.
После разрушения прямых логических связей слова остаются как бы сами по себе. В пустоте. Стихи обэриутов – это испытание пустоты на возможность высказывания. И в мысли, и в словесной работе эти люди так отчаянно идут навстречу пустоте, что та – нет, не исчезает, – но как будто редеет. Начинает казаться, что все не кончается пустотой, что она проницаема.
В деятельности обэриутов есть идеальная, утопическая основа. Это своего рода руссоизм: возвращение к природе языка, к его стихиям и первоэлементам. «Сила, заложенная в словах, должна быть освобождена», – записывал в свой дневник Хармс. В самой природе слова есть неминуемая связность, которая так или иначе восстанавливается. Но восстанавливается на другой основе. Это уже не связи, навязанные словам, а собственные, естественно присущие связи слов. Они становятся косвенными, скользящими. Течение речи напоминает струение песка в песочных часах. А еще больше – течение времени. Не случайна эта завороженность временем, свойственная и обэриутам, и их ближайшим друзьям-собеседникам. «Мы хотим распутать время, зная, что вместе с ним распутывается и весь мир, и мы сами. Потому что мир не плавает по времени, а состоит из него» (Л. С. Липавский, «Разговоры»). Кто скажет, что время не реально? Но его реальность явно иной природы. Обэриуты учились у времени тому, что такое другая (подлинная?) реальность и что такое реальность искусства.
В практике ОБЭРИУ есть что-то страшно притягательное, необыкновенно насущное. Притягательность отчасти объяснима тем, что весь недолгий период их работы пришелся на «советские» годы, и в жизненных обстоятельствах есть хоть что-то общее с нами. Конечно, это были люди другого мира. Они говорили о точности и ясности. Можно сказать, что они бредили точностью и ясностью, понимая, что их мира больше нет, остается только описывать его распадение на атомы, ни один из которых не отличен от другого, все можно соединить со всем, каждое с каждым. Как странно читать в «Разговорах»: «Под конец спор о том, нужно ли считаться с направлением истории, спор длинный и бесплодный». Еще бы не бесплодный! Еще бы они постановили «нужно» (или наоборот).
Конечно, говоря о сходстве жизненных обстоятельств, нужно соблюдать осторожность. И все-таки обэриуты – наши дальние родственники в историческом существовании. Не вовсе инопланетяне.
Основная проблематика деятельности обэриутов, так сказать, экстерриториальна, но ее специфику допустимо связать с условиями подсоветского существования. И эта специфика по-своему перетолковывает тему «высказывания», вызывает к ней болезненно-обостренное внимание. В его основе находится некое уникальное подозрение, что мы живем в совершенно особых и небывалых условиях. Что все это есть тихий, замедленный конец света (именно «не взрыв, а всхлип», по Элиоту), когда жизнь постепенно кончается, постепенно оставляет одну за другой разные области существования, начиная, естественно, с высших. Например, с поэзии.
Поэт вообще склонен считать себя скорее инструментом языка, чем демиургом, но в наших условиях такое самоощущение особенно обострилось. Автор стал относиться к себе как к датчику показаний. И каких показаний! Показаний о справедливости или несправедливости этих чудовищных подозрений.
В какой степени искусство продолжается по инерции, просто в силу собственной живучести? Доводы сторонников негативного толкования звучали достаточно убийственно. И их неосновательность, надо сказать, до сих пор не так уж очевидна.
Понятно, что в таких условиях каждая художественная удача не только факт искусства, но и некая благая весть о том, что жизнь не оставила нас окончательно, что власти (читай: смерти) рано праздновать полную победу. Понятно также, что это должно было существенно изменить отношение к поэтической работе. Центральным становится вопрос о подлинности удачи.
Точный определитель подлинности в искусстве, как известно, отсутствует. Но у нас его отсутствие по разным причинам еще очевиднее. Этих причин много. Едва ли не основная состоит в том, что описанное выше ощущение жизненного разрыва, уникальности жизненных условий плохо приживается в поэтической практике. Она почему-то считает себя законной наследницей всех имеющихся в наличии художественных средств. Очень немногие литераторы чувствуют, что средства перешли к ним по ложному завещанию, что мы владеем ими фиктивно, умозрительно, а по существу они находятся в той же области желаемого, что и художественная цель. Это ощущение изначальной незаконности своего литературного существования не является, конечно, искомым определителем подлинности, но каким-то разделителем все же является. Оно хотя бы делит авторов на две количественно неравные группы. Представителей большинства можно заподозрить в культурной невменяемости, но на их стороне по крайней мере одно обстоятельство, настолько существенное, что здесь его можно описать только в общих чертах.
Это обстоятельство – художественная ситуация пятидесятых – начала шестидесятых годов, для которой слова «пустыня» и «выжженная земля» не буду т слишком сильными. Сам образ поэта нужно было создавать заново. По аналогии, по примеру. Ходить за примерами при живых Ахматовой и Пастернаке было не так далеко, но похоже, что их реальные очертания уже невольно затенялись новой ролью великих Свидетелей: свидетелей того, что Серебряный век действительно существовал. Именно поэты Серебряного века (в основном акмеисты) стали главными культурными героями той среды, которая возникала из небытия. Их жития складывались по крупицам из редких мемуаров, часто апокрифических, или устных легенд, чтобы снова разойтись на подобия притч. «А Гомера печатали? А Сафо печатали?» Вот на таких опорных точках строился новый ритуал, возникала новая культурная стратегия, новая норма. Несовпадение нормы и обыденности внутренне оправдывалось тем, что окружающая жизнь была по всем признакам как раз анормальной, бредовой. Все нормально-обыденное осталось за дальними временными границами, и рассчитывать можно было только на то, чтобы уловить эхо, идущее оттуда – из Серебряного века, из рая цветущих художественных возможностей. То, что развитие было репрессивно оборвано, сделало цветение вечным. Достаточно было просто обернуться назад.
Но у этого культурного феномена есть и другая, как бы теневая сторона. В той среде, которую мы описываем, реакция отталкивания от условий существования имела не только личностный, но и культурный, то есть типизированный, характер. Требовалось только обратиться к культуре, войти в ее ритмы, и возможность ответа была почти обеспечена. Любой порыв, интенция, даже художественный жест, попав в пространство существующей культуры, сразу же становились культурными событиями. В этом освещении все представало как оформленное и сложившееся явление. Но вот что важно: эти вещи становились культурными событиями, еще не став собственно событиями. Еще не став самими собой.
Понятно, что такая «культурная реакция» (по определению А. М. Пятигорского) явилась тяжелейшим испытанием для художественной практики. Именно для нее губительна всякая готовая форма, даже та, что готова только в общих чертах или приблизительно намечена. Само обращение за ответом к культуре есть обращение к области опробованных форм. Эта сфера может предоставить открытое множество возможностей, но любые мыслительные или художественные маневры (даже самые изощренные) не могут не быть хотя бы отчасти воспроизводством культурных клише. И художнику необходимо приложить невероятное усилие, чтобы не воспользоваться ни одной из возможностей или воспользоваться особым, нетривиальным образом. Шестидесятые годы дают нам примеры таких удач. Можно вспомнить, например, поэтическую практику Станислава Красовицкого или Михаила Ерёмина: образование языка, самим строем, каким-то естественным герметизмом отчуждающего неиндивидуальную реакцию.
И дробь це больших прожекторов
Стоящих валит с ног на тень.
Подобный обескниженной этажерке
Парит би-Планк над Т Ньютона,
Над часовыми, значительными, как пожарные,
Над живородящими тополями,
Над белковым покровом России,
Библиотекой и футбольным полем.
Михаил Ерёмин, 1963
Эти рассуждения как будто подводят нас к теме стилизации: стилизованного существования в жизни и в литературе. Но ту т нужно сделать оговорку. Стилизация – совершенно законная форма литературной работы. В игре стилями есть скрытая (или откровенная) пародийность, часто замечательно продуктивная и вообще соответствующая духу времени, отторгающего любой канон и даже доминантный стиль как тоталитарный диктат. Но в нашем случае речь идет о той неосознанной стилизации, когда поэтическая риторика собственной инерцией (как бы помимо автора) стилизует, а по существу симулирует высказывание. В навыке стихосложения возможность рядовой «технической» удачи настолько разработана, что для настоящей уже не остается места.
Подытоживая, можно сказать, что автор 50 – 60-х годов находился в ситуации не только крайне сложной, но и двусмысленной. Эта ситуация не предоставляла ему других явных опор, кроме культурной традиции, но и та оказывалась своего рода ловушкой: апробированные формы творческой реализации не воспринимались как навязанные, но – как единственно возможные. Реализация такого рода подталкивала и автора, и его читателя к ложной самоидентификации: и тот и другой начинали невольно отождествлять себя с современниками Серебряного века. Личное самостроительство, то есть некий бытийственный эксперимент индивидуального проживания, получало почти неограниченные возможности тавтологической подмены. Ложная самоидентификация задает привычное, почти автоматическое, соскальзывание в чужую ситуацию и прожитую, тавтологическую форму. Эксперимент теряет всякий смысл.
На усиление и закрепление этих обстоятельств работало и тягостное ощущение своего времени как пустого промежутка. Не то чтобы история кончилась, но мы-то попали в ее воздушную яму. Собственная жизнь казалась выморочной, лишенной существенных оснований, заведомо вторичной – второсортной. Даже такие вещи, как страдание, отчаяние, страх, не могли восприниматься как подлинные. Они были только бледной тенью страхов и страданий предшествующей эпохи. «Тому не быть – трагедий не верну ть», – сказал Мандельштам в 1937 году, и мы не могли не чувствовать силу и справедливость заклятия. Это странно звучит, но в какой-то период (скорее уже в семидесятых годах) почти отсутствовало ощущение, что что-то происходит на самом деле. Какая-то загадочная утрата сознания. Пауза исторического времени парализовала историческое мышление, а никакой другой тип сознания (например, мифологический) не мог заменить его целиком, хотя какие-то уродливые пробы можно было заметить. Сознание дублировало мнимое отсутствие исторического времени. В условиях полной предсказуемости общего будущего сознание лишается интригующей практики угадывания и выбора. По существу, оно лишается настоящего (а вместе с ним и собственной природы). Настоящее отсутствует в обоих значениях этого слова: и как настоящее время, и как подлинность. Мнимая действительность и действительная мнимость уже неразличимы.
Что же происходит с автором, лишенным собственного настоящего? Можно предположить какую-то прямую зависимость между неочевидной возможностью жизни и установочной невозможностью высказывания. Но реальная зависимость вовсе не прямая, скорее обратная. В действие вступает третья сила: необходимость. Необходимость высказывания существовала безусловно, ее не могло отменить даже странное ощущение, что говорить, в общем, нечем, что все пространство поэтической речи автоматизировано, а прямой – национализировано. Старыми словами ничего нельзя сказать.
Вся нереализованная напряженность, весь драматизм переносятся из жизни в пространство языка. Там-то все и решается. Именно там невозможность должна подтвердиться или исчезнуть перед очевидностью литературной удачи. Исчезнуть «здесь и сейчас», в данной точке приложения усилий.