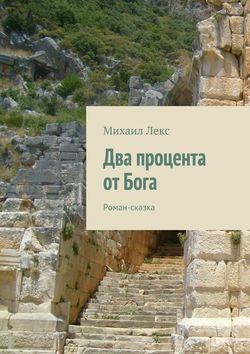Читать книгу Два процента от Бога. Роман-сказка - Михаил Лекс - Страница 3
Пролог
Оглавление1
Из Верховного Управления по делам печати и кинематографии поступила заявка на экзистенциальный роман «Два процента от Бога», написанного неким Лексом. Заявка поступила за подписью самого Господа, а потому наделала много шума в Верховном издательстве. Суть не в том, что Лекс был скандальным писателем и не пользовался расположением как высших ангельских чинов, так и самого Господа, потому как таких писателей в Верховном мире – пруд пруди, а в том, что в заявке требовалось, чтобы напечатали роман именно на Земле, а вот это уже вызывало настоящую тревогу. Это касалось и перевода на один из земных языков и поиск подходящего ретранслятора на Земле, то есть переводчика, да и многого другого, что сопровождает издание книги, написанной на том свете, а должной быть изданной на этом.
Что до самого писателя Лекса, то это, надо Вам сказать, ещё та фигура. Когда Вы познакомитесь с ним поближе, то Вы поймёте, что я имею в виду. Я приведу Вам только один пример из его жизни, который он, кстати, сам мне рассказал при нашей первой встрече. Уже из этого примера Вам многое станет ясно. Кроме того, его личность для Вас более раскроется по ходу самого романа.
2
Как-то раз Лекс сидел дома и печатал свои романы, повести, статьи, пьесы и рассказы, когда к нему пришёл странный гость.
– Здравствуйте, – поздоровался гость с писателем. – Вы – писатель Лекс?
– Здравствуйте. Да, это я, – с улыбкой отвечал Лекс.
– Напишите про меня рассказ, – просто, искренно, без какого-либо смущения попросил гость.
– С чего это вдруг? – несколько грубо спросил писатель.
– Видите ли, я очень богатый человек. Надо Вам сказать, что мы, богатые люди, желаем… Как бы это лучше выразиться? Увековечить, что ли, память о себе в виде портрета или скульптуры. У кого денег побольше, тот может и кино про себя снять или спектакль поставить на столичной сцене. Были и такие, кто посвящал себе балет. Мой знакомый один даже оперу о себе заказал у самого дорогого композитора и исполнена эта опера была лучшими оперными певцами.
– Ну и как Вы предполагаете, я буду увековечивать Вас? Я же Вас совсем не знаю? – спросил Лекс.
– Да просто. Собственно, Вам и сочинять ничего не надо. Я вижу, у Вас и так много уже написано.
– Чего Вы хотите? – не понимал писатель.
– Вам просто надо вставить мою фамилию, имя и отчество в одно из Ваших произведений.
– Мило. И всё?
– И Вы получите за это тридцать тысяч долларов США.
– Вы с ума сошли?
– Нисколько.
– Но такие деньги?
– У меня их много.
– Не знаю даже, что и ответить.
– Соглашайтесь.
– Согласен.
– Вот Ваши деньги, можете пересчитать.
Лекс взял деньги и стал их пересчитывать. Руки его дрожали, он очень сильно волновался, а потому сбивался и начинал пересчитывать заново. Гость терпеливо ждал, когда Лекс закончит.
– Тридцать тысяч, подумать только, – говорил писатель, считая американские деньги. – Новая жизнь. Костюм куплю серый, в парикмахерскую схожу, пить брошу, работу поменяю обязательно.
Он мечтал и от этого ещё больше волновался, его руки дрожали сильнее, он опять сбивался со счёта и начинал пересчитывать заново.
– Двести пятьдесят три, двести пятьдесят четыре, двести пятьдесят пять, – считал он сотенные, зелёные купюры, – пятьдесят восемь, нет, пять, нет шесть, – писатель сбивался и заново начинал считать.
– Может хватит? – предложил гость. – Здесь ровно тридцать тысяч. Мне Вас обманывать – смысла нет, согласитесь сами.
– Да, пожалуй, что и хватит. Всё верно. Тридцать тысяч.
– Значит я могу быть спокоен?
– О чём речь, милый Вы мой. О чём речь. Скажите, а почему Вы обратились именно ко мне?
– А почему ни к Вам?
– Ну… Не знаю… Мало ли писателей хороших в стране нашей. Уверен, что за тридцать тысяч долларов любой бы согласился.
– Вы так уверены?
– Разве нет?
– Увы, гражданин Лекс. Честно говоря, Вы последний, к кому я пришёл.
– Что Вы говорите?
– Да. И Вы первый, кто согласился.
– Что? – воскликнул Лекс. – Неужели остальные отказались?
– Отказались.
– Отказались от тридцати тысяч долларов?
– Не от тридцати, а от ста тысяч долларов и более.
– Шутите?
– Какие здесь могут быть шутки, Лекс, – гость брезгливо оглядел комнату писателя и тяжело вздохнул. – Мне сейчас не до шуток. Первому из вас я миллион предложил.
– Долларов?
– Долларов.
– И отказался?
– В шею вытолкал.
– Не понимаю.
– У них, видите ли, принципы. Второму предложил восемьсот тысяч.
– И он?
– Плюнул в лицо.
– Батюшки.
– С третьего по двадцать восьмой номер по списку, – гость достал смятый список и показал его Лексу. Тот, близоруко щурясь, пытался там прочесть хоть какую-то фамилию, но не успел, гость убрал список в карман, – рассмеялись мне в лицо на предложение в сто тысяч.
– Обалдеть!
– В общем, Вы – последний. Я, честно говоря, и не надеялся уже. Думал, вы, писатели современности, все принципиальные. Слава Богу, ошибся.
– То есть? Я не совсем Вас понял.
– А чего Вы не поняли?
– Хотите сказать, что у меня принципов нет?
– Откуда им взяться у Вас?
– Ну, знаете ли. Им, значит, можно миллионы швырять и плевать в лицо, а у меня, значит, и принципов нет?
– Нет у Вас никаких принципов. Вы свинья, Лекс. Пишете Вы, извините, конечно, как форменный паразит.
– Ну, знаете ли.
– А чего Вы, собственно, волнуетесь? Деньги-то при Вас останутся.
– Деньги? Вы называете это деньгами? Да вот Вам Ваши поганые деньги и пойдите вон.
Лекс швырнул ему пачкой денег в лицо и, гордо встав, указал рукой в сторону двери. Гость встал, собрал деньги и тихо вышел. Больше Лекс его никогда не видел. И предложений ему таких больше никто никогда не делал. Было это давно, был он тогда молод и, как Вы уже и сами догадались, чрезвычайно глуп. Вот такая, господа, история, которую мне рассказал сам Лекс, как я уже говорил, при нашей первой встрече. И хотя Лекс и говорит, что эта история произошла очень давно, когда он был молод и чрезвычайно глуп, уверяю Вас, время его не изменило и он по-прежнему остаётся таким, каким был тогда, и, если честно, всегда. И эта история запросто могла с ним случиться и сегодня.
3
Что до ретранслятора, то выбор пал на меня, но и это благодаря всё тому же Лексу. Скажу более, ему были предложены лучшие кандидатуры среди ныне живущих на этом свете. Но он выбрал меня. С ним спорили, его убеждали в моём непрофессионализме, предрекали полный провал, но он был непоколебим.
Дело в том, что я необыкновенный писатель. Вернее, я конечно пишу истории, которые произошли в нашем городе когда-то. Но делаю я это всегда исключительно только для ограниченного числа людей. Много разных историй случилось в нашем городе когда-то. Есть просто некрасивые истории, есть и так себе, а есть так и просто страшные истории. Но, в любом случае, все они примечательны и все хотят, чтобы их заметили. Одно можно сказать смело – неинтересных историй нет, потому как неинтересное в нашем городе не случается.
Истории шлындают по городу, как неприкаянные, все, как один, злые, голодные, оборванные и, что самое главное, никому не нужные, даже своим родителям, и просят, просят, просят: «Ну напишите нас, ну что вам стоит». Они просят об этом всех и каждого, постоянно. Я бы даже больше сказал: они умоляют об этом постоянно.
Днём их стараются не замечать. А по ночам истории становятся под окнами домов писателей и воют. Если бы Вы только слышали, как страшно они воют. Они воют в надежде, что их услышат. Вот и под моими окнами они стоят и воют по ночам, требуют, чтобы их услышал какой-нибудь писатель и сообщил эти истории людям. У меня уникальный слух на такие вещи и я их очень хорошо слышу. Я не могу выносить их воя. Их вой наводит на меня тоску смертную. Мне становится жаль их и я вынужден забирать их себе и передавать другим. Мне тяжело, мне хочется спать, но их вой поднимает меня с раскладушки и заставляет брать в руки карандаш. Вы спросите – почему это делаю я?
Начнём с того, что не только я. А во-вторых, потому, наверное, что я всё-таки писатель, хоть и необыкновенный, и в том смысл моего бытия. Мы, необыкновенные писатели, отличаемся от обыкновенных писателей и от не писателей тем, что не только слышим жалобный вой и стон историй, но и видим их, и мы не можем не брать их к себе. Вам проще, Вы их не слышите и не видите, и душа Ваша не страдает, а потому Вам и нет надобности утруждать себя тем, чтобы проявлять к ним своё сострадание и брать на себя заботу о них. Да тем более, что это и невозможно. Невозможно, не будучи необыкновенным писателем, а следовательно, не способным к тому, чтобы видеть и слышать необыкновенные вещи, брать на себя ответственность за необыкновенные истории и показывать их другим людям.
Нет, конечно, и Вы можете попробовать, только толку от этого будет мало. Точнее сказать, так и никакого толку от этой писанины не будет. Всё потому, что Вам придётся придумывать. Но необыкновенный писатель ни в коем случае ничего не придумывает. Не придумывает потому, что это невозможно. Как так, спросите Вы? Да так вот. Поймите, что писатель ничего своего не пишет. А как же талант, как бы между прочим поинтересуетесь Вы? Талант нужен, но талант не выдумать своё, а увидеть и услышать чужое. Вот, собственно, и всё.
Необыкновенные писатели делятся на два вида. Одни слышат только красивое, а другие наоборот, красивое не замечают, но замечают только некрасивое, а лучше сказать – противоположное красивому. Я оставляю в стороне сейчас спор о том, что именно считать красивым, а что безобразным. Этим пусть занимаются философы.
Вернёмся к необыкновенным писателям. Одни описывают, видят и слышат, значит, прекрасное, а другие – ужасное. Я специализируюсь на, если и не ужасном, то, мягко говоря, на некрасивом. Но кто-то должен и это делать, согласитесь. Или Вы полагаете, что достойно к описанию только прекрасное? Уверяю Вас, что достойно всё, что интересно, а не только то, что прекрасно. Быть услышанным, увиденным и сообщённым другим достойно не только прекрасное, но и любое, что существует, хотя оно и выглядит не столь достойно.
Просто ко мне приходят те, которые неинтересны никому. Писателей у нас в городе хоть и много, но необыкновенных мало и среди них тех, кто бы брался за непрекрасное, явно недостаточно, а я не брезгую. Тем более, что красивые ко мне и не стремятся. Может, потому что репутация моя уже подпорчена, а может, по какой другой причине. Или потому, что я их не слышу и не вижу. Скорее всего, дело именно в этом: красивые приходят ко мне, но я их не слышу и не вижу. И они, те, что красивые, идут к другим. Ко мне идут только страшные, больные, уродливые и некрасивые.
Как я уже сказал, Лекс выбрал меня, потому что ему понравились мои романы и повести о нашем городе, о людях современности, что живут в нашем городе. И по правде сказать, истории нашего города действительно заслуживают внимания, они тем и примечательны, что кажутся невероятными, но, тем не менее, они случились на самом деле.
Быть необыкновенным писателем в наше время не сложно. Да и в любое другое время быть необыкновенным писателем не сложно, а в наше – особенно легко. Всё потому, что время наше – необыкновенное… Необыкновенное время… Время перехода. Время анархии. И заметьте, время необыкновенное бывает не всегда, а только в какой-то определённый момент исторического развития.
В нашем необыкновенном времени есть ощущение праздника, ощущение – сколь приятное, столь и тревожное. Такое чувствуют дети, когда их надолго оставляют одних, без присмотра взрослых. Долго, конечно, это счастье длиться не может. Рано или поздно кто-то из взрослых придёт и быстренько всех успокоит… И всё равно останется ощущение прошедшего. Останется то, что можно вспоминать, обсуждать. Останется запах жареной свинины, сырокопчёной колбасы, салата оливье, дешёвого крепленого вина и шампанского. Кое-кому, не всем, но тем, кто нашалил в то время больше других, придётся и наказание понести. Наказание несильное: так, пожурят для острастки, ну выпорют, в крайнем случае. Правда, насчёт выпорют, то это только касаемо детишек, с теми же, кто в совершеннолетии, а именно о них я, собственно, и рассказываю, с теми не всегда можно обойтись только телесным наказанием. Совершеннолетнего можно посадить в тюрьму, а в крайнем случае, и убить… Необыкновенные времена… Как богаты они именно крайними случаями. Хотя, будем откровенны, тюрьмы тоже не пустуют.
Если Вас интересует, где я работаю, то отвечу: я работаю только в нашем городе, только с теми историями, что произошли в нашем городе. Это очень важно понять. Необыкновенные писатели делятся не только по категориям, но и по городам.
***
Для тех, кто не знает, что представляет собою наш город во все времена, скажу, что наш город раньше очень сильно отличался от того, что представляет собою сегодня. Впечатление такое, что это вообще два разных, не то что города, а и государства. Хотя это мало кто из жителей нашего города осознаёт. Многим, если вообще ни всем, жителям нашего города кажется, что ничего не изменилось, что город такой же, какой он был тогда. Но это неправда. Просто многие, из числа жителей нашего города, невнимательны, а другим это неважно и они просто живут, об этом не задумываясь. Я не имею в виду грязь нашего города.
Хотя, конечно, правды ради, надо заметить, что по части грязи наш город занимает одно из первых мест, не то что в нашей стране, но и в мире. А также я не говорю о преступности, которая тоже в избытке у нас. И дело даже не в самих людях, что живут в нашем городе. Здесь ничего не изменилось: и грязь, и преступность, и люди, всё это, скорее всего, если и претерпело хоть какое-то изменение за прошедшее время, то столь незначительное, что и говорить об этом не стоит. Но что же тогда, воскликнете Вы и будете совершенно правы в своём этом замечании, заставляет меня говорить о том, что город наш сегодня не тот, что был тогда?
Видите ли, в чём тут дело. Наш город – это странное нечто, живущее своей особенной жизнью, не зависимой от своих жителей. Может, именно поэтому писатель Лекс и выбрал в первую очередь не меня, а наш город, где и развернутся все основные события, а уж потом меня, как писателя, который здесь работает. Вам, возможно, сразу это и не понять, но я попробую объяснить.
4
Наш город живёт сам по себе и люди, живущие в нём, живут сами по себе. Другими словами, вот есть город, а вот есть люди, т. е. жители города, а иначе горожане. Конечно, тут же кто-то сразу скажет, что город – это и есть люди, и что одно без другого немыслимо, и будут правы, но… Правы они будут исключительно по отношению к своему городу, но не к нашему. Это у них в городе: люди строят дома, ходят на работу, ходят в магазины, на выборы, на пляж, на дни рождения и на похороны, в театры, в кино и т. д., и всё это вместе взятое и составляет понятие города. У них – да, но только не у нас.
В нашем городе нельзя смешивать такие понятия, как «город» и «горожанин». Более того, эти понятия нельзя даже сопоставить. В нашем городе: город – это город, губернатор – это губернатор, а житель города – это житель города, но не больше. И мне смешно, когда я вижу, как приезжие иногда пытаются провести какую-то общую линию между, например, городом и губернатором в нашем городе. Смешно.
Губернатор и город – у нас понятия несовместимые, понятия настолько разные и не имеющие между собой ничего общего, что их, при всём желании, друг с другом не связать. Запомните это, тогда проще будет понять то, что я пишу, на тот случай, если Вам всё же посчастливится познакомиться с моими работами. И тем, кто всё же заметит, что всё мною сказанное есть как бы вымысел и что такого не бывает, возражу.
Дело в том, что те, кто не согласен с тем, что такое возможно, по-видимому, не до конца понимают всю логику данного факта. Им, несогласным, думается, что не может быть разрывов в соотношении таких понятий как, ну например: больной и врач, бракосочетание и любовь, судья и беспристрастность и многих других. Но нельзя же, в самом деле, желаемое выдавать за действительное.
Конечно, и мне хочется, чтобы так оно и было, и, вполне возможно, в других городах так оно и есть, но про другие города я и не пишу, а за наш город я готов отвечать по всей строгости. Более того, сразу хочу сказать, что хоть я и называю свои произведения удивительными и необыкновенными, но на самом деле всё, что в них есть, всё чистая правда и ничего не выдумано. А то, что я позволил себе в самом начале выразиться таким образом, что создал впечатление мистического, то, поверьте, не нарочно, просто часто самое обыденное кажется необычным, а необычное совсем не замечается, по крайней мере, людьми нашего города.
Ещё одно важное обстоятельство, которое, скорее всего, и повлияло на решение Лекса дать возможность именно мне ретранслировать его роман, и на которое обращаю Ваше внимание. Истории эти, которые я вижу и слышу и которые показываю другим людям, не имеют широкой огласки не то что в нашей стране, но и даже в самом нашем городе. Я потому говорю об этом, что многие писатели стараются взять какой-то достаточно известный факт и, придав ему определённую художественную форму, донести его до читателя. Но я не такой. Не вижу смысла говорить о том и рассказывать то, что известно.
Ну какой смысл, скажите на милость, брать, например, сюжет из хроники происшествий в газете и класть в основу своего произведения? Согласитесь, это глупо. Хотя, говорят, что такие писатели есть и даже, говорят, неплохо при этом зарабатывают. Только мне это всё равно. Хотя, честности ради, сознаюсь, что ещё в молодости, а сейчас я уже далеко не молод, был грех. Вместо того, чтобы работать с реальной историей, что действительно требует достаточного напряжения и труда, я решил облегчить себе задачу и поработать с сюжетом из газеты.
Промучился я тогда достаточно, стараясь рассказывать нечто по реальному факту, взятому мною из газетной статьи, но так ничего и не вышло. Вернее, вышло нечто жуткое и уж совершенно неправдоподобное. Я, когда уже перечитывал то, что получилось в результате, ужаснулся. И главное, что из простого уголовного преступления у меня такая чехарда и каша вышла, что и нормальному человеку и понять-то не то что не просто, а и невозможно. И всё с какой-то примесью и мистики, и психологии, и философии, и даже религии. В общем, чушь несусветная. А главное, что всё неправда.
Спросите, как так? А вот так. Да именно так и получается, когда работаешь по известным сюжетам из газет, особенно тех сюжетов, которые касаются уголовщины, вместо того чтобы рассказать реальную историю, которая действительно произошла, а не «высосана» из пальца пусть даже трижды талантливым журналистом из центральной газеты. С тех пор зарёкся. А оно и к лучшему. По крайней мере теперь мои книги интересны хотя бы потому, что в них есть то, чего нет нигде, и плюс к тому – всё самая чистая, что ни на есть, правда.
Ведь что такое газетная статья? Кто-то скажет, что статья – это тоже история. Неправда. Статья – это информация о том, что могло бы быть, а не о том, что есть или было. Поймите разницу. Имея дело со статьей, Вы имеете дело не с фактом, а с комментарием, а это далеко не одно и то же. Другими словами: люди нашего города – рабочие, предприниматели, учёные, чиновники и прочие – своей жизнью и порождают необыкновенные и при этом правдивые истории, те самые истории, которые мы, необыкновенные писатели, видим и слышим, и старательно записываем в свои книги. А газетная статья или иной какой репортаж в любом средстве массовой информации не есть история, а есть ложная информация представленная в виде комментариев. Это не одно и то же, и разницу между ними необходимо видеть. Я имею в виду ложную информацию в виде комментариев с одной стороны и творчество писателя, который никогда не опустится до того, чтобы комментировать факты, с другой стороны.
Необыкновенный писатель всегда честен, независимо от того, как и что он пишет. Журналист наоборот. Журналист или репортёр всегда врёт. По крайней мере, в нашем городе. Не знаю, как в Вашем городе обстоят с этим дело и, может, в Вашем городе журналист – честный человек и каждый почитает за честь пожать ему его честную руку. В таком случае Вам крупно повезло и, читая свою местную газету, Вы читаете художественное произведение настоящего писателя. Но в нашем городе всё обстоит так, как я Вам рассказал. И необыкновенный писатель в нашем городе никогда не возьмётся за газетную статью. Более того, если необыкновенного писателя нашего города застукают за этим занятием, то ему, я не шучу, отрубают обе руки. Возможно, кому-то это покажется строгим наказанием, но иначе нельзя.
Теперь о людях нашего города. Я потому так подробно всё это рассказываю, чтобы Вам было более понятно, как такое вообще могло произойти. Я имею в виду роман Лекса, который и собираюсь Вам ретранслировать.
Всё просто! Оказалось, что часть событий этого романа произошло в нашем городе. И я сейчас подумал, что это тоже может быть той причиной, почему Лекс выбрал ретранслятор именно в нашем городе. Но если Вы не будете знать обычаи нашего города, его нравы, его своеобразную этику, его мораль, то всё может показаться вымыслом. Но менее всего я хочу, чтобы Вы после того, как прочтёте всё до конца и закроете книгу, сказали, что всё это, мягко говоря, неправдоподобно. Итак, в первую очередь надо поговорить о людях наших.
Кто они эти самые наши люди? Или, по-другому, люди, но живущие в нашем городе.
Но! Стоп! Я не сказал самого главного. Простите, но я не сказал Вам, как называется наш город, а ведь это надо сделать обязательно, если, конечно, я претендую называться честным писателем, а ведь именно таким я хочу выглядеть в Ваших глазах. Это, кстати, особенность почти всех наших жителей, такая вот характерная черта.
Все в нашем городе хотят выглядеть в глазах других людей честными. Почему, спросите, почти? Потому что и у нас бывают исключения, но они – редкость большая. Да, вернёмся к названию нашего города. Я мог бы, как это часто делали и делают мои коллеги, в том числе и известные, не давать реальное название, а просто сказать, что нечто произошло в каком-то городе и прочее тому подобное. Но Вы понимаете, что тогда где гарантия, что то, что я пишу, есть правда? Вот если сказать, например, что в Москве случилось что-то, то это всё ставит на свои места.
Москва – город известный если и не всем, то многим, и всё сказанное тогда легко проверить. А что проверишь в каком-то городе? Ничего. Нет, название обязательно нужно. Это, кстати, касается всех писателей, а не только необыкновенных. Нужно уйти от нечестных приёмов и прекратить порочную практику «каких-то» городов, «одних» городов, «некоторых» городов и тому подобного.
Нечестно также придумывать названия. Это, пожалуй, даже хуже. Уж лучше без названия, чем просто вводить людей в заблуждение, а они потом с атласом и увеличительным стеклом подолгу ищут несуществующий город. Надо быть смелым, хотя бы перед самим собой. Да, понимаю, это не просто, но это надо. Вот ещё одна особенность жителей нашего города. Все мы хотим выглядеть смелыми. Да, но я опять ушёл от названия нашего города.
Город наш называется Боголюбинск. Представляю, какая началась паника среди некоторых уважаемых читателей. Уверен, что это в первую очередь жители нашего города. А во вторую, поклонники нашего города из других городов. Но Вы, читатель из другого города, отнеситесь к этому спокойно. Всему виной здесь ещё одна характерная черта боголюбчан и боголюбчанок, а именно – скромность. Ну не нравится нам, чтобы на нас обращали внимание. Итак, подведём небольшой итог. Честность, смелость, скромность. Это главное в Боголюбинске.
5
Город Боголюбинск расположен на берегу реки Грязная. Я не знаю, почему так называется река, на которой стоит наш город, почему именно Грязная река, но, наверное, всё дело в том, что другой-то нет. Город наш делится на две половины или два города: старый город и новый. Узкие улицы; дома, которым, по самым приблизительным подсчётам, минимум лет по сто девяносто пять; грязь в любое время года – всё это старый город. Новый город – это широкие улицы, грязь и плохое освещение в тёмное время суток. Что касается домов нового города, то это отдельная тема для разговора.
Дома в новом городе просто дрянь, хотя и это мягко сказано. Всё дело в том, с чем сравнивать. Во всяком случае, дома старого города назвать не дрянью нельзя. В старом городе всё гораздо хуже, но дороже. В этом я лично усматриваю некий парадокс. Но оставим дома нашего города. Всё это для нас сейчас не имеет значения. Город наш молодой, хотя, конечно, с чем сравнивать. Другими словами, есть города и постарше, намного.
Не буду утомлять Вас излишними подробностями в описании нашего города. В конце концов, город наш такой же, как и все другие города, за исключением, как я уже говорил, некоторых особенностей. А что касается старых домов и прочего, то всё это есть в любом другом месте. Коснусь лишь того, чего в других городах нет.
В первую очередь это, конечно же, огромное число разнообразных религиозных организаций. Возможно, что специалист в области религий и возразит мне, сказав, что этого добра сегодня навалом в любом уважающем себя городе. Вот тут я позволю себе с ним, со специалистом, мягко говоря, не согласиться. Дело всё в том, что навалом – это ещё не значит огромное число.
В доказательство своих слов приведу лишь цифры, от которых у любого религиоведа может и должно помутиться в рассудке. Число это равняется пятнадцати тысячам четырёмстам пятидесяти пяти религиозным образованиям, при этом, заметьте, официально зарегистрированным. Здесь есть только одно отличие, некоторые из них зарегистрированы как церкви, а некоторые, которых большинство, – как религиозные организации, а ещё некоторые – как общественные организации. Но это, я повторяю, только официально зарегистрированные. Что касается незарегистрированных, то их, я не шучу, семьдесят восемь тысяч восемьсот двенадцать, плюс минус три. Вот и задумайтесь.
И второе. (Напоминаю, что я говорю об основных отличиях нашего города.) Так вот, второе отличие или особенность, называйте, как хотите, заключается в том, что в нашем городе нет, например, полиции, а точнее, так и не только её. Вернее, как таковая она, конечно, не числиться не может, но в том то и штука, что числится-то она, конечно, числится, даже имеет своё собственное здание, а на деле её нет.
У нас даже прескверный случай вышел с одним приезжим. Он потерял документы и деньги и зачем-то пошёл их искать в полицию. Вернее, он хотел туда пойти. Стал спрашивать прохожих, как ему пройти в полицию, а сказать ему толком о том, где же расположена полиция, никто не мог. В конце концов, он нашёл то здание, где полиция числится, зашёл туда, но выбежал вскоре и в очень сильном волнении, и побежал в неизвестном направлении. Не знаю, что с ним было дальше. Мне это неизвестно, да я, к слову, и не интересовался. Об этом случае много говорили в нашей центральной газете. Но я Вам не рекомендую читать то, что там напечатано, потому как всё, что там напечатано, есть ложь.
Если Вы полагаете, что полиции у нас нет в виду отсутствия преступности, то глубоко заблуждаетесь. Чего-чего, а преступности в нашем городе на десяток других городов и покрупнее нашего хватит. Другое дело, что при всём при этом, пострадавшие нашего города от правонарушителей и преступников закона не нуждаются в услугах полиции при решении своих проблем. Все свои проблемы они, пострадавшие, а впрочем и не только пострадавшие (ведь проблемы могут быть не только уголовного характера, проблемы могут быть разные), какие бы они, проблемы, не были, жители нашего города решают их в своих, и только в своих, религиозных группах. В полицию перестали обращаться совсем и потому она отмерла, как социальный орган нашего города. Не буду описывать весь процесс отмирания, думаю, что сами понимаете, как это произошло.
Уверен, что Вы уже и сами догадались, что в нашем городе нет и судов, а потому наш город и не является поставщиком заключённых в тюрьмы страны нашей.
Другими словами, наш город, если можно так выразиться, есть некий инвалид, в виду именно вышеперечисленных обстоятельств. Ну сами посудите, если у человека отмирает какой-либо орган, рука скажем, то он, человек, есть тогда инвалид и ему тогда даже место положено в транспорте уступать и ежемесячное пособие от государства выплачивать. То же и наш город. Здесь речь уже не об одном органе. Я только перечислю, но уже без подробностей, итак: полиция и суд – это я говорил, далее идут все органы местного самоуправления, их у нас тоже нет, как и нет законодательного собрания, а из администрации есть только губернатор, но и тот мало кому интересен.
Дальше я продолжать не буду, потому что это может длиться очень и очень долго, а всё и так ясно. Единственное, что важно всё же упомянуть, так это налоговую инспекцию. Что, спросите, налоговая инспекция? А то, что её тоже нет. Вернее, числится и только. Налоги наши жители, вернее, жители нашего города, не платят. Скажете, что вот уж это так уж чистое враньё? А вот и нет. Мне Вам врать? Какой смысл? А только я ещё раз повторю, налоги мы не платим. Если Вы думаете, что платим, но меньше, скрывая истинный доход, то ещё раз замечу, просто не платим и всё; а об истинных доходах нас не спрашивают, некому потому что.
Может быть, сейчас Вы подумаете, что мы тогда очень богаты. Ничего подобного. Город наш, а мы вместе с ним, очень и очень бедны. Наверное, только это и даёт нам право не платить налоги, не знаю. У нас бедны все без исключений. Бедны настолько, что дальше некуда.
Спросите, на что же мы живём? А мы и не живём, мы существуем в рамках своих религий и их организаций. Не помню, кто и где сказал, что человек живёт не только материальными благами, но духовной пищей, получаемой в рамках своих учений Так вот, это про нас. И добавлю к сказанному, что здесь речь уже не столько о материальном благе, поскольку у нас ничего такого, в смысле материального, по сути и нет. Но мы не жалуемся и помощи не просим. Ни в коем случае. Конечно, нам бы не помешало, но мы не просим. Но я отвлёкся.
6
Теперь, когда я показал Вам нас и наш город, я перехожу к самому главному, к тому, ради чего, собственно, Вы здесь, к роману «Два процента от Бога». Вернее к роману Лекса «Два процента от Бога», а я только выполнил возложенную на меня миссию ретранслировать его.
Уверяю Вас, что роман этот, не был бы ретранслирован никем лучше, чем это сделал я. Это я к тому, что нет смысла Вам искать у какого другого писателя нечто похожее, но лучше напечатанное. Зря только время потратите. Поверьте, этот роман мог напечатать только такой писатель, как Лекс, а ретранслировать его мог только такой писатель, как я. А если уж они пришли ко мне, то, наверное, только потому, что прекрасно понимали, что лучше меня не ретранслирует никто. Это не значит, что других писателей нет. Но те, кто сочинял подобным образом до меня, уже умерли, а иные ещё не народились. Так что: сегодня – моё время. Они, может, и пошли бы к кому другому, но только нет его, другого. Пока нет.
Я это вижу, между прочим, не только потому, что ко мне обратились оттуда, но и по той очереди рассказов нашего города, что скопилась у моих окон. Тысячи их стоят в очереди ко мне. Стоят, спорят, ругаются, пихаются и толкаются, желая пролезть ко мне без очереди. Все торопятся. Всем охота быть как можно быстрее напечатанными. Они и рады бы куда ещё податься, да некуда. Один я пока. Это и хорошо, и плохо. Хорошо для меня. Всё, как-никак, а возвышает, если и не в чужих, то в своих глазах точно. Плохо для них, для историй. И для Вас плохо, потому как сам я лентяй и не шибко спешу работать.
Более того. Скажу честно. Не их вой по ночам и скулёж, то я, может, и вообще не брался бы за работу. Но это уже на уровне инстинктов. Как плач ребёнка заставляет его маму идти к нему и утешать его, даже если чаду уже перевалило за сорок, так и мы, писатели, только услышим вой своей истории, что просит себя забрать себе, так ничего не можем с собой поделать, а встаём, хоть днём, хоть ночью и идём к ней и пишем, пишем, пишем её, до тех пор, пока всю не напишем и тем её не успокоим.
Но я сказал пока не всю правду о том, почему и как вышел на меня Лекс, есть ещё кое-что, что Вы должны знать. Всё дело в том, что сто первый канал нашего местного телевидения объявил конкурс. Хотя, давайте я расскажу Вам всё по порядку.
7
На Сто первом канале работали, да и работают по сей день, без малого двадцать пять тысяч восемьсот человек. Уборщицы, слесаря по ремонту сантехники, лифтёры, охранники, секретари, директора. Да мало ли кто ещё работает на Сто первом канале, всех и не перечислишь, кого-нибудь всё равно забудешь. Да и смысла нет всех здесь перечислять. Кому надо, те и так будут появляться по ходу действия и о них будет сказано вполне достаточно. Но прежде хочу посвятить Вас в некоторые тонкости, которые, поверьте, будут не лишними для правильного понимания всего того, что в дальнейшем будет сказано.
Что такое телевидение? Вы знаете, что такое телевидение и телеиндустрия? Вы можете подумать, что телевидение – это реклама или вид психологического воздействия, или средство массовой информации. Всё это не так. Я не стал приводить больше примеров того, как может быть понято Вами телевидение. В любом случае, Вы окажетесь не правы. Почему? Ответ прост: потому что Вы ничегошеньки не смыслите в телевидении.
Я согласен с тем, что Вы имеете право на свою точку зрения, я согласен с тем, что и кроме Вас есть ещё кто-то, кто имеет, так же, как и Вы, своё право на свою точку зрения. Но давайте на том и остановимся и оставим Вас с Вашими правами и точками зрения, и не будем ни Вас, ни Ваши мнения, суждения, понятия и тому подобное, примешивать к телевидению. Не согласны?
Недавно мне высказали предположение, что телеиндустрия – это телевизоры. Я смеялся долго. Я не стал переубеждать бедолагу, а оставил его наедине с его правотой. Пусть думает каждый так, как он сам хочет. Сейчас я говорю только об истинном положении вещей. Сейчас я говорю о том только, что представляет собой телевидение на самом деле. Сейчас я посвящаю Вас в святая святых телевидения. А всё, что касаемо рекламы и прочего, о чём некоторые говорят, когда спорят о телевидении, то всё это я предлагаю не воспринимать серьёзно.
Некоторые, самые упёртые, будут даже спорить, орать и настаивать, что знают, что такое телевидение. Спросите, кто эти некоторые? Да вот хотя бы генеральный директор Сто первого канала. Большой специалист, как он сам себя считает, по телевидению. Не верите? Не верите, что генеральный директор Сто первого канала – большой специалист по телевидению? В общем-то, конечно, Вы правы.
Вот, кстати, и он. Идёт на совещание директоров отделов. Он нас не видит. Он думает сейчас только о том, что будет говорить на совещании. Видите, какой у него уверенный шаг, красивые ботинки. Обратите внимание на то, как умело он завязывает свой галстук. Галстук – это его гордость. Ему кто-то когда-то сказал, что галстук – очень важный элемент мужского гардероба. Ну чушь полная, мы-то с Вами понимаем, что это не так. Уж мы-то с Вами знаем, что главной частью мужского гардероба является не галстук, а носки. А вот он – нет, он этого не знает, а потому сконцентрировал всего себя на своём галстуке и уже ничего другого и понимать не хочет. Но вот ему почему-то так кажется, что именно галстук есть основа всего, что на нём надето… Ладно… Галстук, так галстук. В конце концов, что нам теперь из-за этого, снимать его с генеральных директоров?
Вот мне здесь подсказывают, что не плохо было бы и снять, что, мол, и за меньшие прегрешения снимали и… снимали не таких. Согласен. Но тогда были другие времена. А тем более, что, сняв этого, ну кого мы на его место поставим? А? Не знаете. И я не знаю. Вот и нечего здесь… И согласитесь, что ботинки хороши. Костюм, правда, давно не гладил, а так ничего, смотрится.
Вы видели его секретаршу? Видели. Ну и как? Нравится. Мне тоже нравится. Красивая секретарша. Секретарши они вообще, если так подумать, то… не могут не нравиться. Знаете почему? Потому что они всегда красивые. Быть красивыми – в этом их, секретарш, смысл жизни. И ведь, что примечательно, его жена, жена генерального директора Сто первого канала, с ней, с его красивой секретаршей, в хороших отношениях. Ну Вы понимаете. Хотя… Почему и нет? Тем более, что он сам – человек серьёзный и поводов не даёт. У них же двое детей. Хорошие ребята. Жалко, если без отца останутся. Тем более, что он ей интересен и она даже его уважает. Любви между ними, конечно же, никакой нет, но всё идет к тому, что они могут стать друзьями. А почему нет? Она ему тоже интересна, и, хотя, он её пока ещё и не уважает, потому как считает, что не за что, но пьёт он мало и только не на работе, а работает много.
Зарплата у него хорошая. Что не знаете? Не знаете, что не пьёт? Но я клянусь Вам, что генеральный Сто первого практически не пьёт. Ах, Вам это до лампочки. Чего же Вы тогда не знаете? Не знаете, что у генерального директора Сто первого канала зарплата хорошая? А-а, знаете что хорошая, но не знаете насколько? А Вам интересно? Похвально. Вот теперь вижу, что Вы на правильном пути понимания того, что собой представляет телевидение.
Но вернёмся к зарплате. Не могу я не сказать Вам, сколько он получает. Скажу обязательно. В противном случае, какой мне был смысл вообще начинать с Вами этот разговор? Берите карандаши и записывайте. Если есть калькулятор, то и его приготовьте, может пригодиться. Итак. Зарплата генерального директора Сто первого канала города Боголюбинска… Записываете? Итак, он владеет пятью процентами акций местного градообразующего завода и семью процентами акций градообразующей фабрики. Что? Вы спрашиваете, при чём здесь завод и фабрика? Ну как же. Если Вы хотите знать, сколько зарабатывает генеральный на Сто первом, то надо начинать с акций. А как же. Что значит, Вас интересует его зарплата только как генерального? Странно. Я думал… Впрочем, если Вы уж так настаиваете, пожалуйста. Только учтите, что это нисколько не отражает истинного положения вещей. Его оклад составляет восемь тысяч девятьсот сорок три рубля и восемнадцать копеек в месяц. Довольны?
Проходите. Это зал совещаний. Вам нравится? Мне нравится. Богато, просторно. Мало мебели. Хорошее освещение. Они здесь собираются каждый четверг и решают, как им кажется, судьбу всего. Ну им так кажется. Они здесь спорят, предлагают, деньги делят и много чего ещё делают. Кто они? Директора. На сто первом канале есть двадцать один отдел, каждый возглавляет директор. Вот они, директора отделов, и собираются здесь по четвергам, в этой большой комнате, больше напоминающей малый зал филармонии, из которого вынесли всю мебель, оставив только стол посередине и стулья.
Что примечательно, что стульев больше, чем следовало бы. Можете не считать. Восемьдесят один стул. Всё уже давно посчитано. Спросите, зачем столько? Думаю, что это намёк на имеющиеся вакансии. В любом случае, здесь, никогда не собиралось больше двадцати человек, включая генерального. Хотя Вы правильно заметили, стульев действительно много и они очень мешают работать. На них постоянно натыкаются. Любопытно ещё то, что всё равно здесь никто не сидит, кроме генерального. Почему? Вот это действительно загадка. Есть предположение, ну вроде как легенда, что прошлый генеральный директор Сто первого канала таким образом воспитывал подчинённых. Того генерального уже и в живых-то давно нет, а вот традиция осталась.
Был четверг. Генеральный сидел во главе, остальные стояли. Обычно генеральный говорил, остальные слушали и записывали. Обычно говорил он много. Говорить он умел. Делал это он красиво. В меру жестикулировал, умело менял интонацию, изредка повышал тон, но не сильно, со знанием меры. Речь его текла плавно. Генеральный говорил о телевидении вообще, об общих проблемах телевидения, говорил о Сто первом канале в частности и об абстрактных и конкретных проблемах Сто первого канала. Обычно говорил он всегда долго. Часов шесть, как минимум, говорил он. Говорил, как правило, до тех пор, пока кому-то не становилось плохо и этот кто-то не падал, потеряв сознание. Тогда только, когда упавшего выносили, генеральный завершал своё выступление под гром аплодисментов присутствовавших.
Но сегодня произошло нечто из ряда вон выходящее. Во-первых, генеральный разрешил всем сесть. Более того, он настоял на том, чтобы все сели, потому как никто не хотел садиться, такова была сила привычки, выработанная не одним десятилетием. В конце концов, когда ему всё же удалось всех посадить, он сказал всего два слова: «Нас закрывают». После чего свалился со стула.
Генеральный валялся на полу и… создавалось впечатление, что он умер. Все только молча наблюдали за происходящим, такое же происходило не каждый день. Это действительно было интересно. Во-первых, любопытно было то, насколько долго генеральный будет вот так валяться на полу, насколько долго его хватит. А во-вторых, хотелось всё-таки узнать, что скрывалось под этим его: «Нас закрывают». Если закрытие касалось лично его, то это мало кого волновало. А если – нет? А если – нет, то необходимы более подробные сведения. В общем, все ждали.
Прошло, наверное, без малого минут сорок. Генеральный понял, что более валяться на полу смысла нет, встал и сел на своё место. Ещё минут сорок он просто сидел, молчал и смотрел на подчинённых так, как будто чего-то ждал от них. Подчинённые, в свою очередь, старались внимательно и правильно реагировать на поведение своего начальника. Они, подчинённые, не хотели мешать генеральному, они хотели дать ему возможность довести свой спектакль до логического конца. Генеральный это видел и ему это нравилось. Ему вообще нравились его подчинённые – люди, в большей своей массе, проверенные, надёжные и предсказуемые. В другой какой день он бы даже и отпустил бы всех с миром по домам, но только не сегодня. Сегодня день был особый.
Сегодня утром его вызвал владелец Сто первого канала и сказал: что канал испытывает серьёзные финансовые трудности, если не сказать больше, канал придётся закрыть в виду его полной нерентабельности, если не будет придумано что-то, что позволит исправить положение и на всё про всё он, владелец канала, даёт генеральному пол года, чтобы исправить ситуацию. В противном случае генеральный может катиться на все четыре стороны вместе со своим каналом, а ему, владельцу, ни он, ни канал этот и даром не нужны, только одни хлопоты от него и сплошные убытки.
– Что будем делать, господа? – поинтересовался генеральный у присутствующих, после того как сообщил всем неприятную новость.
Присутствующие, по-видимому, до конца оценили всю сложность ситуации и возможные последствия. Надо было что-то действительно начинать делать. Вопрос только: что делать?
Вот тогда и был придуман этот злополучный конкурс на лучший сценарий. Победителю конкурса обещали сто тысяч долларов и контракт на пять лет. Желающих победить оказалось более чем достаточно. Служащие канала не успевали перерабатывать поступающую информацию. В день на Сто первый поступало до двух, а то и трёх тысяч рукописей. Складывалось впечатление, что драматургами стали все жители города. Да что там города. Впечатление складывалось такое, что вся страна решила помочь Сто первому. За сценарии принялись и мужчины, и женщины, и взрослые, и дети, и свои, и чужие, и те, кто умели излагать свои мысли на бумаге, и те, кто ранее этим никогда не занимался. Естественно, что и я не удержался и послал на Сто первый все свои романы и повести.
При всей содержательной разницы текстов, присланных на Сто первый, объединяло их одно, а вернее – два: огромные объёмы и невероятно тупое содержание. Какую чушь только не предлагали в этих сценариях. Глупость, алчность, невежество, абсолютная безыдейность и всё это на фоне абсолютной безграмотности – вот тот неполный перечень, чем пронизаны были тексты. Другими словами, страна показала себя, своих людей и их способности в полной, так сказать, мере. Можно было, конечно, предположить, что в стране не всё гладко, но предположить такое было нельзя, потому что страшно было такое предполагать. Предположить, что страна сошла с ума? Нет-нет. Только не это. Предположить, что ситуация зашла настолько далеко не мог никто. Вести речь о недостатках граждан страны нашей можно и нужно, но не тогда, когда пороки достигают таких масштабов. Когда цифры достигают критической массы, то говорить уже поздно, нужно действовать. Хотя… Как действовать? Что делать в таких ситуациях? И сейчас-то на этот вопрос вряд ли найден ответ, а что уж говорить о прошлом… Но, мы отвлеклись. Далее – более. Число пишущих стало увеличиваться в геометрической прогрессии. Каждый жаждал высказать своё наболевшее, каждый стремился показать себя и, что характерно, делал это успешно.
Труднее всего приходилось старшему поколению, тем, кто пользовался у нас правом бесплатного проезда в пригородных электричках. Они, я имею в виду льготную категорию граждан, тоже хотели сто тысяч в твёрдой валюте, но, будучи не в ладах с современными печатными устройствами, всё больше работали от руки и почему-то химическими карандашами, что значительно затрудняло прочтение.
Не скажу, что было легко детям. Дети хоть и использовали компьютерную и прочую технику, однако и им драматургия не давалась легко. У детей дело затрудняли и абсолютная безграмотность, и катастрофически малый словарный запас. Дети не то что не могли просто грамотно изложить то, что думали, а и просто выразить мысль свою были не в состоянии, потому как слов для этого им не хватало. У них, у детей, всё носило характер подтекста, недомолвок и уж какой-то слишком скрытой аллегоричности и метафоричности.
Что касается лиц зрелого возраста, то здесь, чего-чего, а уж словарного запаса было не то что достаточно, а и даже в избытке. Но то, что для детей было бы достоинством, то для взрослых стало недостатком и мысль терялась за нагромождением словес и выражений.
Вот и выходило, что у одних были мысли, но не было их выражения, у других выражения слишком глубоко хоронили мысли, а у третьих мыслей уже просто не было, а были только огрызки химических карандашей и обмусоленные ими языки синие, да дрожащие руки, пытающиеся эти огрызки удержать и хоть что-то с их помощью изобразить.
Полгода пролетели незаметно. Конкурс не дал ожидаемых результатов. Сто первый канал закрыли. Генеральный, после того как лишился работы, обиделся на всех, во всём разочаровался, остаток своей жизни прожил бессмысленно и, глупо скончавшись, на пункте дальнейшего распределения был направлен в Мир Грёз и Сбывшихся Желаний. Большая часть сотрудников перешла работать на Сто второй канал, который был открыт вместо Сто первого.
Вот такая история произошла в нашем городе этой зимой.
8
Однако, нет худа без добра. Если на Сто первый канал мои произведения впечатления не произвели, зато они произвели впечатление на Лекса, что, как я и сам сейчас понимаю, гораздо лучше.
Надо сказать несколько слов о тех произведениях, что вошли в сборник, который я послал на Сто первый канал и с которыми ознакомился Лекс. Не могу сказать о них ничего хорошего. Прорвались те, кто понаглей и в ком было больше хамства. Я не следил за очередью, тем более что это и невозможно. Видеть и слышать их ругань, переходящую в драку, которая нередко кончалась поножовщиной и трагическими случаями в результате её, у меня сил не было. Я решил, что пусть разбираются сами. Решил, что буду их принимать по мере поступления, а очерёдность пусть определяют сами. Но зрелище, я Вам скажу, примечательное. Я имею в виду то, как эти истории определяют, кому и за кем идти.
Одно я потребовал от них строго: чтобы заходили по одному. Первые сорок – самые что ни на есть достойные представители класса, если так можно выразиться, полного отстоя. Поднялись с самого, если так можно выразиться, дна, в прямом и переносном смысле. И в том смысле, что уже давно бродят в надежде быть подобранными хоть кем-то, и в том смысле, что произошли от тех, кого, мягко говоря, в приличное общество и не зовут. Те персонажи, о ком были эти истории, и сами по себе вызывали отвращение, а потому и истории о них другого отношения к себе вызывать и не могут. Они бы и хотели вызывать другие отношения, но не могут.
По-видимому, Лекс каким-то образом, не знаю, правда, каким, умудрился прочесть мои рассказы. Скорее всего, ему, что-то в них понравилось, и он решил доверить мне ретрансляцию своего романа.
Когда я впервые увидел Лекса, то принял его за сумасшедшего. Он пришёл в мой дом поздно ночью. Сказал, что будет у меня жить какое-то время. За это время он познакомил меня со своими произведениями. Сильное впечатление произвёл на меня его роман, трилогия «Тела, Души, Духи». Повесть «Секта» тоже показалась мне интересной. Но кроме этого Лекс ознакомил меня и со своим последним произведением, с романом «Два процента от Бога».
До встречи с ним я относился к себе и к своим творческим способностям достаточно сдержанно. Но после того, как я ознакомился с его произведениями, я понял, что несколько принижаю свой талант. Сказать, что произведения Лекса мне не понравились, значит не сказать ничего. Что касается самого романа «Два процента от Бога», то я, если честно, вообще ничего из того, что там было сказано, не понял. Предложение Лекса ко мне о том, чтобы стать ретранслятором его произведений здесь на Земле, меня, если честно, особо не воодушевило. Однако я согласился. Лекс умеет уговаривать. Мы подписали предварительный договор и я пригласил его на свою дачу. У меня есть дача, на берегу реки Грязная.
9
Следующим вечером мы уже тряслись в скором поезде. Лекс предложил поужинать в вагоне-ресторане. Я отказывался, говорил, что у меня с собой целая миска варёных яиц, но Лекс настоял на своём и мы пошли в вагон-ресторан. В вагоне-ресторане мы сели за первый столик.
– Что будете пить? – спросил я. – Водка, коньяк…
– Я не пью спиртное и не ем мяса, – зло сверкая глазами, ответил писатель Лекс.
– А рыбу? – спрашивал я.
– И рыбу, – грубо отвечал писатель Лекс.
– И курицу не едите? – спрашивал я, хотя заранее знал ответ.
– Не ем, – коротко отрезал писатель Лекс. Он старался выглядеть спокойным, но это ему плохо удавалось.
– Всё Вы врёте, всё Вы едите и пьёте, только скрываете, – сказал я.
– Зачем мне это скрывать? – как бы между прочим интересовался писатель Лекс.
– Может, затем, чтобы казаться лучше, чем Вы есть, – уже явно хамил ему я, вспоминая миску варёных яиц, оставленных в купе.
– Лучше? Зачем мне казаться лучше? – пожимал плечами писатель Лекс.
– Затем, что Вы негодный человек, судя по Вашим рассказам, – переходил уже на открытое оскорбление я.
– Судя по Вашим произведениям, Вы тоже сволочь порядочная, – не выдержал писатель Лекс.
– А я и не скрываю этого, в отличие от Вас, и не заявляю, что я не пью спиртного и не ем мяса, – сказал спокойно я.
– Вы полагаете сие добродетелью – не пить спиртное и не есть мяса? – спросил писатель Лекс.
– Не знаю. Но точно знаю, что выпить Вы не дурак и мяса поесть всегда готовы. Нет, скажите?
– Скажу нет, и оставим, – ответил писатель Лекс и обратился к официанту. – Мне, пожалуйста, кофе, яичницу и бутерброд с сыром.
– Мне то же самое, – сделал свой заказ я.
– А как же водка и прочее? – с усмешкой спросил писатель Лекс.
– Бросьте, какая там водка. Я тоже не пью и не ем, – устало сказал я.
– К чему тогда всё это? – поинтересовался писатель Лекс.
– Так, разминка, – ответил я.
Вот таким был наш первый с Лексом откровенный разговор. Я и после с ним часто разговаривал, но всё в подобном тоне и духе.
10
Но, справедливости ради, хочу Вам сказать, я сам предлагал Лексу другие кандидатуры. Я познакомил его с некоторыми своими знакомыми, тоже писателями, но он, внимательно изучив предложенное мною, всё же решил, что никто из них не годится, а только я сумею правильно ретранслировать его произведение. Вы, может, интересуетесь, кого именно я предложил Лексу? Уверяю Вас, что это были действительно кандидатуры достойные. Например, Варвара Купцова. Чем не вариант? И если бы Варвара на тот момент не страдала, то вполне могла сойти за ретранслятор для романа Лекса.
Но Варвара страдала. Более того… Мы с Лексом даже пытались успокоить её, взяли такси и поехали на квартиру к Купцовой.
– Чего страдаешь, Варвара Купцова? – спросили мы, сидя у неё на кухне и тыкая вилками холодный винегрет, который Варвара предложила нам и который запивали квасом настолько холодным, что зубы ломило.
– Ах, – закатывала Варвара глаза, – и не спрашивайте.
– Ну ты скажи, – настаивали мы. – Нам интересно.
– Сказала бы я вам.
– Так что удерживает? – спросил Лекс.
– Всё это так мелко, так… Не знаю даже и выразить-то как…
– Томишься, видим мы, а ты раскрой сердце и легче почувствуешь себя. – Сказал я.
– Сколько вы меня знаете?
– Да уж поди лет пятьдесят, как знаем тебя, Варвара Купцова, – честно ответил я за двоих.
– Да нет же. Нет, я не про это… Какие вы, однако… Такта в вас нет… Сколько вы меня знаете с того времени, как я известной писательницей стала?
– Да уж лет пять минимум, как мы тебя, Варвара Купцова, знаем, как не только известную, но и талантливую русскую писательницу, автора ста пятидесяти восьми книг по триста страниц каждая, – ответил я и подмигнул Лексу.
– Что, неужели так много?
– Пять минимум, не сомневайся, – уверил я.
– Да я не про это. Я про сто пятьдесят восемь книг по триста страниц каждая.
– Да уж, постаралась, краса наша, Варвара Пётровна. Иной и за десять жизней и одной книги не напишет, а ты… – искренен ли был я в тот момент? Не знаю. Во всяком случае мне хотелось хоть как-то развеселить Варвару.
– Слушайте… Это если на пять лет разделить, так по тридцать штук в год получается, так что ли?
– Почти по тридцать две, – быстро сосчитал Лекс.
– Обалдеть, – воскликнула Варвара. – Когда успеваю только?
– Талант, одно слово. Чего маешься только, спрашивается? – как бы между прочим, равнодушно поинтересовался Лекс.
– Ах да, чуть не забыла, – опомнилась Варвара. – Маешься! Вот именно. Спасибо, напомнили. Маюсь.
– Чего маешься? – спросил Лекс.
– Никто автографы не спрашивает, – ответила Варвара, глядя Лексу в глаза.
– Что, ни разу? – удивился Лекс и посмотрел на меня. Я в недоумении пожал плечами.
– Ни разу, – ответила Варвара.
– Что, за пять лет, ни разу? – не верил Лекс.
– Вот именно, что за пять лет и ни разу.
– Странно. К чему бы это? – сам у себя спросил Лекс.
– Может, не узнают? – спросила Варвара.
– Тебя, да не узнать? – усмехнулся я.
– А вдруг? – настаивала на своём Варвара.
– Так ведь фотографии твои на каждой обложке, – сказал я.
– Действительно, на каждой, – согласилась Варвара. – Почему тогда?
– Может, ты нигде не бываешь? – поинтересовался Лекс.
– Да везде я бываю, – отмахнулась Варвара.
– Везде быть ещё недостаточно, – философски заметил Лекс. – Надо быть там, где надо.
– А где надо? – спрашивала Варвара и глаза её были широко открыты.
– Там, где у писателей автографы берут, – в один голос учили мы Варвару. – Вот там и надо быть.
– А где у писателей автографы берут? – сквозь слёзы спрашивала Варвара.
– Это уж вам, известным писателям, видней, где у вас автографы берут, – ушли от ответственности мы.
– Может, в союзе у кого спросить? – задумалась Варвара.
– Спроси, горемычная, успокой сердечко своё, – посоветовал Лекс.
Утром, в главном офисе союза писателей, Варвара, сидя на подоконнике, допрашивала другого талантливого русского писателя. Мы с Лексом при этом не присутствовали, но слышали от других, от тех, кто присутствовал, а потому передаём то, что слышали, с их слов.
– Вадим, – допрашивала Варвара одного молодого, но талантливого писателя, – скажите, у Вас автографы просят?
– Кто просит? – удивился Вадим.
– Ну там… люди… читатели… откуда я знаю, кто… Просят или нет?
– Нет, – скучающим голосом ответил Вадим.
– Как? И у Вас? – ужаснулась Варвара.
– А у кого ещё? – спросил Вадим.
– Ну Вы же талантливый русский писатель, – не заметила вопроса Варвара, – Вас по телевизору показывали. Вас вся страна наша знает и, на тебе, такой ответ. Вы не находите это странным?
– Честно говоря, – вяло заговорил известный русский писатель Вадим, – это действительно я нахожу странным.
– Не знаю, чего им ещё надо? – сама у себя спрашивала Варвара, сидя на подоконнике и пуская изо рта сигаретный дым небольшими кольцами.
– А у Вас, Варвара Пётровна, просят? – спросил Вадим.
– В том-то и дело, Вадим, в том-то и дело, что нет, – трагическим голосом, ответила Варвара.
– А у кого-нибудь вообще просят? – интересовался Вадим, оглядываясь вокруг.
– У кого-нибудь, конечно, просят, наверное, – отвечала Варвара, выпуская клубы дыма из ноздрей.
– Вот счастливый человек тот, у кого берут, – задумчиво произнёс Вадим.
– И не говорите, Вадим, – согласилась с ним Варвара.
В то время к ним подошли двое. Тоже известные русские писатели. Вернее один писатель и одна писательница. Писательницу звали Симма Мяка, а писателя – Звонарёв.
– Звонарёв, – обратилась к нему Варвара, – скажите, а у Вас автографы спрашивают?
– Не пугайте меня, Варвара, – хмуро огрызнулся Звонарёв, – мне даже место в троллейбусе не уступают.
– Значит и у Вас не берут. Я так и думала. Но почему и у Вас, Звонарёв? Вы – большой мастер русской словесности и не просят? Не понимаю.
– И у меня не просят, – робко заметила Симма Мяка и покраснела.
– Ну, у Вас… понятно, в общем, – деловито произнесла Варвара, брезгливо оглядывая Симму с ног до головы.
– Уважаемые члены городского союза великих русских писателей, – подал голос Вадим, – а не поднять ли нам этот вопрос на совете секретарей?
– Предлагаю поднять на съезде, – уверенно предложил Звонарёв.
– Да, на съезде лучше, – согласились все и дружно пошли на съезд.
– Кстати, Звонарёв, – поинтересовался Вадим по пути группы на съезд, – а куда Вы на троллейбусе ездите? Вы это серьёзно?
– Каком троллейбусе? – не сразу сообразил Звонарёв.
– На том, где Вам место не уступают, – уточнил Вадим.
– Видите ли, Вадим… – начал свой рассказ Звонарёв и группа скрылась за поворотом.
Был съезд. Меня и Лекса туда не пустили. Но мы дождались его окончания и послушали, о чём говорили присутствовавшие на нём. После съезда члены городского союза великих писателей расходились весьма озадаченными. Как выяснилось, автографы не просили не только у Купцовой, Вадима, Звонарёва и Мяки, но и ни у кого и никогда. Не просили не только у молодых, но и у старшего поколения, великих членов городского писательского союза. Пришли к выводу, что в нашем городе это не принято. На том и разошлись.
– Ну как вы не понимаете, – не унималась Варвара, – ведь я в первую очередь женщина, а уж потом писательница. Для меня внимание на первом месте. Это Звонарёву, может, наплевать, а мне – нет, – говорила уже нам, мне и Лексу, Варвара, когда вечером, после всего этого, мы сидели в подвале одного ресторана.
При упоминании своего имени, Звонарёв тяжело поднял голову и как-то странно, скорее даже, страшно посмотрел на Варвару. Но смотрел он недолго. Голова его вскоре опустилась щекой на стол и уже нескоро опять поднялась.
– Вот у артистов просят автографы, – продолжала Варвара, не обращая внимания на странное поведение Звонарёва, – у спортсменов тоже просят, даже у директора зоопарка и то просят, а у нас – нет, а у меня – нет. Я не жалуюсь. Я понимаю. И материально у меня, тьфу-тьфу-тьфу, всё наладилось: ремонт в квартире сделала, холодильник купила, дочке обнову справила, она же, вы знаете, взрослая уже у меня, замуж скоро.
– Ой уж, скоро ли? – поинтересовался Вадим, – ей и четырнадцати нет ещё.
– Нет, так будет. Я не об этом. Мне не слава нужна, вы же понимаете.
– А что Вам надо? – спросила Симма Мяка.
– Ой… Симма… Какая Вы… Честное слово… Неужели и так не ясно… Внимание мне надобно, надобно, чтобы замечали те, кому положено.
– Кому положено? – поинтересовался, но с трудом, не поднимая головы, поскольку уже был сильно пьян, Звонарёв. К слову сказать, пьяны были уже все, да и ресторан закрывался. Было уже четверть третьего ночи.
– Кому положено, тот знает, – резонно поддержал Варвару Вадим, с трудом вставая, не без явной помощи Симмы Мяки.
На следующий день Варвара пошла в церковь. Я и Лекс, естественно, отправились за ней.
– Господи, – молила Всевышнего Варвара Купцова, – сделай так, чтобы просили у меня автографы. А так, всё у меня в порядке – и муж, и дочка, и квартиру отремонтировали, и холодильник… Всё это, тебе благодаря, я ж понимаю. Заставь вечно… Господи… Чего-то не то я, вроде… В общем, ты понимаешь.
Господь был в тот день и час не шибко занят и… молитва Варвары была им услышана. Варвару он знал хорошо, понимал её, ну и решил дать ей того, чего сама просит, тем более, что большого труда это для него не составляло, не второй же холодильник, в самом деле, просила великая русская писательница Варвара Купцова.
С тех пор Варвара больше не пишет. Смысла нет. Сами понимаете, она же не ради славы, а только чтобы заметили, чтобы, значит, внимание было. Ну, чего-чего, а внимания к её персоне после той молитвы хоть отбавляй. Варвара не нарадуется. Правда, больше не пишет. Жаль. Жаль. Огромную утрату понесла отечественная словесность. Да-а, знал, видать, Господь, что делал, когда творил сие чудо. За что ему от всех нас огромное спасибо.
Во всяком случае, теперь Вы и сами видите, что выбор у Лекса был, но он предпочёл меня. Более мне по этому поводу сказать нечего. Хотя некоторые утверждают, что Лекс и я – это один и тот же человек и что всё дело в раздвоении личности, но я уверяю Вас, что это совершенно не так и, что я не страданию никаким раздвоением личности. Я – это я, а Лекс – это Лекс.