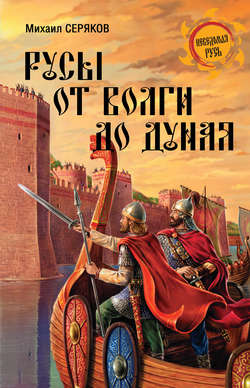Читать книгу Русы от Волги до Дуная - Михаил Серяков - Страница 5
Глава 3. Летописная традиция о Днепровской Руси
ОглавлениеХоть вопросу о происхождении Руси в Поднепровье уделялось гораздо больше внимания по сравнению с Карпатской Русью, однако к единому мнению исследователям не удалось прийти и тут. Рассмотрим сначала сведения, сохранившиеся в ПВЛ. Исследователи отечественного летописания достаточно давно заметили наличие в ней двух версий о происхождении Руси. Одна из них связывала ее происхождение с варягами и была подробно рассмотрена мною в «Одиссее варяжской Руси». Другую можно назвать «полянской». Под 852 г., то есть за десять лет до призвания трех варяжских князей, взявших с собой всю русь, от которой, как утверждал летописец, и прозвалась Русская земля, на арене мировой истории Русь уже действовала, причем действовала более чем активно: «Въ лѣт 852. Индикта 15 дн҃ь 29. наченшю Михаилу црс̑твовати нача сѧ прозъıвати Руска землѧ. ѡ семь бо увидѣхомъ. яко при семь цр҃и приходиша Русь на Цр҃ьгородъ. якоже пишетсѧ в лѣтописаньи Гречьстѣмь»112 – «В год 852, индикта 15, когда начал царствовать Михаил, стала прозываться Русская земля. Узнали мы об этом потому, что при этом царе приходила Русь на Царьград, как пишется об этом в летописании греческом». Как отмечают исследователи, на самом деле византийский император Михаил III, упоминаемый в данной статье, вступил на престол в 842, а не в 852 г. Под 862 г. упоминается, что два боярина Рюрика, Аскольд и Дир, отправились на юг и сели править в Киеве: «и бѧста оу него. в҃. мужа не племени его ни боӕрина. и та испросистсѧ ко Цр҃югороду с родомъ своимъ. и поидоста по Днѣпру. и идуче мимо и оузрѣста на горѣ градок и оупращаста. [и] рѣста чии се градокъ. ѡни же рѣша бъıла суть. г҃. братьӕ. Кии. ІЦекъ. Хоривъ. иже сдѣлаша градоко-сь. и изгибоша и мъı сѣдимъ. платѧче дань родомъ ихКозаромъ. Аколъдо же. и Диръ. ѡстаста въ градѣ семь. и многи Варѧги скуписта. и начаста владѣтПольскою землею. Рюрику же кнѧжаста в Новѣгородѣ»113 – «И было у него два мужа, не родственники его, но бояре, и отпросились они в Царьград со своим родом. И отправились по Днепру, и когда плыли мимо, то увидели на горе небольшой город. И спросили: “Чей это городок?” Те же ответили: “Были три брата, Кий, Щек и Хорив, которые построили город этот и сгинули, а мы тут сидим, родичи их, и платим дань хазарам”. Аскольд же и Дир остались в этом городе, собрали у себя много варягов и стали владеть землею полян. Рюрик же княжил в Новгороде».
Под 866 г. летопись сообщает об их походе на Царьград, причем в тексте они также именуются Русью: «Въ лѣт 866. Иде Асколдъ и Диръ на Греки и прииде въ 14 [лѣто] Михаила цр҃ѧ. цр҃ю же ѿшедшю на Ѡгарѧнъı. [и] дощедшю єму Чернъıє рѣки. вѣсть єпархъ посла к нему. яко Русь на Цр҃ьгородъ идеть. и вратисѧ цр҃ь си же внутрь Суду вшедше. много оубıиство крт҃нмъ створиша. и въ двою сотъ корабль Цр҃ьградъ ѡступиша. Цр҃ь же єдва въ градъ вниде [и] с. патреӕрхомъ съ Фотьємъ къ сущеи цр҃кви ст҃ѣи Бц҃ѣ Влахѣрнѣ [и] всю нощь молт҃ву створиша таже бжт҃вную свт҃ъı Бц҃ѧ ризу с ими изнесъше в рѣку ѡмочивше тишинѣ сущи [и] морю оукротившюсѧ. абьє бурѧ въста с вѣтромъ. и волнамъ вельямъ въставшемъ засобь безбожнъıхъ Руси корабль смѧте…»114 – «В год 866. Пошли Аскольд и Дир на греков и пришли к ним в четырнадцатый год царствования Михаила. Цесарь же был в это время в походе на агарян, дошел уже до Черной реки, когда епарх прислал ему весть, что Русь идет на Царьград, и возвратился цесарь. Эти же вошли внутрь Суда, множество христиан убили и осадили Царьград двумястами кораблей. Цесарь же с трудом вошел в город и всю ночь молился с патриархом Фотием в церкви святой Богородицы Влахернской, и вынесли они с пением божественную ризу святой Богородицы и погрузили в реку. Была в это время тишина и море было спокойно, но тут внезапно поднялась буря с ветром, и встали огромные волны, и разметало корабли безбожной Руси…» На самом деле, как следует из византийских источников, нападение Руси на Константинополь произошло в 860, а не в 866 г., причем, что важно для нашего исследования, нападавшие назывались именно Русью. Итак, на этот раз уже не только отечественный, но и иностранный источник подтверждает существование Руси за два года до призвания варягов. Поскольку в 882 г. Аскольд и Дир были убиты Олегом, захватившим Киев и действовавшим от лица малолетнего сына Рюрика Игоря, целый ряд исследователей не без основания предполагает, что Аскольд и Дир были независимыми правителями Киева, а с Рюриком были связаны лишь впоследствии на страницах летописи. В пользу этой версии говорит и отмеченное выше хронологическое несоответствие, поскольку руководители похода 860 г. никак не могли быть боярами призванного лишь в 862 г. Рюрика, если только его призвание не произошло раньше.
Кем были Аскольд и Дир? Утверждение о том, что они были боярами основателя династии вызывает определенные сомнения и достаточно давно было высказано мнение, что оно было сделано летописцем со вполне определенной целью – представить Рюриковичей единственно законной династией, а убитым Олегом правителям Киева отказать в легитимности, для чего их и изобразили боярами Рюрика, отложившимися от его сына и самовольно захватившими власть на юге. Польский историк Ян Длугош в своем труде называет их потомками основателя Киева: «Затем, после смерти Кия, Щека и Корева, их сыновья и потомки, наследуя по прямой линии, княжили у русских много лет, пока такого рода наследование не привело к двум родным братьям – Оскальду и Диру»115. Часть отечественных историков восприняло эту версию, полагая, что она основывается на несохранившихся русских летописях, которыми мог пользоваться Длугош. Однако и это утверждение несвободно от политической мотивации: согласно польскому хронисту, Рус был потомком прародителя поляков Леха, и в этом отношении Рюриковичи оказываются захватчиками Киева, изначально принадлежащего потомкам Леха. Таким образом, подчеркивая местное происхождение Аскольда и Дира, польский хронист тем самым косвенно отрицал права Москвы на Киев.
Некоторые отечественные летописи занимают как бы промежуточную позицию между этими двумя крайними точками зрения. Новгородская первая летопись, которая, как полагает часть исследователей, сохранила следы более древнего текста, чем ПВЛ, считает Аскольда и Дира варягами, но при этом ничего не говорит о том, что они были боярами Рюрика. Более того, впервые они появляются на ее страницах сразу после рассказа о смерти Кия, Щека и Хорива и полянской дани хазарам: «И по сих, братии тои, приидоста два Варяга и нарекостася князема: одному бѣ имя Асколдъ, а другому Диръ; и бѣста княжаща в Киевѣ, и владѣюща Полями; и бѣша ратнии съ Древляны и съ Улици»116. Когда же эта летопись сообщает об убийстве обоих братьев Олегом, в ней нет встречающихся в ПВЛ слов Олега про малолетнего Игоря: «Вот он сын Рюрика», то есть оба киевских правителя опять-таки никак не связываются новгородским летописцем с первым русским князем. Иоакимовская летопись говорит об одном Аскольде и утверждает, что он был направлен на юг самим Рюриком: «Славяне, живусче по Днепру, зовомии поляне и горяне, утесняеми бывши от козар, иже град их Киев и протчии обладаша, емлюсче дани тяжки и поделиями изнуряюсче, тии прислаша к Рюрику преднии мужи просити, да послет к ним сына или ина князя княжити. Он же вдаде им Оскольда и вои с ним отпусти. Оскольд же, шед, облада Киевом и, собрав вои, повоева первее козар, потом иде в лодиах ко Царюграду, но буря разби на мори корабли его. Олег бе муж мудрый и воин храбрый, слыша от киевлян жалобы на Оскольда и позавидовав области его, взем Ингоря, иде с войски ко Киеву. Блаженный же Оскольд предан киевляны и убиен бысть…» Сам В.Н. Татищев в примечании к этому тексту отметил: «Оскольд. Хоть Иоаким точно сыном Рюриковым его не имяновал, но обстоятельство утверждает, ибо киевляне не просили бы сына, если бы его не было»117.
Неожиданно большое количество сведений по правлению Аскольда, причем отсутствующих в других летописных сводах, дает Никоновская летопись. Под 864 г. она отмечает: «Убiенъ бысть от Болгаръ Осколдовъ сынъ», что, как отмечает Б.А. Рыбаков, подтверждается указанием персидского Анонима о том, что «Внутренняя Болгария находится в состоянии войны со всей Русью». Одновременно с известием о смерти Синеуса и Трувора этот источник сообщает, что «того же лѣта воеваша Асколдъ и Диръ Полочанъ и много зла сътвориша». На следующий год после сообщения о походе братьев на Царьград и гибели флота русов в результате чуда с ризой Богородицы летопись констатирует: «Възвратишася Асколдъ и Диръ от Царяграда въ малѣ дружинѣ, и бысть въ Кiевѣ плачь велiй. Того же лѣта бысть въ Кiевѣ гладъ велiй. Того же лѣта избиша множество Печенѣгъ Осколдъ и Диръ»118. Далее в этой же летописи говорится о крещении Руси при Аскольде в результате чуда с несгораемым Евангелием и убийстве Олегом обоих братьев.
Решить проблему происхождения убитых Олегом правителей Киева пытались и при помощи анализа их имен. Норманист М. Фасмер попробовал вывести имя Аскольда из др. – сканд. Hoskuldr119, но обошел молчанием имя Дира. Восполнить пробел попытался туземный норманист Г.С. Лебедев: «Имя Дир, как и Аскольд, рассматривается как скандинавское. Безусловно, это так, если только это имя, но может быть, и прозвище. Djor, Djur на древнесеверном языке – Зверь, образ и понятие эсхатологическое. “Зверь”, “Большой Зверь” – характерные имена флагманских кораблей викингов, прозвища-титулы, такие как Gramr – лютый, Ulf – волк, сопровождали имена вождей. Ивар водивший боевые корабли и дружины по всем странам, очерченным в “Круге Земном”, мог носить подобное прозвище или до, или после того, как получил более почетное – Видфамн, Широкие Объятия, под которым вошел в сагу. Конунг Харальд после того, как подчинил себе всю Норвегию, стал вместо Косматого (Luva) “Прекрасноволосым” (Harfagr)»120. Однако, как сообщает сага, Харальд получил свое прозвище не потому, что воспринимался современниками в качестве зверя, а в силу данного им обета не стричься до объединения страны. Таким образом, в своем стремлении любой ценой истолковать летописные данные в скандинавском ключе, норманисты не останавливаются ни перед какой несуразицей, будучи готовы то приписать имени киевского князя эсхатологический оттенок, то соотнести его с драккаром.
С другой стороны, Б.А. Рыбаков, основываясь на варианте «Осколд», которая дает Никоновская летопись, попробовал связать Аскольда как со сколотами, так и с рекой Оскол. Что же касается Дира, то он считал, что его имя искусственно присоединено к Оскольду. Со времен В.Н. Татищева существует мнение, что «Дир» – это титул или прозвище князя Аскольда. Из числа последних исследований следует упомянуть монографию об ономастике Украины, авторы которой убедительно опровергают скандинавскую этимологию Аскольда, приводя русский антропоним Аскольдов, другие антропонимы др. – блр. Ясколдъ, блр. Яскалд, Яскулд, др. – польск. Askold, Jascold, а также ойконимы Яскалды/Ясколды, Яскулдовшчына. Лингвисты полагают, что все подобные названия были образованы в результате сочетания преформанта a-/ja- с корневой морфемой – skъld, что подтверждается антропономическими параллелями типа Явидъ < a-vidь, Яволодъ < a-voldъ и т. п. Названия с основой Сколд- концентрируются примерно в той же зоне, что и названия с основой Асколд-/Ясколд – на территории Черной Руси в бассейне Немана. Понять значение этого имени могут слова скулдыга – «скупщик пушнины» < сколдыга, сколдыра, скалдыра – «скряга, крохобор»121. Для имени Дир А.Г. Кузьмин предложил иллирийскую или кельтскую этимологию, в последнем случае со значениями «крепкий, сильный, верный, знатный»122. Однако, обратившись к словарю М. Морошкина, мы найдем там ряд западнославянских имен, как Дирслав, впервые зафиксированное уже в 983 г., Дирско и Дирскон123.
Прояснить загадку происхождения обоих правителей помогают иностранные источники. Выдающийся мусульманский автор Масуди, умерший в 956 г., так писал о Дире: «Мы упоминали при (описании) гор Кавказа и хазар, что в стране хазар (есть) люди из (числа) славян и русов, и они сжигают себя на огне. Эта разновидность славян и другие из них примыкают к востоку и (простираются) с запада. Первый из царей славянских – ад-Дир. У него обширные города и многочисленные земли. Купцы-мусульмане направляются в его столицу с товарами»124. Как видим, в данном месте русы прямо охарактеризованы как «разновидность славян», вслед за чем в качестве «первого из царей славянских» упоминается Дир. Попытки видеть в нем не правившего в Киеве Дира отечественной летописи, а Оттона I, герцога Лотарингского, и т. д. лишены какого-либо основания. Данное свидетельство опровергает гипотезу о Дире как о прозвище или титуле Аскольда.
Целый ряд византийских и западноевропейских источников упоминает нападение русов на Константинополь в 860 г., а так называемая «Брюссельская хроника» даже позволяет установить точную дату этого события – 18 июня. Большинство авторов называет нападающих росами или, как Иоанн Скилица, отождествляет их со скифами: «Росы же – скифский народ, живущий близ северного Тавра, дикий и свирепый»125. К этому кругу источников норманисты попытались отнести «Венецианскую хронику», чтобы доказать скандинавское происхождение русов. Интересующий нас фрагмент данной хроники гласит: «В это время народ норманнов на трехстах шестидесяти кораблях осмелился приблизиться к городу Константинополю. Но так как они не могли никоим образом нанести ущерба неприступному городу, они дерзко опустошили окрестности, перебив там многое множество народу, и так с триумфом возвратились восвояси». Однако дат в «Венецианской хронике» нет, и поэтому определить, в какое время совершилось описываемое ее автором нападение на столицу Византийской империи, точно не представляется возможным. От византийских и отечественных источников, описывавших поход русов 860 г., она отличается как количеством кораблей нападавших (триста шестьдесят против двухсот), так и конечным результатом набега (ни о каком триумфе русов говорить не приходится). Также не говорится о крещении нападавших – обстоятельстве, представлявшем несомненный интерес в глазах средневековом хронистов. Наконец, у более позднего автора XV в. Блонда Флавия, опиравшего на «Венецианскую хронику», имеется такое изложение событий: «В те времена, когда, как мы сказали, Карл Лысый принял власть над Римской империей, норманны, насытившись добычей, полученной в Аквитании и прочих галльских землях, привели флот из трехсот шестидесяти кораблей к Константинополю и, разграбив и предав огню его пригороды, вернулись в Британское море…» Этого места в «Венецианской хронике» нет, но перед описанием набега на Константинополь там сообщается о том, что норманны опустошали берега Франции. Все эти обстоятельства привели А.А. Васильева к выводу, что в «Венецианской хронике» речь шла не о русском походе на столицу Византии, а о неизвестном по другим источникам набеге норманнов126.
Норманисты, однако, полностью игнорируют Синаксарь Константинопольской великой церкви конца IX – начала Х в. Он содержит краткие сказания о святых и церковных праздниках и под 25 июня отмечает: «И нашествие сарацинов и рун (και των Ρουν), и лития во Влахернах»127. Такие исследователи, как Н.Ф. Красносельцев и Г.Г. Литаврин, относили это известие к походу русов 860 г. Действительно, если нашествие произошло 18 июня, то 25-го числа осада была в самом разгаре. Лития во Влахернах – молитвы во Влахернах Фотия и Михаила III, о которой упоминают не только отечественная ПВЛ, но и византийские источники. Так, например, «Продолжатель Георгия» следующим образом описывает этот эпизод правления Михаила III: «Басилевс же отправился в поход на агарян… оказался уже у Мавропотама, дал ему знать о нашествии безбожных росов. <…> Было же у них 200 судов, которые окружили город и внушили находящимся в нем великий страх. Басилевс же, прибыв, едва смог переправиться. И отправились они с патриархом Фотием во Влахернский храм Божьей Матери и там призывали к милости и состраданию Божество. Затем, вынеся с пением гимнов святой омофорий Богородицы, они окунули его краем в море; и хотя стоял штиль, сразу же начались порывы ветров, и на спокойном море волны стали громоздиться друг на друга, и суда безбожных росов были разбиты, так что лишь немногие избежали опасности»128. Как видим, Византийской империи в 860 г. пришлось воевать на два фронта – и против агарян-сарацин, и против росов, которых Синаксарь называет рунами. Однако точно так же называлось и славянское население острова Рюген, которые в средневековых источниках также неоднократно назывались русами. Данное уникальное свидетельство в сочетании с тем, что наиболее точные с этимологической точки зрения параллели именам Аскольда и Дира находятся в западнославянском мире, не только подтверждает варяжское происхождение обоих киевских правителей, но и в очередной раз доказывает западнославянское происхождение самих варягов. Археологические данные не только говорят о тесных контактах земель ильменских словен с Рюгеном, но и о переселении части жителей этого острова на север Восточной Европы. Таким образом, все эти факты позволяют рассматривать Аскольда и Дира как предводителей одного из варяжских отрядов. Поскольку точность дат в начальной части ПВЛ вызывает сомнение, нельзя исключать возможность того, что знаменитое призвание варягов произошло раньше, чем оно было впоследствии датировано летописцем. В этом случае теоретически существует возможность какой-то связи между Рюриком и Аскольдом и Диром, особенно если принять во внимание внезапно сделанный автором ПВЛ акцент на то, что последние были «не родственники его, но бояре». Однако существующий разнобой источников не позволяет делать какие-либо окончательные заключения по этому поводу.
В заключение рассмотрения сюжета о походе 860 г. следует отметить, что внезапное появление флота русов у столицы Византийской империи именно в тот момент, когда император отправился в поход на арабов, говорит, скорее всего, о хорошо налаженной разведке русов. Можно предположить, что разведка эта осуществлялась под видом торговли и, если это в действительности было так, свидетельствует о том, что русы уже посещали Константинополь. Очевидец нападения патриарх Фотий, говоря об этой «страшной грозе гиперборейской», отмечал, что «коварный набег варваров не дал молве времени сообщить о нем, чтобы были обдуманы какие-нибудь меры безопасности, но сама явь бежала вместе с вестью – и это в то время, как напали оттуда, откуда (мы) отделены столькими землями и племенными владениями, судоходными реками и морями без пристаней». Упоминание о судоходных реках свидетельствует в пользу локализации нападавших в Среднем Поднепровье и является аргументом против предположения о том, что рейд был осуществлен силами крымских русов. Стеная о том, что «безначальное и рабским образом снаряженное» войско русов издевается над столицей Византийской империи как над рабыней, глава церкви отмечал, что существовала реальная угроза взятия Царьграда: «О, как нахлынуло тогда все это, и город оказался – еще немного, и я мог бы сказать – завоеван!»129 Размах боевых действий русов в 860 г. помогает оценить и «Житие патриарха Игнатия»: «Ибо в то время кровожаднейшее скифское племя, так называемые росы, через Эвксинский Понт подступив к проливу и разграбив все усадьбы и все монастыри, напало к тому же и на соседние с Византием острова…» Сам Игнатий был сослан на остров Теревинф (Принцев архипелаг), на который напали русы: «Ибо посреди острова Плати стоит храм Сорока мучеников (Севастийских), а к нему принадлежит часовня Богоматери. Ее престол недавно опрокинули на землю росы, разорявшие остров…»130
Литературное наследие Фотия содержит несколько пассажей, говорящих о том, как византийцы воспринимали русов. Племя нападавших «незаметно, незначительно и вплоть до самого к нам вторжения неведомо», «народ незаметный, народ, не бравшийся в расчет, народ, причисляемый к рабам, безвестный – но получивший имя от похода на нас, неприметный – но ставший значительным, низменный и беспомощный – но взошедший на вершину блеска и богатства; народ, поселившийся где-то далеко от нас, варварский, кочующий, имеющий дерзость (в качестве) оружия, беспечный, неуправляемый, без военачальника»131. Характеристика народа рос как «причисляемый к рабам» (ἀνδραπόδοις) указывает на их отождествление со славянами, продававшимися на невольничьем рынке Константинополя. То, что последних в Византии называли именно так, доказывает печать должностного лица империи, датируемая 694–695 гг.: «(Печать) бывшего ипата славянских пленников (рабов?) (ἀνδραπόδον) епархии вифинов»132. Поскольку никакой источник не упоминает наличие в Византии в тот период сколько-нибудь заметного количества скандинавских рабов, данная характеристика Фотия является еще одним свидетельством в пользу славянской принадлежности нападавших. Как совершенно справедливо отметил С.П. Толстов, народ рос напомнил Фотию знакомые образы славянских пленных, которых он видел на улицах Константинополя.
В Окружном послании Фотий упоминает «тот самый так называемый (народ) Рос, те самые, кто – поработив (живших) окрест них и оттого чрезмерно возгордившись – подняли руки на саму Ромейскую державу!»133. Данное утверждение показывает, что к моменту похода на Константинополь русы покорили каких-то своих соседей, но, к сожалению, Фотий не конкретизирует, кого именно. Далее он говорит и о крещении русов: «Тот самый так называемый (народ) Рос… переменили языческую и безбожную веру, в которой пребывали прежде, на чистую и неподдельную религию христиан, сами себя охотно поставили в ряд подданных и гостеприимцев вместо недавнего разбоя и великого дерзновения против нас. И при этом столь воспламенило их страстное влечение и рвение к вере… что приняли они у себя епископа и пастыря…»134 Принятие христианства традиционно рассматривалось Византией как вхождение новообращенного народа в число подданных империи, что же касается «гостеприимцев», то в этом исследователи обычно видят указание на некий договор с Русью, обеспечивавший права византийских купцов и гарантии их неприкосновенности. В списках епархий Константинопольского патриархата начала XI в. только две митрополии названы по имени страны, а не города: Россия (№ 59/60) и Алания (№ 61)135. По поводу предположений, что при Фотии была крещена не Киевская, а какая-то другая Причерноморская Русь, П.В. Кузенков отмечает: «Едва ли ведение дипломатических переговоров с Византийской империей и назначение епископа, тем более архиепископа, могли бы иметь место в отношении некоей незначительной группы руси; и то и другое указывает на то, что Византия имела дело с достаточно мощным политическим образованием: ведь даже могущественный болгарский князь далеко не сразу добился назначения архиепископа для своей страны»136. А.В. Назаренко предполагает, что Русская епархия была учреждена в результате нового мирного договора 866/67 г. Относительно позднее «Сказание о крещении Руси», изданное А. Бандури, так говорит о русах: «Правили упомянутым народом несчетные века архонты многие и великие, коих прозвания не стоит нам перечислять из-за бесчисленности имен их; по прошествии же многих лет стал править ими один архонт по имени Владимир…»137 Если данный фрагмент основывается на более ранних источниках, а не является вымыслом автора этого «Сказания», то он свидетельствует о том, что соседям Руси была известна древняя история нашего народа и они даже слышали какие-то предания о его былых правителях.
В связи с первым крещением Руси следует отметить, что русские, наверное, являются единственным народом, который празднует свое поражение. Обязаны мы этим христианству, которое в память о чудесном спасении Константинополя в 860 г. установило праздник Покрова Богородицы. По поводу похода Аскольда и Дира Д.С. Лихачев отмечал: «Именно это событие способствовало особому почитанию русскими Богоматери, ее Успения и риз. Богоматерь стала покровительницей русского воинства, а праздник Покрова, посвященный ризам Богоматери, – праздником, который до XIX века праздновался только в России. Ни в Болгарии, ни в Сербии, ни в Молдавии и Валахии этот праздник до освобождения Балкан от османского ига вообще не был известен. Почему же событие, связанное с поражением Руси, стало знаком ее божественного покровительства, а Влахернский монастырь – одним из самых почитаемых русскими паломниками? Здесь нужно принять во внимание и средневековую идеологию, и психологию. Наказание Божие, с точки зрения человека того времени, – это знак особой заботы Бога о наказываемом. Наказывались русские язычники, победа же над ними греков-христиан была победой правоверных над неверными. Религиозные различия были для средневекового сознания важнее различий национальных»138. Мы видим, что насаждение новой религии неизбежно исподволь подтачивало национальное сознание русского народа, разрывая связь поколений, в результате чего новые единоверцы-греки казались новообращенным ближе, чем их языческие предки, победа над которыми христиан стала праздником для их потомков.
Однако вопрос о том, кем были русы, совершившие поход на Константинополь в 860 г., относится к периоду, непосредственно предшествовавшему призванию варяжских князей на Севере. Как письменные данные, так и анализ имен их предводителей указывает на то, что в основе своей это были западные славяне и в этом отношении отечественная летопись совершенно справедливо называет Аскольда и Дира варягами. Вопрос о том, действительно ли они были как-то связаны с Рюриком, остается открытым из-за противоречивости источников. Рассказывая далее о захвате Киева Олегом в 882 г., летописец неожиданно отмечает: «[И] сѣде Ѡлегъ кнѧжа въ Києвѣ. и реч Ѡлегъ се буди мт҃и градомъ рускими. [и] бѣша оу него Варѧзи и Словѣни и прочи прозвашасѧ Русью»139 – «И сел Олег княжить в Киеве, и сказал Олег: “Да будет это мать городам русским”. И были у него варяги и словене, и прочие, прозвавшиеся русью». Сторонники южной локализации Руси вполне справедливо обращают внимание на то, что «матерью городов русских» варяжский князь называет не Новгород или какой-либо иной северный город, что было бы логично, существуй первоначальная Русь на Севере, а южный Киев. Последнее предложение процитированного фрагмента понимается ими в том смысле, что, лишь оказавшись в Киеве, пришедшие с Олегом варяги, словене и другие воины его дружины начинают «прозываться» русью, то есть принимают название той земли, где они отныне поселяются. Хоть воины Аскольда и Дира уже до этого назывались русами, едва ли период их правления в Киеве был достаточным для того, чтобы вся эта земля стала восприниматься в качестве Руси. Правильность данного понимания подтверждается и расчетом лет правления первых русских князей, данным летописцем в статье 852 г.: «а ѿ перваго лѣта Михаилова. до перваго лѣт Ѡлгова Рускаго кнѧзѧ лѣт. к҃ѳ. а ѿ перваго лѣт Ѡлгова понеже сѣде в Києвѣ. до перваго лѣта Игорева. лѣт ла҃»140 – «А от первого года царствования Михаила до первого года княжения Олега, русского князя, 29 лет, а от первого года княжения Олега, потому что он сел в Киеве, до первого года княжения Игоря 31 год». Рюрик, согласно ПВЛ, умер в 879 г., и тогда же княжение перешло к Олегу, который захватывает Киев не сразу, а в 882 г. Под 913 г. летописец сообщает, что после смерти Олега начал княжить Игорь. Несложный математический расчет показывает, что, по мнению летописца, первый год княжения Олега, которого он здесь прямо именует «русским князем», приходится не на переход к нему княжения после смерти Рюрика, а на вокняжение его на юге, что дополнительно подчеркивается фразой «потому что он сел в Киеве». В действительности между летописной датой воцарения Михаила и захватом Киева Олегом прошло не 29, а 30 лет, однако эта небольшая ошибка может объясняться особенностями определения начала года в древнерусском летописании. Для нас здесь гораздо важнее другое обстоятельство: счет лет правления Олега именно в качестве русского князя автор ПВЛ ведет не с момента перехода к нему власти на Севере после смерти Рюрика, а с момента начала его правления в Киеве, который, соответственно, и рассматривается летописцем как центр полянской Руси. Эта же тенденция прослеживается и в летописной статье, посвященной междоусобной войне 1015 г. правившего в Новгороде Ярослава и захватившего власть в Киеве Святополка: «и събра Ярославъ Варѧгъ тъıсѧчю. а прочих̑ вои 40.000 и поиде на Ст҃ополка… слъıшавше се Ст҃ополкъ. идуща Ярослава. пристрои бе-щисла вои. [Роус̑. и Печенѣгъ. и изыд̑ противу ємоу. к Любичю…]»141 – «И собрал Ярослав тысячу варягов, а других воинов сорок тысяч, и пошел на Святополка… Услышав же, что идет Ярослав, Святополк собрал бесчисленное количество воинов, русских и печенегов, и вышел против него к Любечу…» Как видим, в данном случае русами именуется только киевская дружина Святополка, в то время как варяги Ярослава русью уже не называются.
Поскольку Киев был столицей племени полян, данную версию происхождения Руси обычно называют полянской. В рассказе ПВЛ о деятельности Кирилла и Мефодия она сформулирована достаточно четко: «бѣ єдинъ язъıкъ Словѣнескъ. Словѣни же сѣдѧху по Дунаєви ихже пряша Оугри и Марава. [и] Чеси и Лѧхове и Полѧне яже нъıнѣ зовомая Русь»142 – «Был един народ славянский: славяне, сидевшие по Дунаю и покоренные уграми, и моравы, и чехи, и поляки, и поляне, которые теперь зовутся русь». Как видим, в отличие от варяжской, полянская версия дает однозначный ответ об этнической принадлежности загадочной руси. Вслед за рассказом об основателе Киева Кие летописец вновь подчеркивает славянский характер Руси: «се бо токмо Словѣнескъ язъıкъ в Руси. Полѧне. Деревлѧне. Ноугородьци. Полочане. Дреговичи. Сѣверъ Бужане зане сѣдоша по Бугу послѣже же Велъıнѧне. а се суть инии язъıци. иже дань дають Руси. Чюдь. Мерѧ. Весь. Мурома. Черемись. Моръдва. Пермь. Печера Ямь. Литва. Зимигола. Корсь. Норова. Либь: си суть свои язъıкъ. имуще ѿ колена Афетова. иже жиоуть въ странахъ полунощнъıхъ»143 – «Вот кто только славянские народы на Руси: поляне, древляне, новгородцы, полочане, дреговичи, северяне, бужане, прозванные так потому, что сидели по Бугу, а затем ставшие называться волынянами. А это другие народы, дающие дань Руси: чудь, весь, меря, мурома, черемисы, мордва, пермь, печера, ямь, литва, зимигола, корсь, нарова, ливы, – эти говорят на своих языках, они от колена Иафета и живут в северных странах». Хоть живущие в Восточной Европе финно-угорские и балтские племена также причисляются в соответствии с библейской генеалогией к потомкам Иафета, летописец совершенно четко подчеркивает их отличие от славянской Руси, с которой они связаны лишь данническими отношениями.
С этими известиями летописи об изначальной южной локализации Руси следует соотнести и более поздние ее данные, в которых те или иные древнерусские города то относятся, то не относятся к Руси. Проанализировавший эти сообщения А.Н. Насонов пришел к выводу, что наряду с восприятием всего государства как Руси летописец подразумевал существование области, которую можно назвать Русью в «узком смысле» этого слова.
Рис. 7. Составленая А.Н. Насоновым карта «Русской земли» в узком смысле слова. Источник: Насонов А.Н. «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства. Монголы и Русь. СПб., 2002
Весьма показательно, что данная область не была связана с одним племенем: «Территория “Русской земли”, границы которой мы в общих чертах проследили по летописным известиям, не была старой племенной территорией, так как на ней обитали поляне, северяне или часть северян, часть радимичей и, может быть, часть уличей и вятичей; вхождение последних в состав “Русской земли” остается под сомнением. Перед нами следы неплеменного объединения, пределы которого определялись не этническим признаком. Устойчивость термина как термина географического показывает, что “Русская земля” весьма древнего происхождения и сложилась она, очевидно, не в XI в., когда из состава ее выделяются княжества Киевское, Черниговское и Переяславское, а значительно раньше. Наконец, выделение из состава ее трех поименованных “областей” заставляет предполагать, что Киев, Чернигов и Переяславль были некогда центрами этой “Русской земли”. Дошедшие до нас в Повести временных лет договоры с греками в древнерусских переводах с греческого в полной мере подтверждают такое предположение»144. На основании изучения летописных текстов им была составлена карта этой «Русской земли» в узком смысле слова (рис. 7). Отмечая, что и в последующие времена термин «Русская земля» часто употребляется в летописи при описании борьбы с кочевниками, этот исследователь предположил, что само это образование возникло еще до Олега и Игоря: «Присматриваясь к границам “Русской земли”, мы неизбежно приходим к выводу, что границы эти определились еще в условиях хазарского ига, слабевшего в течение второй половины IX в., что население “Русской земли” первоначально состояло из тех славянских племен, которые были подчинены ранее хазарам. В самом деле, все летописные данные говорят о том, что борьба с древлянами и покорение их киевскими князьями восходит к глубокой древности. Но чем же объяснить, что даже в XII в. древляне считались живущими за пределами “Руси”, “Русской земли”? <…> Очевидно, территориально она отлилась в очень древние времена, в период спада хазарского преобладания на юге и борьбы с хазарами»145. Свое исследование данной темы предпринял и Б.А. Рыбаков, также составивший карту «Русской земли» в узком смысле слова (рис. 8). Хоть оба выдающихся историка и расходятся в частностях, однако в целом их выводы совпадают.
Рис. 8. Составленая Б.А. Рыбаковым карта «Русской земли» в узком смысле слова: 1 – по историческим данным XII в.; 2 – по археологическим материалам VI–VII вв.; 3 – важнейшие места находок вещей VI–VII вв. Источник: Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества в XII–XIII вв. М., 1982
С этими наблюдениями над текстом отечественных летописей достаточно давно сопоставляются и некоторые достаточно ранние сообщения о Руси иностранных авторов. Константин Багрянородный в своем сочинении писал: «(Да будет известно), что приходящие из внешней России в Константинополь моноксилы являются одни из Немогарда (Новгорода. – М.С.), в котором сидел Сфендослав, сын Ингора, архонта России…»146 Поскольку Новгород отнесен императором к «внешней России», данное выражение как будто бы предполагает существование «внутренней России» уже во времена Игоря. Уже упоминавшийся «Баварский географ» так описывает Восточную Европу: «Кациры (Caziri), 100 городов. Руссы (Ruzzi). Форшдеренлиуды. Фрешиты. Шеравицы. Луколане. Унгаре»147. Исследователи признают, что это одно из ранних упоминаний Руси. В непосредственном соседстве с нею указаны хазары. Исследовавший данный текст с лингвистической точки зрения А.В. Назаренко отмечает, что источником заимствования д.-в.-н. Ruzzi было слав. Rusь, которая располагалась на юге Восточной Европы, скорее всего в Среднем Поднепровье. По поводу других соседей русов, форшдеренлиудов, мнения специалистов расходятся. Одни видят в этом названии «лесных людей», то есть древлян, другие – крымских варягов, третьи – характеристику русов как «руководящих, первых людей, первый, главный народ». Дополнительную трудность в трактовке обуславливает и то, что ни один другой источник, кроме «Баварского географа», его не упоминает. То же самое относится и к слову «фрешиты». И. Херрман понимает его как слово «независимые», являющееся еще одной характеристикой русов, однако его мнение разделяется не всеми специалистами. Шеравицы однозначной интерпретации не поддаются, а луколан достаточно много исследователей отождествляет с древнерусским племенем уличей. На основании фразы летописца «И беше седяще уличи по Днепру внизъ, а по семъ преидоша межю Бъгъ и Дънестръ, и седоша тамо» и археологических данных Б.А. Рыбаков показал, что до середины Х в. уличи жили на Днепре южнее полян148. Следует отметить, что самое первое упоминание о конфронтации правителей Киева с уличами, в результате чего они в конечном итоге переселились на Буг из Южного Поднепровья, относится к Аскольду и Диру, которые «къняжаща Кыевѣ и владѣюща полями и бѣша ратьни съ древляны и съ уличи».
Последующие исследования показали, что определенное этническое единство населения «Русской земли» в узком смысле слова все-таки имело место. Антропологи отметили близость древнерусского населения округи Чернигова и Переяславля с правобережным населением Киевского Поднепровья, то есть основных центров «Русской земли» в узком смысле слова, при фиксируемых этой наукой различиях с «северянскими» сериями, близкими облику дреговичей, радимичей и кривичей149. Однако вопрос о том, возникло ли оно до или после образования Древнерусского государства, остается пока открытым.