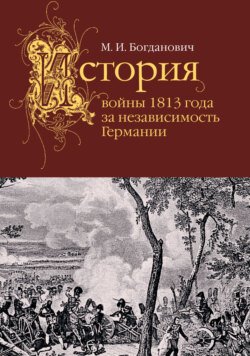Читать книгу История войны 1813 года за независимость Германии - М.И. Богданович, Модест Богданович - Страница 5
Том I
Глава II
Народные вооружения в Пруссии
ОглавлениеОдновременно с движением русских войск от Вислы к Одеру ополчились на французов жители Пруссии.
Не будем подражать немецким писателям, искавшим отнять у нас славу освобождения Германии. Воздадим должное нашим сподвижникам. Мы, русские, никогда не колебавшиеся, в годину бедствий матери-России, жертвовать последним достоянием и самими собой, мы вполне сочувствуем великим подвигам самоотвержения прусских граждан. Эти подвиги совершены чужеземцами, но они нам не чужды: они находят отголосок в душе нашей.
Чтобы получить ясное понятие о всеобщем восстании [в] Пруссии, необходимо бросить взгляд на современное положение этой страны.
По договору, заключенному в Тильзите, прусская монархия, возведенная гением Великого Фридриха в степень первоклассных государств, снизошла в ряд владений, порабощенных Наполеоном. Пространство, народонаселение, а вместе с тем и средства королевства уменьшились вполовину; государственные доходы были поглощаемы в течение 5 лет военными контрибуциями, наложенными Наполеоном и содержанием французских войск, оставленных между Эльбой и Вислой; почти все прусские крепости были заняты французскими войсками. Страна обеднела совершенно; многие землевладельцы, войдя в неоплатные долги, оставили наследственное достояние свое и скитались по миру; капиталисты терпели огромные убытки от застоя в делах либо скрывали свои капиталы. Общее уныние подавило дух народа: многие, потеряв надежду на возможность какой-либо перемены к лучшему, освоились с позором и предлагали скрепить цепи, в коих держала их мощная рука завоевателя, теснейшим союзом с Францией, то есть совершенной покорностью Наполеону. Наконец, армия была ограничена условием: содержать не более 42 000 человек; да ежели бы и не существовало такого условия, то Пруссия, по недостатку в средствах, не могла бы иметь более многочисленную армию. Ко всему этому присоединилась континентальная система, со всеми ее последствиями, имевшая пагубное влияние на торговлю Пруссии и бывшая причиной разрыва ее с Англией, Швецией и Северо-Американскими Штатами.
Таково было положение Пруссии: казалось, померк невозвратно последний луч надежды в душах жителей сей несчастной страны. Но Всевышний Промысел послал им в помощь мужей, не отчаявшихся в спасении Отечества, – Штейна и Шарнгорста. В то время еще, когда, вскоре по заключении Тильзитского трактата, Пруссия была наводнена французскими войсками, король Фридрих-Вильгельм III, удалившись на крайнюю черту своих владений, в Мемель, поручил Штейну начертать проект преобразований, имевших целью восстановление монархии. 23 сентября (5 октября) 1807 года ему вверено, в звании министра, управление всеми внутренними и иностранными делами. Одаренный в зрелых летах8 пылкостью юноши, Штейн соединял в себе глубокую веру в Божественное Евангелие с непреклонной твердостью в задуманном им предприятии – возвышении падшей Германии во всем прежнем ее величии и славе. Гордый, как феодальный барон, он, вместе с тем, был преисполнен любви к народу и душевного участия в судьбе его. Самая наружность этого великого мужа выказывала его душевные свойства. По словам коротко его знавшего Арндта, отличительными чертами плотного, широкоплечего, хорошо сложенного Штейна были высокий лоб, орлиный нос, маленькие карие весьма быстрые глаза и несколько выдавшийся подбородок. До самой старости он сохранил юношескую живость, всегда был душой общества и не находил подобного себе в находчивости и остроумии. Постоянно спокойный, погруженный в глубокие думы, он иногда увлекался горячностью своего характера, и в эти минуты его взоры имели блеск молнии, и голос его раздавался подобно грому. 27 сентября (9 октября) 1807 года, через 4 дня по назначении Штейна в обязанности министра, появилось давно уже задуманное им, впоследствии столь знаменитое, уложение, в коем заключались основные преобразования государственных учреждений: отменен закон, в силу которого только лишь одни дворяне могли владеть поместьями; небольшие крестьянские участки земли приписаны к мызам; крепостным крестьянам дарована личная свобода. По прибытии 3 (15) января 1808 года короля в Кенигсберг, продолжались реформы: законодательная часть совершенно отделена от административной и все министерства преобразованы.
Невзгоды, постигшие Пруссию, и порабощение Наполеоном Германии поселили в сынах ее мысль теснейшего соединения между собой, имевшего целью приготовить средства к восстанию, в ожидании благоприятного к тому времени. Таким образом, образовался Союз добродетели (Tugendbund), под руководством Штейна. Но реформы, задуманные и исполненные великим министром, вызвали сильное противодействие: люди отсталые либо себялюбивые, пользовавшиеся исключительно выгодами при прежнем порядке вещей, были естественными врагами Штейна. В числе их были: по военной части фельдмаршал Калькрейт, а по гражданской – старший министр Фосс. Нашлись в Пруссии люди, не устыдившиеся передать французскому правительству одно из Штейновых писем по делам Тугендбунда; следствиями того было удаление Штейна от должности министра в ноябре 1808 года и конфискация его имения в нассауских владениях. Его управление министерством продолжалось только год с небольшим, но составило эпоху нового порядка дел, и многие мудрые уставы, впоследствии обнародованные при государственном канцлере Гарденберге, были приготовлены Штейном1. При открытии военных действий в 1812 году Штейн, вызванный императором Александром из Праги в Главную квартиру русской армии, прибыл в Вильну, потом отправился в Петербург и находился там до отъезда государя в армию в конце года.
Одновременно с общими государственными реформами в Пруссии последовало совершенное преобразование военных учреждений. Душой этого важного дела был генерал Шарнгорст. Поступив в прусскую службу из ганноверской, уже 45 лет от роду, в 1801 году, когда в прусской армии преимущественно гонялись за выправкой и формой, Шарнгорст, кривобокий, небрежный в отношении к щегольству одежды, объяснявшийся вяло и невразумительно, считался в кругу своих товарищей мало способным, непрактическим человеком. Один из подчиненных ему тогда штаб-офицеров сказал напрямки, что всякий унтер-офицер может принести более пользы службе, нежели Шарнгорст. Несмотря, однако же, на такие толки, он был оценен по надлежащему начальством и в 1807 году, уже будучи в чине полковника начальником штаба у Лестока, способствовал блистательным действиям его в сражении при Прейсиш-Эйлау. По заключении Тильзитского договора Шарнгорст, произведенный в генерал-майоры, был назначен председателем комиссии, учрежденной для восстановления армии; в числе членов ее были приобретшие впоследствии громкую известность Гнейзенау, Борстель, Грольман и Бойен. Подобно Штейну, Шарнгорст встретил сильное противодействие со стороны бессознательных поборников системы Фридриха Великого, полагавших, что коренные реформы могли поколебать в самом основании прусскую военную систему. Но никакие препятствия не могли остановить твердого, непоколебимого Шарнгорста; затаив во глубине души свои виды и не открывая вполне даже самым близким к нему лицам свои намерения, он приводил их в исполнение не вдруг, а по мере того, как оказывалась необходимость в нововведениях; таким образом, успел он незаметно приготовить силы и средства в ожидании зари освобождения Германии. В эпоху Тильзитского трактата прусские войска состояли всего-навсего из нескольких тысяч человек; вся материальная часть армии находилась в руках французов; нравственные силы народа и войск были в совершенном упадке. Надлежало: создать новую армию, народную, подобную неприятельской; снабдить войска, при самых ограниченных средствах государства, артиллерией, оружием, одеждой, амуницией, лошадьми и сбруей; ввести уставы и тактику, сообразные с современными требованиями военного искусства; наконец, вдохнуть в народ и армию доверие к собственным силам, без которого слабы все вещественные средства.
Чтобы придать прочность новым постановлениям, надлежало, прежде всего, поддержать уважение к прежним. Еще во время пребывания короля в Мемеле последовал приказ о предании суду малодушных комендантов, сдавших без сопротивления неприятелю вверенные им крепости; тогда же исключены из службы все офицеры, сдавшиеся в плен у Пренцлова. 22 июля (3 августа) 1808 года объявлен новый воинский устав, о преступлениях и наказаниях, на основании коего уничтожена гоньба сквозь строй и вообще отменены все телесные наказания за какие бы то ни было преступления, кроме бесчестных поступков. Военная служба сделана обязательной для всех подданных Пруссии. На основании приказа 25 июля (6 августа) 1808 года производство в офицеры уже не зависело исключительно от происхождения, а обусловливалось в мирное время образованием, поведением и сведениями; в военное же время давали право на повышение только храбрость и отличные подвиги. Вместе с тем определены познания, необходимые для производства в офицеры, а для облегчения средств к приобретению сих познаний учреждены школы. В продолжение 1810 и 1811 годов Шарнгорст, с содействием нескольких офицеров, составил строевой устав, отличавшийся простотой и удобством и по справедливости могущий называться образцовым.
Главнейшим же из всех соображений Шарнгорста было образование вооруженных сил на случай восстания против Наполеона. По конвенции, заключенной 27 августа (8 сентября) 1808 года принцем Вильгельмом с французским правительством, прусская армия была ограничена числом 42 000 человек. Но Шарнгорст нашел средство приготовить несравненно большие силы, не увеличивая постоянной армии. Для этого рекруты, получив тактическое образование, с содействием кадров, составленных из старых солдат, были распускаемы по домам, а на место их собирались вновь другие, которые, в свою очередь, были увольняемы, и т. д. Молодые солдаты, возвратившиеся на родину, числились в резерве либо употреблялись для сооружения крепостей и на другие государственные работы. Несмотря на скудость финансовых средств Пруссии в эту эпоху, артиллерия, оружие, амуниция и военные припасы были заготовлены в большом количестве, и найдено 60 000 лошадей, годных на службу2.
Уплата военной контрибуции Наполеону, поглощавшая доходы тогдашней Пруссии, заставила правительство прибегнуть к ограничению государственных расходов. Король, во время пребывания своего в Мемеле и потом в Кенигсберге, жил весьма просто; а весной, по желанию королевы, переезжал в селение Гюбен, в соседстве Кенигсберга, где со всеми детьми помещался в нескольких комнатах. Пример его побудил многих из окружавших его лиц к умеренности и пожертвованиям на общую пользу, но этого было недостаточно для уплаты контрибуции в определенные сроки; а в ожидании того надлежало содержать на свой счет огромную французскую армию, занимавшую прусские владения. Правительство, для удовлетворения притязаний Наполеона, было принуждено прибегнуть к внутренним и внешним займам, к продаже государственных имуществ и к выпуску под залог их казначейских обязательств (Schatzscheine). Но внешним займам мешали зловещие слухи об уничтожении прусской монархии, что в действительности зависело от прихоти Наполеона.
25 мая (6 июня) 1810 года Гарденберг, в звании государственного канцлера, стал в челе управления Пруссии; а в конце октября того же года обнародовано состояние прусских финансов и объявлено о предстоявшем созвании областных депутатов в Берлине (куда переехал король еще в декабре 1809 года) для объяснения нужд и желаний народа и для приискания средств к окончательному удовлетворению французского правительства. Затем последовал целый ряд узаконений, заключавших в себе многие реформы по косвенным налогам3. 11 (23) февраля 1811 года было открыто собрание областных депутатов речью канцлера, в которой, стараясь доказать необходимость предпринятых нововведений, он торжественно обещал от имени короля введение представительного образа правления. 2 (14) сентября того же года обнародовано положение о взаимных обязанностях помещиков и крестьян, на основании коего последние получили в полную и неотъемлемую собственность свои усадьбы, обязываясь платить владельцам за наделение прочей землей ренту, определенную комиссией, составленной из экспертов4.
В 1811 году уже была уплачена половина военной контрибуции, и на основании договоров следовало французам очистить крепость Глогау. Но Наполеон нарушил это условие. При открытии войны между Россией и Францией Пруссия, волнуемая справедливыми опасениями насчет намерений императора французов, находилась в необходимости заключить с ним союз на каких бы то ни было условиях. Наполеон, пользуясь выгодами своего положения, включил в союзный договор 24 февраля 1812 года условие о продолжении занятия Глогау французскими войсками и ввел свои гарнизоны во все прочие прусские крепости, за исключением Грауденца и Кольберга. Таким образом, в 1812 году, содержа насчет Пруссии в Глогау, Кюстрине и Штетине 23 000 человек, он увеличил гарнизоны в Магдебурге до 12 000 и в Данциге свыше 20 000 человек; следовательно, мог совершенно господствовать в стране, где, за отбытием прусского вспомогательного корпуса на Двину, оставалось под ружьем только 20 000 человек собственных войск. Наполеон безжалостно воспользовался правом сильного, обременив несчастных жителей Пруссии огромным постоем войск и доставкой вслед за ними продовольствия и военных запасов.
Неудачный поход «Великой армии» в Россию возбудил надежды Пруссии, но жители ее и сам король, окруженные французскими войсками, по-прежнему находились в совершенной зависимости от Наполеона. К тому же – Фридрих-Вильгельм, несмотря на многие примеры вероломства, поданные Наполеоном, не решался нарушить заключенные с ним договоры. Таковы были причины, побудившие короля отрешить от командования войсками генерала Йорка. Желая избежать разрыва с Францией, канцлер Гарденберг покушался согласиться с Меттернихом о нейтралитете Пруссии совокупно с Австрией; но венский кабинет остерегался обнаружить свои намерения. Фридрих-Вильгельм был принужден выжидать, пока французское правительство явно подаст ему повод к сближению с императором Александром, отказав в справедливых требованиях Пруссии насчет ликвидации сумм, должных ей Наполеоном, и вывода гарнизонов из прусских крепостей5. А между тем, желая быть готовым на случай войны, король повелел 3 февраля (н. ст.) 1813 года обнародовать, что опасность, которой угрожало государству приближение к его пределам военных действий, требовала быстрого усиления армии, но что финансовые средства правительства не позволяли увеличить издержки на содержание войск; поэтому было постановлено, что молодые люди, от 17 до 24-летнего возраста, не обязанные к поступлению на службу, но имевшие возможность одеться и приобресть амуницию на собственный счет, составили пешие и конные дружины вольных егерей (freiwillige Jägerschaaren zu Fusse und zu Pferde), которые предполагалось придавать к пехотным и кавалерийским полкам. Этим волонтерам были предоставлены многие права и преимущества6. Те же из молодых людей, которые отказались бы явиться на призыв отечества, не были принуждаемы к службе, но не могли надеяться ни на какие награды либо повышения9 во все продолжение войны. 6 дней спустя, 28 января (9 февраля), было отменено всякое увольнение от службы в войсках7. По-видимому, Фридрих-Вильгельм, все еще не надеясь побудить народ к общему вооружению, повелел 10 (22 февраля) обнародовать следующее объявление: «Король, находя, что, при общем достохвальном стремлении всех и каждого принять участие в защите отечества, необходимо обнаружить и подвергнуть наказанию немногие случаи малодушия либо хладнокровия к общей пользе, постановил, чтобы, во-первых, всякая передача недвижимых имений от отца к сыновьям, не состоящим на службе, считалась недействительной, если отец имеет менее 50, а сыновья достигли 24 лет и совершенно здоровы; во-вторых, каждый из уклоняющихся от службы по какому-либо ничтожному предлогу лишается прав состояния, поступает в опеку и не может ни носить прусскую кокарду, ни занимать общественные должности, и, в-третьих, каждый отец семейства либо опекун, затрудняющий своим сыновьям или состоящим в его опеке молодым людям вступление в военную службу, подвергается также потере прав состояния»8.
Впоследствии оказалось, что прусский народ, возбужденный чувствами долга и чести, превзошел ожидания короля и изгладил память постыдных событий 1806 года. Еще до обнародования королевских указов о всеобщем вооружении на общем собрании областных депутатов Восточной Пруссии 24 января (5 февраля) по предложению генерала Йорка постановлено: набрать резерв в 13 000 человек для укомплектования его корпуса; выставить Ландвер силой в 20 000; сделать Ландштурм (поголовное вооружение) из всех людей от 18-ти до 45-летнего возраста и сформировать конный отряд из 700 охотников, которые обяжутся экипироваться на свой собственный счет и послужат рассадником для офицеров Ландвера9. Исполнение этого проекта было поручено комиссии под председательством бывшего государственного министра10 графа Доны, а производителем дел назначен известный ненавистью к французам доктор прав Гейдеман10.
Как только узнали в Берлине, тогда еще занятом французскими войсками, о призыве короля к вооружению, то в продолжение трех дней поступило в охотники 9000 молодых людей. Несколько дней спустя король усмотрел из окон своего бреславльского дворца значительный обоз: это были некоторые из берлинских охотников, приехавшие в Бреславль на 80 повозках. На вопрос Шарнгорста: «Убедились ли вы, Государь, в истине слов моих», король отвечал слезами, показавшими доблестному министру, что все прежние сомнения исчезли. И ежели призыв народа к оружию требовал некоторых побудительных распоряжений со стороны правительства, то, к вечной славе Пруссии, жертвы имуществом на алтарь отечества были принесены добровольно, порывом общего народного увлечения. По совершенному истощению Пруссии в 1813 году пожертвования частных людей не могли равняться с огромными суммами, предложенными дворянским и купеческим сословиями в Отечественную войну 1812 года. Но и в Пруссии, подобно тому, как было в России, каждый жертвовал многим и многие жертвовали всем. Большие города и зажиточные люди выставляли пеших и конных егерей в полном вооружении, нередко обязываясь снабжать их жалованьем в продолжение всей войны; другие, имевшие менее средств, жертвовали, по возможности, на вооружение и экипировку волонтеров; некоторые предлагали половину получаемого ими жалованья, пенсии, либо отдавали единственную остававшуюся у них пару серебряных ложек; довольно значительные суммы были присланы от лиц, пожелавших остаться неизвестными. Многие дамы жертвовали серьгами, браслетами и даже обручальными кольцами, изъявляя сожаление, что им нечего было дать более. В Бреславле, где присутствие короля, нашедшего там убежище от врагов отечества, возбуждало особенный восторг, одна молодая девушка, желая участвовать в пожертвованиях, но не имевшая ничего, отправилась к куаферу11 и просила его оценить ее волосы, красота коих удивляла всех ее знавших. «Они могут стоить 10 талеров», – отвечал он. «Ну так остригите их и дайте мне за них деньги», – сказала великодушная красавица. Пораженный неожиданным предложением, куафер несколько раз брался за ножницы и наконец объявил девушке, что он не решается лишить ее такого бесценного сокровища. Но это не остановило ее: она сама обрезала свои волосы и отослала их в комитет, учрежденный для принятия пожертвований, со следующей запиской: «Куафер N. N. предлагал 10 талеров за мои волосы; считаю себя счастливой, имея возможность принести отечеству эту ничтожную жертву». Комитет приказал сделать из присланных волос браслеты и кольца, которые, в воспоминание такого прекрасного поступка, продавались дорогой ценой и доставили в кассу комитета 250 талеров.
Одному из берлинских ювелиров был сделан от правительства большой заказ железных колец, определенной формы, с надписью: Gold gab ich für Eisen. 181312. На получение такого кольца имели право исключительно те, которые жертвовали отечеству какой-либо золотой или серебряной вещью. Как только узнали об этом распоряжении, то в первый же день было обменено полтораста золотых обручальных колец на железные; вообще же доставлено: золотых колец, серег, цепочек и прочих драгоценных вещей около 160 000. Впоследствии железные кольца, с надписью Gold gab ich für Eisen, сделались сокровищем семейств, служили воспоминанием пожертвований, ими сделанных11.
Многие прусские граждане жертвовали всем достоянием, а жены и дочери их последними своими украшениями и драгоценными вещами; другие посвящали себя призрению больных и раненых; были даже и такие, которые, не ограничиваясь тем, переодевались в мужское платье, поступали в ряды воинов, сражались храбро и умирали за святую родину: имена 18-летней Элеоноры Прохаска, поступившей в партизанский отряд Люцова под именем Августа Ренца и павшей славной смертью в деле при Герде, и Шарлоты Крюгер, произведенной в унтер-офицеры и получившей Железный крест 2‐й степени, – эти имена достойны почетного места в истории войны за независимость Германии. Одна молодая девушка, родом из Стральзунда, служила в кавалерии под именем Карла Петерсена, была произведена в вахмистры, получила две раны и в награду своих подвигов украшена Железным крестом 1‐й степени12.
Испанский посол в Берлине, дон Хосе Писарро, писал в Мадрид, что в Пруссии народ вооружается по-испански. В одном из своих отзывов он говорит: «Во всей Германии господствуют в высшей степени чувства народной самобытности и преданности к законным владетелям. Но нигде эти благородные чувства не обнаружились столь сильно, столь сходно с событиями нашей славной Испании, как в прусских владениях…
Сестра короля отослала все свои драгоценные вещи в государственное казначейство, на военные издержки, и тот же час все женщины пожертвовали своими украшениями до последней безделицы. Я говорю все, нисколько не преувеличивая, потому, что едва ли были какие-либо исключения, кроме бедных, ничего не имевших. Все обручальные кольца были принесены на алтарь отечества, и в замену их розданы железные перстни с надписью: “Я отдала золото за железо”. Эти перстни, драгоценные по напоминаемой ими народной доблести, отличаются изяществом работы. Ежели дамы и носят еще какие-либо вещи, то единственно железные. Такие патриотические перстни невозможно достать ни за какую цену, потому что они выдаются исключительно в замену пожертвований золотыми и серебряными вещами…
Берлин представляет зрелище столь же величественное, сколько и трогательное. Все улицы наполнены ранеными13; на каждом шагу встречаются увечные – на костылях, с подвязанными руками и проч., либо только одни женщины, старики и дети. Зато – на всех площадях учатся целые батальоны рекрут, кавалерийские взводы занимаются сабельными приемами и манежной ездой…
Король – первый солдат своей армии. Благодушие и важность, коими украшены черты лица его, простота его одежды, его приветливость, бережливость, живое участие, принимаемое им в благосостоянии своих подданных, соделывают его предметом обожания и восторга прусских граждан, которые никогда еще не являли себя столь великим народом, как в настоящее время»13.
Подобное настроение народа должно было неминуемо вовлечь правительство в открытую борьбу с притеснителем Германии. Но король, по прибытии в Бреславль, все еще колебался в нерешимости, которой главной причиной были внушения некоторых из близких к нему лиц, страшившихся разрыва с Францией. Вступление генерала Шарнгорста снова в должность генерал-квартирмейстера, сопряженное с правом присутствовать в Совете министров, усилило поборников союза с Россией, но не доставило им несомненного перевеса. Нашлись люди, уверявшие короля, что Наполеон, после понесенного им урона в истекшем году, совершенно оставил мысль о всемирной монархии, и что будто бы надлежало преимущественно опасаться преобладания России. Полагали, что император французов, имея в то время необходимую нужду в союзе с Пруссией, готов был согласиться на все ее требования и образовать из сей монархии, увеличенной соседственными владениями, обширное государство, которое могло бы служить ему преградой против России. К тому же некоторые, сомневаясь в бескорыстии видов императора Александра I, думали, что он, заняв вооруженной рукой польские области, прежде принадлежавшие Пруссии, воспользуется случаем удержать их в своей власти. Носились слухи, что многие из сподвижников нашего государя предлагали ему расширить пределы России насчет Пруссии. Несмотря, однако же, на то, личные отношения короля Фридриха-Вильгельма к императору Александру, сочувствие прусского народа к русским и отложение Йорка от французов должны были неминуемо побудить Пруссию к союзу с Россией. По прибытии короля в Бреславль он хотел немедленно послать доверенное лицо для переговоров к императору Александру; но, вместе с тем, не желая подать повода к недоверчивости Наполеону, испрашивал его согласие на отправление переговорщика в нашу Главную квартиру; целью же или предлогом переговоров с русским правительством было признание нашим государем нейтралитета Бреславля и южной Силезии. Наполеон отклонил это предложение; но король все-таки послал в начале февраля (н. ст.) своего генерал-адъютанта, полковника Кнезебека, инкогнито, под именем купца Эделинга, в Главную квартиру русской армии. 28 января (9 февраля) Кнезебек отправился в нашу Главную квартиру, тогда находившуюся в Клодаве, в двух переходах от Калиша, и прибыл туда 3 (15) февраля. Император Александр, приняв его в тот же день, объяснил ему определительно свои виды: «Желаю, – сказал Государь, – чтобы Пруссия была восстановлена во всем прежнем, и даже, если успех увенчает наши усилия, еще в большем блеске; тот день, в который возвратятся королю законно принадлежащие ему владения, будет прекраснейшим днем моей жизни».
Казалось, такое начало переговоров обещало столь же быстрый, сколько и успешный исход их; вышло иначе: Кнезебек не умел обсудить обоюдное положение России и Пруссии и, вместо того чтобы прямо объясниться с императором Александром, хитрил и запутывался в дипломатических тонкостях. Полагая, что наше правительство стремилось к приобретению Восточной Пруссии, Кнезебек не обратил внимания на действительные виды нашего государя, клонившиеся к овладению Варшавским герцогством и к расширению предeлoв Пруссии насчет Саксонии. Сам Штейн, заметив, что такие переговоры вели к напрасной трате времени и замедляли освобождение Германии, выразил о том свое мнение, с отличавшей его откровенностью, Кнезебеку и писал, в таком же смысле, Гарденбергу. Император Александр, желая ускорить ход дела, прервал переговоры с мнительным Кнезебеком и отправил к королю в Бреславль Штейна и Анштетта, уполномочив их вести переговоры с прусским правительством. Несмотря на сильную простуду, которой страдал Штейн, он немедленно поехал в Бреславль, и, прибыв туда 13 (25) февраля, явился к королю и объяснил ему опасность оставаться в союзе с французами, потому что вся Пруссия тому противилась. «Невозможно, – сказал он, – верить обещаниям Наполеона, да если бы он и в действительности хотел сделать что-либо полезное для Пруссии, то едва ли он уже в состоянии исполнить свои намерения; с другой стороны – трудно будет противодействовать России либо следовать примеру Австрии, которая находится совершенно в ином положении. По моему мнению, – продолжал Штейн, – император Александр твердо решился восстановить Пруссию, и нам не остается ничего более, как отстаивать соединенными силами обоих государств независимость Германии. В случае же, ежели прусское правительство останется в союзе с Наполеоном, император присоединит к своим владениям все области до Вислы и учредит в них русское управление»14.
Успешному ходу переговоров способствовало прибытие в Бреславль депутата Восточной Пруссии, майора графа Дона, брата бывшего министра, с известием о постановлении сейма областных чинов: выставить на свой собственный счет 30 000 человек Ландвера. Хотя такое самостоятельное распоряжение сейма, собранного под влиянием русских властей, не понравилось Фридриху-Вильгельму, однако же значительное вооружение одной из важнейших областей Пруссии должно было оказать – и оказало в действительности – большое влияние на короля, убедившегося на деле, на какие огромные пожертвования готов был народ в случае войны против Наполеона. Такое общее настроение умов, с одной стороны, ручалось в успехе борьбы на жизнь и смерть за независимость Германии, а с другой – выказывало неизбежность союза с Россией; следствием того было заключение союзного трактата в Бреславле 15 (27) февраля, за подписью канцлера Гарденберга и Анштетта; на следующий день, 16 (28) февраля, сей договор был подписан в Калише князем Кутузовым и генералом Шарнгорстом, присланным, по желанию государя, в нашу Главную квартиру на место Кнезебека. С этого времени Шарнгорст был весьма деятельным и полезным посредником между войсками обеих союзных держав15.
На основании трактата между Россией и Пруссией постановлено: 1) заключить оборонительный и наступательный союз для восстановления прусской монархии в таких пределах, какие требовало обеспечение спокойствия обеих держав; 2) с этой целью Россия обязалась выставить 150 000, а Пруссия – 80 000 человек, не считая крепостных гарнизонов; 3) державы согласились не заключать отдельно ни мира, ни перемирия с Наполеоном; 4) употребить все средства для склонения Австрии к принятию участия в союзе против Франции и войти в переговоры с Англией о снабжении Пруссии оружием, припасами и субсидиями.
По секретным условиям сего же договора император Александр I обязался не прекращать войны до тех пор, пока Пруссия будет восстановлена в статистическом, географическом и финансовом отношениях, не только сообразно с положением государства до войны 1806 года, но с расширением его пределов областями, которые послужили бы связью между Старой Пруссией и Силезией. Союзные державы, предвидя необходимость удовлетворения Англии, положили не включать Ганновер в число земель, долженствовавших послужить к вознаграждению Пруссии16.
Договор, заключенный в Калише, не был объявлен немедленно по его подписании – ни французскому правительству, ни прусскому народу. Король хотел разорвать союз с Наполеоном не прежде, как по очищении прусских владений от французов нашими войсками. А между тем в Пруссии народные ополчения с каждым днем получали большее развитие.
Душой этих приготовлений был гениальный Шарнгорст. Едва лишь принял он управление военной частью, как последовал приказ о призыве на службу в Силезии (подобно тому, как уже было в Пруссии и Померании) всех кримперов14 и отпускных солдат; тогда же сделана перепись всем рекрутам, а равно лошадям, годным к службе. Для сбора людей в Восточной Пруссии, под начальством генерала Бюлова, назначен был Грауденц, а в Новой марке (Neumark)15, под начальством Борстеля, Кольберг, единственные крепости в сих областях, занятые прусскими гарнизонами и могшие служить опорными пунктами для народных вооружений. Из прочих же областей, занятых французскими войсками, охотники пробирались кое-как на сборные пункты, преимущественно в Силезию.
В 1807 году, по заключении Тильзитского трактата, пехота прусской армии состояла всего-навсего из 11 трехбатальонных полков, в числе 30 000 человек (в начале 1813 года сформирован еще один полк, 12-й линейный). Эти полки укомплектованы отпускными солдатами до полного числа, на военном положении 800 человек в батальоне; а кавалерийские полки до полутораста человек в эскадроне; артиллерия и войска инженерного ведомства также были пополнены. Кроме того – сформировано 52 резервных батальона, также на военном положении, всего в числе 41 600 человек, что усилило армию до 80 000. Недостаток в офицерах, весьма чувствительный при поспешном формировании войск, был устранен принятием на службу отставных, производством в офицеры портупей-прапорщиков и способнейших унтер-офицеров, выпуском из кадет и, в особенности, повышением молодых людей, служивших в охотниках (Freiwillige Jäger). Впоследствии, во время перемирия, из резервных батальонов сформированы резервные полки трехбатальонного состава, которые, по заключении мира, переименованы в линейные. Недостаток финансовых средств заставил правительство возложить на обывателей страны обмундирование новосформированных войск и поставку всех ротных лошадей для кавалерии и артиллерии. Продовольствование же съестными припасами нижних чинов было на попечении хозяев, у которых отводились для постоя квартиры.
Как пехотные, так и кавалерийские полки, на основании положения от 3 февраля, были усилены особыми дружинами из охотников ( Jäger-Abteilung ). Комплектное число людей в дружине равнялось положенному в ротах и эскадронах, именно – пешие дружины были в 200, а конные в 150 человек. Образование пеших и конных охотников (freiwillige Jäger zu Fuss und zu Pferd) усилило армию многими тысячами воинов; но для решительной борьбы с Наполеоном все исчисленные меры были недостаточны: надлежало ополчить весь народ, и с этой целью учреждены Ландвер и Ландштурм.
Основаниями положения о Ландвере послужили два проекта, из которых один был составлен генералом Шарнгорстом, еще в 1808 году, а другой – о Ландвере Восточной Пруссии – поднесен королю майором графом Дона в Бреславле. Это положение, последовавшее 5 (17) марта, было обнародовано в «Берлинских ведомостях» 11 (23) марта. Для соображения вооруженных сил, которые надлежало выставить под именем Ландвера в каждой из прусских областей, было принято число войск, добровольно предложенное чинами Восточной Пруссии, и вследствие того определено сформировать:
Впоследствии, когда была очищена от неприятеля страна за Эльбой, и учреждены в ней народные вооружения, состав Ландвера увеличился до 150 батальонов и 124 эскадронов. Эти войска усилили действующую армию 120 000 человек пехоты и 20 000 кавалерии, но, за исключением Ландверов Восточной Пруссии, были сформированы уже во время перемирия.
Одновременно с учреждением Ландвера обнародовано положение о Ландштурме, или вооружении всех людей, способных действовать оружием, с наставлением, заключавшим в себе правила обучения пешего и конного Ландштурма.
Кроме всех исчисленных вооружений, были сформированы: народные кавалерийские полки (National-Kavalerie-Regimenter), из числа коих один, в Восточной Пруссии, состоявший из 5 эскадронов, в 150 человек каждый, и отряда конных егерей, в 150 человек; другой в Померании, трехэскадронного состава, в числе всего 450 человек, и третий, в Силезии, из двух эскадронов гусар и отряда 50 конных егерей.
Наконец, были еще сформированы, преимущественно из иностранцев, так называемые вольные (партизанские) отряды (Freischaaren), чему способствовала общая ненависть к Наполеону обитателей Германии. Важнейший из них, отряд Люцова, мало-помалу усилился до трех батальонов и четырех эскадронов, с одной полубатареей пешей и одной же полубатареей конной артиллерии. Другой отряд, подполковника Рейсса, собранный из вестфальцев, состоял из четырех батальонов, а третий, капитана Рейхе, из одного батальона и егерской дружины.
Вообще же вооруженные силы Пруссии собирались на четырех пунктах: 1) в Восточной Пруссии, под начальством генерала Йорка; 2) в Западной Пруссии, у Грауденца, под начальством генерала Бюлова; 3) в Померании и Неймарке, у Кольберга, где формировал войска генерал-майор Борстель, и, наконец, 4) в Силезии сосредоточивалась наибольшая часть сил, под начальством Блюхера.
Последствиями народного вооружения в Пруссии были пополнение и образование следующих войск:
14 линейных пеших, 20 конных полков, 11 батальонов и 3 эскадронов с артиллерией, всего в числе 56 350 чел.
52 резервных батальонов 41 600 чел.
Волонтерных и егерских отрядов 10 000 чел.
3 народных кавалерийских полков 1650 чел.
Ландвер 140 000 чел.
Вольные отряды 5000 чел.
Всего около 254 000 чел.17
Из числа этих войск в феврале и марте было выставлено более 100 000 человек, именно: линейные полки, часть резервных батальонов, волонтерных егерских отрядов и Ландвера Восточной Пруссии. Следовательно, в продолжение двух месяцев Пруссия укомплектовала свою постоянную армию и увеличила ее в два с половиной раза.
Союзный договор, заключенный в Калише, был обнародован прусским правительством уже по очищении Берлина от французских войск; 11 (23) марта появились в тамошних газетах: известие о союзе с Россией18, воззвания к народу, к войскам и к Ландверу19. Незадолго перед этим, именно 26 февраля (10 марта), был учрежден орден Железного креста. Французскому послу Сен-Марсану дано знать о заключении союза с Россией 3 (15) марта, в самый день въезда императора Александра I в Бре-славль, а объявление войны Наполеону сообщено в Париже нотой прусского резидента генерала Круземарка французскому министру иностранных дел герцогу Бассано 27 марта (н. ст.). В этой ноте Круземарк доказывал, что Пруссия не могла более оставаться в сомнительном положении, в которое была поставлена успехами русских и отступлением французов. Затем исчислил все притеснения, испытанные Пруссией от самовластья Наполеона, и все поступки французского правительства, явно нарушавшие Тильзитский договор и последующие конвенции. В заключение была изъявлена надежда, что разрыв с Францией и союз с Россией послужат к достижению независимости Пруссии и к возвращению наследственных областей сей монархии20.
В ответ на эту ноту герцог Бассано старался доказать Круземарку, что политика прусского правительства, с самого начала революционных войн, никогда не была основана на непоколебимых правилах чести и справедливости, а изменялась беспрестанно, сообразно с переворотами счастья. «Само Провидение, – писал он, – руководило событиями истекшей зимы, чтобы сорвать личину с коварных друзей и убедить в преданности друзей истинных; оно же дало его величеству власть для наказания первых и для торжества последних»21.
Обратимся к изложению военных событий, современных переговорам в Бреславле и Калише.
Я уже сказал, что, по случаю отказа Йорка и Бюлова в содействии графу Витген-штейну, движение его было приостановлено, и действия наших войск на время ограничились высылкой легких отрядов на левую сторону Одера.
6 (18) февраля вице-король, с остатками 1-го, 2-го, 3-го, 4‐го и 6‐го корпусов «Великой армии», в числе 9000 человек, отступил за Одер, к Франкфурту (куда была перенесена его главная квартира) и к Кроссену. На следующий день 7 (19) генерал Рейнье, с остатками 7‐го корпуса, в числе около 2500 человек, отошел также за Одер, в крепость Глогау. Князь Понятовский, узнав о последствиях дела при Калише, отступил, с остатками 5‐го корпуса и с присоединившейся к ним саксонской бригадой Габленца, от Петрикова к Ченстохову. Незадолго до отступления вице-короля к Одеру корпус Гренье, сформированный в Италии и принявший название 11‐го пехотного, в числе до 20 000 человек, прибыл в Берлин: в нем состояли дивизии Фрессине и Шарпантье, 4‐й итальянский конно-егерский полк и, кроме того, два батальона и один эскадрон вюрцбургского контингента. Из числа сих войск дивизия Шарпантье и кавалерия, всего до 10 000 человек, под личным начальством Гренье, присоединилась к небольшому корпусу вице-короля у Франкфурта-на-Одере. Дивизия же Фрессине и вюрцбургская пехота, под начальством маршала Ожеро, остались в Берлине22.
С нашей стороны, граф Витгенштейн, прибыв с главными своими силами, в числе 20 000 человек, 8 (20) февраля в Кониц, простоял там несколько дней до 11 (23) февраля, а между тем выслал на левую сторону Одера легкие отряды генерал-адъютанта Чернышева, генерал-майора Бенкендорфа и полковника Тетенборна23. Когда же генералы Йорк и Бюлов съехались 10 (22) февраля в Кониц, то Бюлов уже получил из нашей главной квартиры, от Кнезебека, письмо, в котором был сделан намек на движение обоих прусских генералов к Одеру. Бюлов сообщил о том Йорку, который, согласно с его мнением, заключил, что еще прежде, нежели прусские корпуса успеют достигнуть Одера, король решится объявить войну французам, и что в то время уже будет утвержден план действий российско-прусской армии. Следствием того было наступление к Одеру: Витгенштейна – от Коница, на Дризен, где он выждал прибытия прусских войск на одну высоту с его корпусом и потом двинулся к Ландсбергу; Йорка – от Эльбинга, на Кониц, к Солдину, и Бюлова – от Штаргарда к Пирицу. Все три колонны должны были достигнуть Одера 25 февраля (9 марта). Но в ожидании заключения союза и наши, и прусские генералы двигались вперед медленно: граф Витгенштейн считал опасным углубляться внутрь чужой, занятой неприятелем страны без содействия корпусов Йорка и Бюлова, а прусское правительство желало, чтобы наши войска оттеснили французов за Эльбу, и не решалось явно действовать против общего неприятеля24.
Граф Витгенштейн, при свидании с генералом Йорком, удивлялся его холодности к общему делу, но Йорк не мог поступать иначе: ему надлежало убедиться, что его действия будут одобрены правительством, тем более что он имел причину сомневаться в благосклонности к нему короля Фридриха-Вильгельма. Несмотря на отрешение Йорка от начальства вверенным ему корпусом, он, не имея о том официального сведения, не только продолжал командовать войсками, но, в качестве генерал-губернатора Восточной Пруссии и королевского наместника, созвал областных депутатов и побудил их к народному вооружению. На донесение королю генерала Йорка обо всех этих действиях не последовало никакого ответа; а проезжая через Мариенвердер для свидания с графом Витгенштейном в Конице, Йорк встретил прибывшего обратно из Бреславля майора Тиле с приказанием ему «представить в военно-судную комиссию оправдание, исключительно в военном отношении, насчет заключенной им конвенции». Когда Йорк сообщил графу Витгенштейну о предстоявшей ему поездке в Бреславль для оправдания своих действий, полководец наш, изумленный неожиданной вестью, писал императору Александру I, что «предание суду генерала, оказавшего такие важные услуги общему делу, может иметь весьма невыгодное влияние на общее мнение». Государь, в ответ на донесение графа Витгенштейна, повелел ему немедленно успокоить Йорка насчет его опасений и предложить ему собственное свое ходатайство в его пользу25. Но Йорк отклонил сие предложение, изъявив чувство признательности своей, но заметив, что, по-видимому, все дело затеяно только для формы.
Весьма замечательно, с какой нерешительностью приступало прусское правительство к разрыву с Францией и к союзу с Россией. В повелении от 8 (20) февраля было предписано Йорку «наступать к Одеру так, чтобы постоянно находиться позади русских войск. До получения дальнейших приказаний хранить сие повеление в тайне и не открывать враждебных действий против французских войск». Такое же предписание было послано генералу Бюлову, а Борстелю, с собранными им войсками, повелено оставаться в Кольберге. Между тем Борстель, еще не успев получить это предписание, донес королю, что он «не ожидая далее поступления приказа Вашего Величества мя вступил или в ближайшем времени вступлю в Кенигсберг в Неймарке, но при этом повергаясь к стопам Вашего Величества, прошу дать нам волю действовать»26. 17 (1 марта), уже по заключении Калишского договора, король, извещая о том Йорка, писал: «Поспешите наступать к Одеру. Но не объявляйте еще о подписании союзного трактата, потому что ход переговоров с Францией сему препятствует; обо всем же прочем войдите в соглашение с генералами графом Витгенштейном и Бюловым, которого подчиняю вам впредь до получения его войсками иного назначения; а равно следуйте распоряжениям, сообщаемым из главной квартиры императора Александра находящимся там, для соображения действий к общей цели (um die Operationen zu concertiren), полковником Кнезебеком. Военные действия против французов не прежде должны быть открыты моими войсками, как в то время, когда я гласно объявлю о том, о чем не оставлю вас уведомить».
Нерешительность прусского правительства весьма затрудняла генералов, формировавших ополчения, и в особенности Бюлова, который еще 5 (17) января прибыл из Кенигсберга в Ней-Штетин с той целью, чтобы, собрав там отряд, приблизиться к Одеру для защиты короля и столицы. Находясь в кругу действий французских войск, Бюлов подвергался влиянию их начальников, тем более что еще не была объявлена цель народного вооружения. 13 (25) января он получил из главной квартиры вице-короля, тогда стоявшей в Познани, предписание прислать ведомость о числе своих войск и сведения о расположенных против него неприятельских (русских) войсках. Генерал Бюлов донес, что под его начальством состояло только 8 батальонов из рекрут, которые до истечения четырех недель не могли быть обмундированы, вооружены и обучены нужнейшим приемам; вместе с тем он доставил некоторые известия о русских войсках и уведомил, что, в случае напора превосходных сил, он отступит в Кольберг. Два дня спустя вице-король писал к Бюлову, изъявляя свое удивление, что под его начальством состоят такие незначительные силы, и требуя, чтобы, в случае отступления, он отошел не к Кольбергу, а к Шведту. Когда же Бюлов сослался на определительное повеление короля – направиться к Кольбергу, вице-король настаивал, чтобы он, вместо того, отступил к Шведту. В феврале было предписано Бюлову присоединить состоявшие в его команде войска к 2‐му французскому корпусу маршала Виктора, тогда стоявшему в Кюстрине. Но непреклонный Бюлов отказался от исполнения сего приказания, написав в ответ маршалу, что он на это решится не прежде, как получив повеление своего государя. «Предоставляю вам самим решить, – писал он Виктору, – может ли генерал, без определительного приказания от своего правительства, подчиниться начальнику, состоящему на службе другой державы»27.
Наконец – все недоразумения прекратились. 22 февраля (6 марта) генерал Йорк получил от Шарнгорста, из Калиша, следующий отзыв: «Долгом считаю сообщить, что его величеству королю угодно, чтобы находящиеся в вашей команде войска, по возможности, неотлагательно двигались к Одеру и переправились через сию реку 10 числа16 сего месяца»28.
Таким образом, было решено наступление союзных войск на левую сторону Одера. Но положение Йорка, угрожаемого карой за самостоятельные его распоряжения, было весьма тягостно. Еще 15 (27) февраля послал он из Коница к королю «Подробное объяснение причин, побудивших генерал-лейтенанта Йорка заключить в Пошерун-ской мельнице, близ Таурогена, конвенцию с русским генералом Дибичем». Король поручил исследование по этому предмету не формальному военному суду, а особой комиссии. Но окончательное решение дела замедлилось до 12 марта (н. ст.). Повеление короля на имя Йорка, объявленное в сей день, было следующего содержания: «Так как заключенная вами с генералом российской императорской службы Дибичем конвенция признана комиссией, составленной из генерал-лейтенанта Дирике и генерал-майоров Саница и Шюлера, не подлежащей какому-либо упреку, то я, отдав прилагаемый при сем приказ, поручаю вам разослать его по всем вверенным вам войскам».
В приказе по армии король, объявляя о совершенном оправдании генерала Йорка, не только утвердил его в командовании корпусом, состоявшим под его начальством, но еще, в ознаменование своего совершенного одобрения и неограниченного доверия, подчинил ему войска генерал-майора Бюлова29.
Несколько дней спустя император Александр пожаловал генералу Йорку орден св. Александра Невского30.
В продолжение описанных событий наши партизаны перешли за Одер.
Генерал-адъютант Чернышев, с 6 слабыми казачьими полками, 4 эскадронами Изюмского гусарского, двумя эскадронами Финляндского драгунского полков и с двумя донскими орудиями, подойдя 5 (17) февраля к Одеру, в 20 верстах ниже Кюстрина, у местечка Целина, нашел, что лед на реке едва держался и даже отстал от обоих берегов. Устроив подмостки, Чернышев перешел на левую сторону Одера, между тем как генерал-майор Бенкендорф и полковник Тетенборн, со вверенными им летучими отрядами31, также переправились – первый близ Франкфурта, а второй у Шведта. В следующие два дня казачьи партии, высланные Чернышевым, рассеяли два французских отряда и захватили в плен 300 человек. Затем Чернышев и Тетенборн, съехавшись в Врицене, условились действовать совокупными силами на Берлин, и, так как на прямом пути к сей столице, в Вернейхене, стоял довольно значительный неприятельский отряд, то, по соглашению обоих партизан, положено обойти его влево, от Альт-Ландсберга, и направиться через Марцан и Шенгаузен к Панкову, на большую штетинскую дорогу. Против неприятеля, занимавшего Вернейхен, оставлена небольшая часть казаков с приказанием беспрестанно тревожить французов, а в ночи разводить большие огни; главные же силы обоих отрядов соединились в Альт-Ландсберге 8 (20) февраля, и на следующий день, в 4 часа утра, пришли в Панков. Маршал Ожеро занимал Берлин, по крайней мере, 6000 человек с 40 орудиями; у наших партизан не было и половины этого числа войск, и к тому же они вовсе не имели пехоты. Но зато на их стороне была выгода неожиданности, вознаграждавшая недостаток в силах.
По прибытии к Панкову Чернышев и Тетенборн заняли позицию у сего местечка, выслали подполковника Власова, с двумя казачьими полками, к Шар-лотенбургу, где находилась большая часть французской артиллерии, и расставили пикеты на всех путях к Берлину. Положено было напасть на неприятеля, занимавшего сей город, в следующую ночь. Но около полудня казаки, стоявшие на передовых постах, донесли о выходе из города, по-видимому, для разведания о наших силах, небольшого кавалерийского отряда. Желая разузнать дело, наши отрядные начальники сами отправились на рекогносцировку17. Полковник Тетен-борн, завидев неприятельскую конницу, сбивавшую наши посты, кинулся на нее в атаку с казачьим полком Коммисарова и, опрокинув французов, на плечах их ворвался в город. Появление наших партизан произвело в Берлине и окрестностях сей столицы неописанную суматоху: войска спешили на сборные пункты; артиллерия неслась во всю прыть из Шарлотенбурга. Между тем генерал-адъютант Чернышев подвел к городской ограде остальные полки обоих отрядов, рассеял картечью неприятеля, вышедшего из Ораниенбургской заставы в обход Тетенборна, и послал ему в помощь через Гамбургскую заставу бригаду полковника Ефремова и через Королевскую заставу (Königsthor) казачий полк Грекова 18-го. Эти три полка внеслись в город, промчались под выстрелами неприятельских команд, занимавших улицы и дома, и остановились не прежде, как по достижении реки Шпрее, на которой все деревянные мосты были сломаны, а у каменного поставлена 6-орудийная батарея. Полковник Тетенборн также проскакал по Шенгаузерской улице, но, выехав на Александровскую площадь, был встречен огнем пехотного каре с 8 орудиями. В продолжение боя берлинцы изъявляли свое участие нашим войскам громкими восклицаниями, но были удержаны в повиновении французам городской полицией, которая стреляла по собиравшимся толпам и рассеивала их. По донесению Чернышева: «Если б доброе расположение жителей, покушавшихся подать нам руку помощи и заметных в исступлении самих женщин, нас приветствовавших всеми их полу предоставленными способами, не было остановлено неприязненными распоряжениями городской полиции, и в особенности господина Лекока, то могу уверить, что подвиги кавалерии в сей день не ограничились бы нанесенным неприятелю вредом». Невозможность утвердиться в городе заставила партизанских начальников вывести войска в поле, где они расположились в виду города, а на следующий день отошли к Ораниенбургу. С другой стороны, полковник Власов, с казачьим Сысоева полком, овладел с боя местечком Шарло-тенбургом, причем захвачено 168 пленных, и занял потсдамскую дорогу. Вообще же, кроме урона убитыми и ранеными, неприятель потерял одними пленными 6 штаб-офицеров, 12 обер-офицеров и более 600 нижних чинов. С нашей стороны убито и ранено полтораста человек; в числе убитых был состоявший в отряде Тетенборна прусский подданный капитан Блумберг; ранен тяжело войсковой старшина Коммисаров32.
Вице-король, узнав еще 7 (19) февраля о переправе наших войск через Одер, решился приблизить свою небольшую армию к Берлину и прибыл туда с 500 человек гвардейской кавалерии 9 (21) февраля. Прочие же войска, за исключением дивизии Жерара, на время оставленной во Франкфурте, также двинулись к Берлину двумя колоннами, на Мюнхенберг и Фюрстенвальде: 4‐й итальянский конно-егерский полк, в числе около 1000 человек, следовавший по первому из этих направлений, был настигнут отрядом Бенкендорфа 10 (22) февраля в окрестностях Мюнхенберга и совершенно уничтожен, с потерей 700 человек одними пленными33. Затем генерал Бенкендорф обратился к Фюрстенвальде, чтобы отвлечь вице-короля от Берлина, и покушался овладеть Франкфуртом, где в то время находился неприятельский гарнизон, но, не успев в этом, возвратился к Мюнхенбергу и, достигнув окрестностей Берлина, открыл сношения с Чернышевым и Тетенборном.
Занятие нашими партизанами путей, ведущих к Берлину, заставило вице-короля принять строжайшие меры предосторожности от нечаянного нападения: все въезды в город на правой стороне реки Шпрее были завалены; по левому же берегу Шпрее расположены батареи и расставлена на биваках пехота. Кавалерии было запрещено расседлывать лошадей. Никому, без особого разрешения, не дозволялось выходить из города; на всех улицах и площадях господствовало мертвое молчание, и даже почтовый дом был заперт, потому что казаки совершенно прервали все сообщения Берлина с окрестной страной. Вице-король усилил берлинский гарнизон до 15 000 человек, но оставался со своей главной квартирой в Кепнике (в 10 верстах от Берлина), вероятно, опасаясь восстания жителей города. Войска его были опять переформированы: корпус Гренье вместе с полками, прибывшими из Познани, составил 3 дивизии под начальством генералов Шарпантье, Фрессине и Жерара; резервная дивизия, из двух батальонов Старой гвардии, двух Молодой и отряда итальянской дивизии, в числе 2400 человек, осталась под командой генерала Роге. Кавалерия состояла всего-навсего из 500 человек гвардии, 200 всадников вюрц-бургского контингента и остатка 4‐го итальянского конно-егерского полка. Вообще же силы вице-короля в Берлине и окрестностях сей столицы простирались до 26 000 человек34. Но малочисленность его кавалерии способствовала нашим летучим отрядам, не превосходившим в совокупности 4000 человек, занять пути к городу и держать неприятеля в постоянной блокаде.
Положение жителей в окрестностях Берлина было весьма тягостно. В самом городе, кроме стоявших там войск, было множество генералов, офицеров, нестроевых и больных солдат бывшей «Великой армии». Повальные болезни, свирепствовавшие в госпиталях, распространились оттуда по всем соседственным округам. Жители, и без того уже разоренные, были принуждены продовольствовать не только ненавидимых ими французов, считавшихся союзниками их государя, но и казаков, встречаемых во всей Пруссии как вестников избавления. Должно отдать справедливость вице-королю в том, что он старался облегчить бремя зол, тяготевшее над обывателями; начальники русских войск поддерживали во вверенных им частях строгую дисциплину; но снабжение фуражом нашей многочисленной кавалерии и поставка для партизан огромного числа подвод весьма истощали страну. За все это выдавались только квитанции, а иногда даже не выдавалось ничего; в особенности же как жители, так и наши войска затруднялись невозможностью объясняться одни с другими. Сметливые немцы, желая пособить этому горю, тотчас составили небольшие словари и руководства, в которых объяснялись на русском и немецком языках значение и выговор нужнейших слов и целых речей, но изучать их в это хлопотливое время было некогда. Не должно упускать из вида, что жители Пруссии, удовлетворяя волей и неволей требованиям настоящих союзников своих французов и будущих союзников русских, должны были также исполнять требования своего правительства, выставлять отпускных, рекрутов, лошадей, припасы, снаряжать охотников, отправлять их в Силезию либо в Померанию, и проч. Такие распоряжения, нередко противоречившие одни другим, распространяли суматоху и беспорядок и выводили из терпения хладнокровных немецких чиновников. Ко всем этим заботам присоединилось еще противодействие французских властей. Как маршал Ожеро, так впоследствии и вице-король всевозможно старались затруднять военную эмиграцию на сборные пункты; но прусские волонтеры продолжали уходить не только поодиночке, но целыми толпами, без начальников, нередко без оружия. Эти народные дружины не имели никакого понятия о дисциплине, но им служила крепкой связью святая любовь к родине35.
Покушение наших партизан на Берлин подало повод прусскому принцу Генриху, брату короля Фридриха-Вильгельма III, писать к маршалу Ожеро, что в случае вторичного нападения русских нельзя отвечать за жителей, и потому принц просит маршала не обороняться в городе, а выступить навстречу нашим войскам. По отъезде же Ожеро 13 (25) февраля, за болезнью, из Берлина Сен-Сир, занявший его место, предложил вице-королю присоединить к главным силам его корпус Лористона, расположенный в Магдебурге, и, сосредоточив более 40 000 человек на Одере, удерживаться на сей оборонительной линии и в Берлине, что, по мнению маршала, могло замедлить отложение Пруссии от союза с Наполеоном. Но, когда Сен-Сир заболел нервической горячкой, вице-король отказался от дальнейшей обороны Берлина и стал готовиться к отступлению за Эльбу36.
Таково было положение дел в Берлине во время заключения союзного договора в Калише. Обратимся к изложению последующих военных действий.
8
Ему тогда был 51 год от роду.
9
По гражданской службе.
10
Граф [и бургграф Александр цу] Дона[-Шлобиттен], будучи назначен на место барона Штейна государственным министром, в 1808 году, оказал важные заслуги. Он оставил эту должность в 1810 году.
11
Парикмахер (от фр. сoiffeur). – Примеч. ред.
12
«Отдаю золото за железо. 1813» (нем.).
13
Письмо было написано уже осенью 1813 года.
14
Правильнее – крюмперы (Krümper) – обученные рекруты, которые, будучи распущены по домам, составляли резерв действующей армии. – Примеч. ред.
15
Ноймарк (Новая марка) – историческая область на территории современной Польши, провинция Бранденбургской марки. – Примеч. ред.
16
26 февраля (10 марта). – Примеч. ред.
17
Рекогносцировка – проводимые командиром разведывание местности, определение численности и размещения вражеских войск. – Примеч. ред.