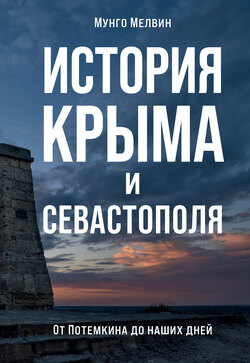Читать книгу История Крыма и Севастополя. От Потемкина до наших дней - Мунго Мелвин - Страница 7
Часть I
Юность Севастополя
2
Основание Севастополя
ОглавлениеЗдесь 3 (14) июня 1783 года заложен город Севастополь, морская крепость юга России[117].
ОСНОВАТЕЛЬ
В начале 1780-х гг. в Петербурге при императорском дворе появился один ныне забытый шотландский солдат удачи. Джеймс Джордж Сэмпл Лайл, которого назвали «военным авантюристом с сомнительной репутацией» и «северным самозванцем», рассчитывал получить офицерский чин в российской армии[118]. В ожидании аудиенции у князя Григория Потемкина он случайно познакомился с неким Томасом Маккензи. В своих мемуарах Сэмпл Лайл описывает его так: «Капитан русского флота, который пользовался наивысшим уважением всех, кто имел счастье быть с ним знаком»[119]. Незаурядный боевой командир и энергичный организатор, Маккензи вскоре получил звание контр-адмирала и был специально выбран – хотя тут свою лепту внес и счастливый случай – для главной роли основателя Севастополя. Это событие стало венцом достижений Маккензи, и Сэмпл Лайл утверждал, что был его очевидцем.
Маккензи, шотландец по происхождению, родился 18 февраля 1740 г. (ст. ст.) и был единственным сыном контр-адмирала Томаса Маккензи и Энн Янг, внучки адмирала Томаса Гордона, который поступил на службу в российский флот в 1717 г., еще при Петре Великом[120]. Считается, что он родился в Архангельске, на севере России. Маккензи-старший был одним из нескольких опытных британских (в большинстве своем шотландских) военных моряков, поступивших на российскую службу; в 1736 г. он, капитан корабля Королевского флота, перешел на службу в российский флот, где прослужил тридцать лет, проявив себя с самой лучшей стороны. Во второй половине XVIII в. Екатерина II задумала усилить российский флот, и еще большее количество британских моряков последовали примеру Маккензи-старшего, соблазненные удвоенным жалованьем[121]. Среди них были Джон Эльфинстон и Самуил Грейг, который дослужился до звания адмирала и которого иногда называют «отцом русского флота»[122]. О детстве и школьных годах Томаса Маккензи до нас не дошло никаких сведений. Известно лишь, что в 1759 г. он, соблюдая семейную традицию, поступил на службу в Королевский флот, уже обладая навыками моряка. Обучившись основам морского дела, гардемарин Маккензи уволился со службы. В том же году он вернулся к родителям и в том же звании поступил в российский флот. Теперь его звали «Фома Фомич Мекензи». На разных судах он ходил по Балтийскому, Норвежскому и Северному морям, совершенствуя навыки навигации и управления. Карьера Маккензи развивалась успешно – по причине личных амбиций, знания морского дела и удивительного таланта не упускать ни одной благоприятной возможности; похоже, все три этих качества у него были наследственными. Тем не менее в профессиональном и личном плане Томас Маккензи иногда вставал на скользкий путь, или, как говорят моряки, «шел в крутой бейдевинд».
Во время войны с Турцией 1768–1774 гг. Россия впервые распространила действия своего усилившегося флота на Средиземное море. В том конфликте основная борьба развернулась за контроль над низовьями Дуная, Валахией и Молдавией; боевые действия в Крыму имели вспомогательное значение. Однако Совет, образованный при Екатерине для войны с Турцией, искал и другие способы ослабления Османской империи. Фаворит и советник императрицы князь Григорий Орлов предложил русскому флоту войти в Средиземное море[123]. Удобным предлогом для этой демонстрации силы стало греческое восстание в Морее (Пелопоннес)[124]. Греческие повстанцы, которых русские агенты поощряли и снабжали оружием, могли получить поддержку российского флота, который благодаря энергичным мерам Екатерины значительно усилился и количественно, и качественно. Более того, появлялась возможность навязать сражение турецкому флоту и разбить его, тем самым уронив международный престиж Османской империи. Екатерине понравилась эта смелая стратегия косвенного удара. Однако в то время единственный российский морской флот, способный вести наступательные операции, базировался на Балтийском море; небольшая флотилия малых судов на Азове не могла пройти через проливы Босфор и Дарданеллы и выйти в Средиземное море. Поэтому России пришлось направить свои корабли через Северное море, Ла-Манш и Восточную Атлантику. Такой далекий и смелый поход – даже с критически важной логистической помощью Британии – был серьезным вызовом для российского военно-морского флота[125]. А молодой и честолюбивый Маккензи, только что произведенный в лейтенанты, получил в этом походе боевое крещение.
В ноябре 1769 г. передовая эскадра российских кораблей Балтийского флота под командованием адмирала Григория Спиридова вошла в Западное Средиземноморье и встала на зимнюю стоянку на британской базе, в порту Маон на Минорке. Тем временем 20 октября 1769 г. Маккензи вышел из Кронштадта (главная российская военно-морская база на Балтике) со второй эскадрой под командованием контр-адмирала Эльфинстона. 3 мая 1770 г., после 145-дневного перехода (не считая трехмесячной стоянки для ремонта кораблей и зимовки в Спитхеде, рядом с Портсмутом), корабли Эльфинстона миновали Гибралтарский пролив, а 20 мая прибыли к северной оконечности Пелопоннесского полуострова – мысу Матапан. Через неделю эскадра Эльфинстона заметила турецкий флот и вступила с ним в бой, вынудив отойти в Эгейское море.
Затем в боевых действиях наступила короткая пауза. Две русские эскадры соединились, и общее командование перешло к графу Алексею Орлову (брату Григория); главным военным советником у него был коммодор Самуил Грейг. 5 июля 1770 г. русские обнаружили вражеский флот, стоящий на якоре в проливе между островом Хиос и побережьем Малой Азии, в районе современного Измира. На следующий день российский флот, имея всего девять линейных кораблей против турецких шестнадцати, атаковал противника. Флагман Спиридова «Св. Евстафий» вступил в бой с турецким флагманом «Бурдж-у-Зафер», который загорелся и взорвался – вместе с находившимся вплотную «Св. Евстафием». Несмотря на эту потерю, русские смогли вытеснить противника в узкую Чесменскую бухту. Маккензи, служивший на флагмане Эльфинстона, 80-пушечном «Святославе», отличился в следующем бою. В ночь с 6 на 7 июля 1770 г. Маккензи командовал одним из четырех брандеров, которые входили в состав эскадры Грейга и помогли уничтожить турецкий флот[126]. Вот что он сам рассказывал об этом сражении:
«[Когда я оказался] в гуще вражеских судов, крючья на моем четырехфутовом ноке зацепились за ватерштаг одного из самых больших боевых кораблей, и удача позволила мне поджечь мое судно, и через пять минуть турецкий корабль был весь охвачен пламенем. Я сошел в шлюпку, слава Богу, невредимый, и увел всех своих людей, хотя враг гнался за нами по пятам. Как только я взошел на борт корабля, лорд адмирал меня поздравили с произведением в чин капитана»[127].
За проявленную храбрость Маккензи был награжден орденом Св. Георгия IV степени.
Стратегически русские одержали решительную победу, понеся незначительные потери, – это было величайшее поражение непобедимого, как казалось, флота Османской империи со времен битвы при Лепанто в 1571 г. В огне Чесмы были уничтожены не менее пятнадцати турецких линейных кораблей; общие потери в сражении составили около девяти тысяч турецких моряков[128]. Такой невероятный разгром не только продемонстрировал, что российский флот превратился в грозную силу, но и поставил его в первый ряд европейских флотов. Реформы Петра I и усиленное внимание к флоту при Екатерине II окупились с лихвой. Важным элементом успеха русских были профессиональные и отважные действия британских морских офицеров, служивших под российским флагом.
После окончания военных действий против Турции Маккензи вернулся на Балтику, где продолжал достойно служить, командуя различными кораблями. Несмотря на то что в декабре 1775 г. ему пожаловали звание капитана второго ранга (эквивалент коммандера в британском флоте), отношение к нему было неоднозначным, и о нем часто отзывались не слишком лестно. Все началось с его пребывания на посту капитана 66-пушечного линейного корабля «Дерис», который входил в состав русской эскадры, развернутой у берегов Португалии. В Лиссабоне на борт корабля поднялись несколько британцев, освободившихся из испанского плена. По пути в Кронштадт зимой 1780/81 г., попав в жестокий шторм в проливе Ла-Манш, Маккензи без разрешения повернул в Портсмут, чтобы встать на ремонт. Этот инцидент пришелся на период действия Декларации о вооруженном нейтралитете (1780–1783), с помощью которой Екатерина II стремилась защитить суда нейтральных государств (таких, как Россия) от перехвата и обыска Королевским флотом, охотившимся за французской контрабандой. В этой деликатной дипломатической обстановке российское Адмиралтейство категорически запрещало русским кораблям заходить в британские порты. Поэтому действия Маккензи поставили русских в неудобное положение, усугублявшееся репортажами в британских газетах, которые писали, что заход судна «Дерис» в Портсмут был щедро оплачен. Роль Маккензи в этом деле остается неясной. Более того, он все чаще раздражал флотское начальство, не предоставляя регулярные рапорты. Адмиралтейств-коллегия осудила его поступок и постановила: «Содержать Мекензи под подозрением, пока он не искупит свою вину усердною службой, а потому таким надежным, каким он прежде считался, а также отличным и знающим морское дело почитаться уже не может»[129].
В результате этих подозрений Маккензи был вынужден ненадолго оставить службу. К счастью для него и для российского флота, он был реабилитирован по специальному распоряжению Екатерины, которая нуждалась в опытных офицерах, уже проявивших себя в деле. 12 января 1783 г. (ст. ст.) российское Адмиралтейство присвоило ему звание контр-адмирала и направило на Азовское и Черное моря[130]. Он получил указание присоединиться к вице-адмиралу Федоту Клокачеву, старшему по званию и заслуженному ветерану Чесмы, который недавно был отозван из длительного отпуска по болезни и назначен командующим Азовской флотилией.
БУХТА АХТИАР
В это время князь Потемкин, генерал-губернатор Новороссии, стремился усилить влияние и активность России на юге. Как мы уже видели, всего за месяц до повышения Маккензи, 14 декабря 1782 г. (ст. ст.), Екатерина II издала секретный указ, который предписывал Потемкину захватить Крым и немедленно приступить к приготовлениям. По ее мнению, Россия должна была как можно быстрее обеспечить свое присутствие в Черном море, чтобы отразить любое возможное вторжение турок и при необходимости разгромить их.
Российское Адмиралтейство, следуя совету генерала Суворова, уже определило большую естественную бухту Ахтиар (названную по имени маленького крымско-татарского поселка на берегу моря, Ак-Яр, что означает «белый утес») как потенциальную военно-морскую базу[131]. Были предприняты меры по рекогносцировке и установлению контроля над бухтой. В этом году Крымское ханство даже собиралось уступить бухту Ахтиар России, вероятно полагая, что это меньшее из двух зол – большим была бы потеря Крыма. Однако цель Потемкина состояла в присоединении всего полуострова, и это «предложение» отклонили. Тем не менее в ноябре 1782 г. Потемкин приказал двум фрегатам из Азовской флотилии, «Храброму» и «Осторожному», под командованием капитана первого ранга И. М. Одинцова перезимовать в бухте Ахтиар. В своем донесении Одинцов писал: «Имею честь представить сделанную Ахтиарской гавани с ее заливами, с промерами глубин и положением берегов карту, в которой как военных кораблей, так и прочих судов без всякой нужды до 50 и более установить можно…»[132]
Дальнейшие события – для России, Потемкина и Маккензи – развивались очень быстро. 22 января 1783 г. Екатерина II назначила Клокачева командующим Азовской флотилией. На следующий день он отправился из Санкт-Петербурга в Кременчуг на Днепре на встречу с Потемкиным, который должен был дать ему дополнительные инструкции. Затем Клокачев поднял свой флаг на флагмане Азовской флотилии в порту Таганрога. В марте он приказал провести вторую рекогносцировку южного побережья Крыма, и особенно бухты Ахтиар, чтобы убедиться, что она подходит для базы военно-морского флота. Задание было поручено капитан-лейтенанту Берсеневу. Прибыв в Ахтиар в апреле, чтобы провести детальное обследование бухты, он увидел, что она большая, глубокая и безопасная. В своем одобрительном рапорте Берсенев писал: «Четыре бухты, закрытые от ветров горами, и пятая рейдовая, простирающаяся в длину на семь, а в ширину на полторы версты[133], при глубине десять саженей, с иловатым грунтом»[134]. Берсенев подтвердил рапорт Одинцова о том, что Ахтиар – превосходная гавань для флота, в которой корабли могут безопасно стоять на якоре вблизи берега. Более того, местность вокруг бухты в то время не была заселена, и никто на нее не претендовал. Таким образом, это место выглядело идеальным для основания базы Черноморской эскадры, со всеми необходимыми береговыми сооружениями. Вскоре здесь возник оживленный центр, откуда российский флот смог контролировать воды региона.
8 апреля 1883 г. (ст. ст.), одновременно с рекогносцировкой Берсенева, Екатерина издала указ «взять под державу нашу полуостров Крымский, полуостров Тамань и всю Кубанскую сторону»[135]. О присоединении планировалось объявить только после того, как Потемкин выполнит свою задачу. К тому времени, когда Османская империя и ведущие европейские державы сообразили, что происходит, войско было уже в пути. К середине месяца по указанию генерал-лейтенанта графа Антона де Бальмена, командующего русскими силами в Крыму, батальон гренадер занял берег бухты Ахтиар. 1 мая 1783 г. батальон был усилен Капорским и Днепровским пехотным полками, а также батареями полевой артиллерии[136]. Эти разумные упреждающие меры повторяли своевременные действия Суворова, который в 1778 г. не позволил высадиться в бухте турецкому десанту. По совету Бальмена Клокачев приказал направить две шхуны и фрегат на патрулирование побережья Крыма, чтобы предупредить о возможном нападении турок с моря. Единственный способ прочно удерживать в своих руках Крым, как того желала императрица, – направить сильную эскадру в бухту Ахтиар и построить там порт с соответствующей инфраструктурой; именно этим и занялся Клокачев. Под его началом находились три 44-пушечных фрегата, два 16-пушечных корабля, три шхуны и несколько малых судов.
Небольшая флотилия Клокачева вышла из Керчи 5 мая 1783 г. Несмотря на то что маршрут вокруг восточного и южного берега Крыма был относительно коротким, корабли вошли в бухту Ахтиар только 13 мая. Скорее всего, русскую флотилию задержала плохая погода, поскольку у нас нет никаких свидетельств о столкновениях с турецким флотом. Русские артиллеристы береговых батарей дали залп, приветствуя благополучное прибытие флотилии, которая стала Черноморским флотом. Не теряя времени, моряки приступили к рекогносцировке новой гавани и территории предполагаемой базы. Биограф Маккензи Владимир Усольцев так описывает обход бухты, который совершили адмиралы Клокачев и Маккензи на 12-пушечном боте «Битюг»:
«Они с любопытством рассматривали крутые, поросшие лесом южные берега бухты, развалины Инкермана, пустынные берега северной стороны бухты, побывали на позициях артиллеристов, расположившихся на северном мысу при входе в бухту. Красота, величие и дикость берегов поразили их воображение… Когда адмиралы сошли на плоский мыс, расположенный за первым заливом от входа в бухту, то они сразу же решили здесь закладывать порт»[137].
Адмиралы высадились на южном берегу бухты в том месте, которое находится в самом центре современного Севастополя, недалеко от площади Нахимова и Графской пристани.
17 мая 1783 г. Клокачев отправил Адмиралтейств-коллегии два донесения. В первом подтверждалось, что эскадра благополучно прибыла в бухту Ахриар и что он принял под свою команду два фрегата из Херсона под командованием капитана первого ранга Одинцова, которые уже стояли на якоре в гавани[138]. Русский адмирал с похвалой отозвался о новой бухте:
«При сем непримину я Вашему Сиятельству донести, что при самом входе в Ахтиарскую гавань дивился я хорошею ее с моря положением, вошедши и осмотревши, могу сказать, что во всей Европе нет подобной гавани – положением, величиной, глубиной. Можно в ней иметь флот до 100 военных судов. Ко всему тому же природа такие устроила лиманы, что сами по себе отделены на разные гавани, то есть – военную и купеческую…»[139]
В своем втором рапорте Клокачев сообщал, что получил указание от Потемкина без промедления следовать в Херсон, чтобы принять командование Днепровской флотилией и «адмиралтейством», то есть военно-морской верфью[140]. Губернатор города генерал-квартирмейстер Иван Ганнибал, ветеран Чесмы, отвечавший за строительство нового города Херсона, недавно поссорился с Потемкиным по поводу стоимости строительных работ, и его отозвали в Санкт-Петербург. Теперь его сменил Клокачев: одной из главных задач адмирала было возрождение строительства кораблей на верфях Херсона. До отплытия в Херсон 19 мая 1783 г. он в письме своему коллеге описывал достоинства превосходной естественной гавани Ахтиар: «Подобной еще гавани не видал, и в Европе действительно таковой хорошей нет»[141]. И он не был одинок в такой высокой оценке бухты.
После того как Клокачев был направлен в Херсон и назначен главнокомандующим Черноморским и Азовским флотом, ответственным и за корабли, и за инфраструктуру, эскадра в бухте Ахтиар перешла под начало контр-адмирала Томаса Маккензи. Ему поручили построить новую, постоянную морскую базу. Огромную помощь в выполнении этой задачи ему оказал его флаг-адъютант Дмитрий Николаевич Сенявин. Впоследствии Сенявин дослужился до звания адмирала, стал главнокомандующим Черноморским флотом и губернатором Севастополя[142].
Вскоре русские моряки начали осваивать бухту Ахтиар и находить самые удобные якорные стоянки и места для швартовки. Для первоначальной ориентировки они использовали местные татарские названия географических объектов, но вскоре заменили их своими. Ахтиар (ныне Севастополь) в буквальном смысле означает «бухта бухт»: тут их около тридцати – отсюда и древнее название «гребень» (см. карту 4). В то первое лето экипажи Клокачева и Маккензи дали названия главным бухтам. Двигаясь на восток вдоль южного берега, они наткнулись на бухту, которую татары назвали «Кади-лиман» («бухта судьи»). Здесь русские выгружали пушки с кораблей и хранили во время ремонта или зимовки, и эта маленькая бухта получила название Артиллерийской. Сегодня оживленная Артиллерийская бухта – один из главных паромных причалов современного Севастополя; здесь громкая сирена предупреждает пассажиров о скором отплытии парома на Северную сторону. Следующая бухта гораздо больше Артиллерийской: она самая большая из всех севастопольских бухт. Татары называли ее «Чабан-лиман» («пастушья бухта»), а русские переименовали в Южную. Именно эту бухту Маккензи выбрал для стоянки своей эскадры; первым на якорь там стал его флагман, фрегат «Крым».
У входа в Южную бухту на восток отходит узкий залив поменьше, где разместились линейные корабли. В результате бухту стали называть Корабельной, и это название сохранилось до наших дней. Но сегодня стоянка современных российских военных кораблей переместилась в более просторную Южную бухту. Еще дальше на восток вдоль побережья главной бухты находится залив, где команда первых двух судов, зимовавших здесь в 1782–1783 гг., оборудовала место для килевания – пристань, где очищают, конопатят и ремонтируют подводную часть судов. Естественно, этот залив стали называть Килен-бухтой. В ней до сих пор ремонтируют корабли. Напротив нее, на северном берегу, находится бухта Голландия. Как объясняет современный путеводитель по Севастополю, ее назвали так вовсе не потому, что в российском Черноморском флоте служили моряки из Нидерландов, а по аналогии с Новой Голландией (основанной голландцами при Петре Великом) в Санкт-Петербурге, где, как и здесь, находился склад леса, канатов и всего остального, что требуется для ремонта парусных судов. Моряки российского Балтийского флота, которые участвовали в строительстве Севастополя, просто воспользовались привычным названием. На северном берегу напротив Южной бухты находятся два больших узких залива, известные сегодня как Северная бухта и Старая Северная бухта[143]. В первой находится причал для паромов, направляющихся в Артиллерийскую бухту на Южной стороне. К западу от Старой Северной бухты расположена Михайловская батарея, а еще дальше на запад – бухта Матюшенко с дебаркадером для парома, перевозящего пассажиров через Севастопольскую бухту[144].
СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРОДА
23 мая 1783 г. Маккензи отправил донесение в Санкт-Петербург, в котором подтвердил отбытие Клокачева и привел подробный перечень судов, которые вице-адмирал препоручил под его флаг, поднятый на фрегате «Крым»[145]. Главной боевой силой Маккензи была эскадра из пяти фрегатов, базировавшая в бухте Ахтиар и курсировавшая у берегов Крыма[146]. Клокачев уже указал на необходимость строительства в этом месте крупного склада и сильной крепости, не уступающей могучему Кронштадту на Балтике. Это предполагало создание с нуля полной военно-морской инфраструктуры с причалами, киленбалкой, пороховым хранилищем, сухарной фабрикой, провиантскими складами, экипажными казармами и жилым городком[147]. Это было непростой задачей: Маккензи пришлось привлекать к работам не только своих моряков, но и солдат гарнизона и немногочисленных торговцев. Недостаток специалистов, провианта, инструментов и строительных материалов стал серьезным препятствием к основанию Севастополя.
Тем не менее под умелым и энергичным руководством Маккензи все препятствия удалось преодолеть, и строительство города началось. На первом этапе работы велись в западной части южного берега бухты. В начале июня 1783 г. после вырубки деревьев и кустарника были заложены фундаменты первых каменных зданий[148].
Среди первых каменных построек были дом адмирала, часовня, «кузница» для будущей верфи поблизости от входа в Южную бухту и пристань. Автор биографии Сенявина так описывает скорость и ход строительства:
«Скорость, с какою ведены эти постройки, была необычайна; каждый капитан корабля спешил выстроить дом для себя и казарму для своего экипажа. Конечно, эти дома были незатейливой архитектуры… Вообще эти здания напоминали собою новороссийские хаты; но тем не менее давали возможность офицерам и экипажу укрыться от предстоявшей зимней стужи. Впрочем, не одни постройки из плетня воздвигались в порождавшемся Севастополе; заботливый Макензи стал выжигать известь, делать кирпичи и строить каменные здания»[149].
На самом деле в распоряжении русских имелся очень удобный строительный камень – они могли просто разорять развалины древнего Херсонеса. По словам биографа Сенявина, эти практичные действия (в те времена никто не задумывался об охране древних памятников)«много содействовали к скорейшему построению казарм для морских служителей, портовых мастерских, магазинов и обывательских домов». Все очень спешили, чтобы как можно больше успеть до начала зимних штормов, так что «пристань устроена была с небольшим в месяц, кузница почти в три недели»[150]. 13 июля 1783 г. Маккензи докладывал президенту Адмиралтейств-коллегии графу Ивану Чернышеву, что он закончил строительство малой верфи и продолжает возведение казарм. Более того, в бухте уже начали ремонтировать корабли. Таким образом, дело продвигалось очень быстро[151].
В первое лето своей службы в Севастополе Сенявин отмечал стиль руководства Маккензи, в котором строгость приказов сочеталась с веселым общением:
«Командиры собрались на обед к адмиралу. “Господа, здесь мы будем зимовать, – объявил он распоряжение Главнокомандующего. – Старайтесь каждый для себя что-нибудь выстроить. Я буду помогать Вам. Идемте кушать”. Сели за стол, обедали хорошо, встали веселы, а ввечеру допили и на шханцах танцевали».
Далее Сенявин пишет загадочную фразу, что мисс Салли очень хорошо играла свою роль, и «около полуночи бал кончился». Кто эта дама, каковы были ее отношения с Маккензи, так и осталось тайной[152].
Не забывал Маккензи и о духовных потребностях гарнизона и флота: 6 (17) июля состоялась первая служба в часовне Св. Николая Чудотворца. Прошло всего восемь недель после прибытия Клокачева и Маккензи в Ахтиар. В том же месяце первого суматошного лета новой военно-морской базы России в Крыму сюда с официальным поручением прибыл «майор» Сэмпл Лайл. К тому времени его приняли на военную службу, и теперь он выступал в роли адъютанта Потемкина[153]. По прибытии он встретился «со своим старым другом адмиралом Маккензи, командовавшим маленьким флотом». Впечатленный тем, сколько было сделано за такое короткое время, Сэмпл писал, что «укрепления и прочие работы ведутся с великим рвением, и во всем видны признаки усовершенствования»[154].
Адмирал с гостем сели в лодку, чтобы «посетить старинное здание», которое Сэмпл Лайл называет «древним Херсонесом», лежащим в «почти недоступной бухте». Не сумев добраться туда морем, они перебрались через скалы «со стороны суши». Там они увидели здание «если его можно так назвать… почти вырезанное из скалы, необитаемое, если не считать одного человека». Из этого краткого описания невозможно с уверенностью сделать вывод, что Маккензи и его гость действительно добрались до главной части древнего Херсонеса. Человек, которого они встретили, мог быть отшельником или праведником. Как вспоминал Сэмпл Лайл, «не могу сказать, что заставило его поселиться здесь, религия или желание скрыться. Немногие из оставшихся местных жителей оказывали ему уважение и снабжали всем необходимым». Адмирал Маккензи, которым Сэмпл Лайл явно восхищался, «дал строгое указание не досаждать этому человеку»[155].
Рассказ Сэмпла Лайла напоминает нам, что, хотя в то время в Ахтиаре почти никто не жил, а древний Херсонес был заброшен, остальной Крым оставался густонаселенным краем. Во время пребывания Лайла в Ахтиаре к ним с Маккензи приходили «местные» татарские лидеры, пытаясь умаслить новых «русских» хозяев. Каждому подарили коня. Тот, который предназначался Маккензи, был с роскошным кожаным седлом и серебряными стременами. Сэмпл Лайл вспоминает странную и даже неловкую сцену: «Маккензи с видимым удовольствием рассмотрел пугливое животное, в присутствии всей компании толкнул меня локтем и, указывая на стремя в своей руке, сказал: “Бери лошадь, а я возьму стремена – из каждого выйдет пара подсвечников”. “Если бы он сказал, две пары, – прибавил затем Сэмпл Лайл, – я не счел бы такую оценку преувеличенной”»[156]. Несмотря на некоторые сомнения в достоверности автобиографии Сэмпла Лайла или по меньшей мере некоторых ее частей, описание крымского хозяина и его владений выглядит вполне правдоподобно:
«Адмирал Маккензи, чье имя… украсило первую часть этого рассказа, направился в бухту Ахтиар, которую теперь называют Севастополем; здесь он со стремительностью, которая отличала все его действия, начал строить дом для себя, казармы для моряков, госпиталь, склады и возводить батареи, и привел бухту во вполне защищенное состояние»[157].
В Ахтиаре Сэмпл Лайл заболел, но, еще не до конца оправившись, направился в Карасубазар на Крымском полуострове, чтобы снова присоединиться к своему начальнику князю Потемкину, который сам страдал от сильной лихорадки (по всей видимости, это была малярия). Сам шотландец заболел, скорее всего, чумой, которая, как он отмечал, распространилась «среди нас». Эта болезнь стоила жизни многим русским морякам, солдатам и поселенцам в Крыму и на юге Украины, в том числе в портах Херсон и Таганрог.
Сэмплу Лайлу повезло: он выжил и смог рассказать нам о своей поездке. Клокачев докладывал в Адмиралтейств-коллегию, что за первые недели сентября в Ахтиаре умерли тридцать девять человек, а в Херсоне – еще семьдесят[158]. Вскоре после этого чумой заболел сам адмирал; он скончался в ноябре 1783 г. и был похоронен в общей могиле на окраине города. Суровая действительность военной и морской службы, не говоря уже о трудностях строительства в Ахтиаре, означала, что жизнь там была тяжелой, опасной и во многих случаях короткой. Травмы, болезни и смерть были постоянными спутниками людей, и в этом отношении ни должности, ни звания не давали никаких привилегий. В начале того же года скучавшая в разлуке с Потемкиным Екатерина переживала из-за опасностей для его здоровья на юге России. В письме от 9 июня 1783 г. (ст. ст.) она признавалась:
«Не токмо помню часто, но и жалею и часто тужу, что ты там, а не здесь, ибо без тебя я, как без рук. Прошу тебя всячески: не мешкай занятием Крыма. Пугает меня теперь зараза для тебя и для всех. Для Бога возьми и вели взять всевозможные меры»[159].
13 июля (ст. ст.) Потемкин (еще не получив письма императрицы) демонстрировал, что прекрасно осознает, насколько опасна свирепствовавшая на юге болезнь:
«Сею язвою я был наиболее встревожен по рапортам из Крыма, где она в розных уездах и гофшпиталях наших показалась. Я немедленно кинулся туда, зделал распоряжения отделением больных и незараженных, окуря и перемыв их одежду. Разделил по сортам болезней…»[160]
К сожалению, оптимистичное предположение Потемкина, что чуму удалось укротить, оказалось ошибочным, о чем свидетельствуют рапорты Клокачева и его смерть осенью того же года. Несмотря на практические меры, предпринимаемые для минимизации распространения болезни, медицинская наука тогда еще не знала причины смертельно опасного заболевания и не умела бороться с ним[161]. До появления эффективных антибиотиков оставалось еще больше ста лет. В XVIII и XIX вв. вспышки чумы регулярно происходили в Стамбуле. Любая торговля с этим городом – или размещение там войск – несла с собой опасность заражения, в чем убедилась английская армия во время Крымской войны, когда многие ее солдаты умерли в госпитале знаменитой Флоренс Найтингейл в Скутари (ныне Ускюдар, район Стамбула).
Тем временем активные работы в Ахтиаре продолжались все лето, что отражено в восторженных рассказах Сенявина и Сэмпла Лайла. В рапорте Адмиралтейств-коллегии от 20 ноября 1783 г. (ст. ст.) Маккензи докладывал об успехах в Ахтиаре: «Строение для житья штаб и обер-офицерам светлиц, а нижним чинам казарм и к поклаже материалов, припасов и провиантов магазины некоторые приходят к окончанию»[162]. Он считал своим долгом умерить необоснованные ожидания, что за такой короткий срок можно было бы достичь большего, указывая на «крайний недостаток» материалов. Более того, объяснял Маккензи, с наступлением зимы транспортные суда не рисковали выходить в море, а послать в Херсон гребное судно он тоже не решался. Поэтому ему пришлось отправить фрегат, чтобы поддерживать связь со своим непосредственным начальством.
С самого основания города Екатерина II внимательно следила, как продвигается строительство новой военно-морской базы. В письме от 13 июня 1783 г. (ст. ст.), когда не прошло еще шести недель после прибытия в Ахтиар адмиралов Клокачева и Маккензи с их скромным флотом, Потемкин делился с Екатериной впечатлениями от бухты. Он почти не скрывал своего восхищения:
«Не описываю о красоте Крыма, сие бы заняло много время, оставляя до другого случая, а скажу только, что Ахтияр лутчая гавань в свете. Петербург, поставленный у Балтики, – северная столица России, средняя – Москва, а Херсон Ахтиярский да будет столица полуденная моей Государыни. Пусть посмотрят, который Государь сделал лутчий выбор»[163].
История удивительным образом совершила круг, когда 18 марта 2014 г. президент В. В. Путин присвоил Севастополю статус города федерального значения и субъекта Российской Федерации; два других ее города с таким же статусом – Москва и Санкт-Петербург[164].
Возможно, красочное описание Потемкина побудило Екатерину в апреле 1784 г. переименовать Ахтиар в Херсон, связав его с древними руинами Херсонеса рядом с новым городом. Однако некоторые историки утверждают, что она уже решила дать имя Севастополь другому городу – тому, который строился вблизи устья Днепра, где несколькими годами раньше Потемкин разместил русский гарнизон, военно-морскую базу и верфь. Но конверты с указами Екатерины случайно перепутали. Поэтому город, который императрица хотела назвать Севастополем, стал Херсоном, а предполагаемый Херсон – Севастополем[165].
В конечном счете Потемкин и Екатерина остались довольны новым названием крымского города, и оно осталось в истории. Название происходит от греческих слов «севастос», что означает «священный», и «полис», то есть «город». Таким образом, Севастополь – «высокочтимый или святой город»[166]. После смерти императрицы ее преемник Павел I 12 декабря 1796 г. (ст. ст.) приказал вернуть городу название Ахтиар, поскольку хотел избавиться от любых следов деятельности Потемкина, которого он ненавидел. Но Екатерина все же победила, потому что в 1801 г. ее внук Александр I снова переименовал Ахтиар в Севастополь. Тем не менее в официальной переписке какое-то время сохранялось старое название. Только по указу императора Николая I, изданному в марте 1826 г., русским было предписано город «не именовать впредь Ахтиаром, но всегда Севастополем», и название, данное Екатериной и Потемкиным, осталось для потомков[167].
Официальное решение построить крепость в Севастополе последовало за началом работ по возведению поселка для моряков и портовой инфраструктуры. Название «Севастополь» впервые появилось в императорском указе от 10 февраля 1784 г. (ст. ст.), в котором Екатерина приказала основать «крепость большую Севастополь, где ныне Ахтияр, и где должно быть адмиралтейство, верфь для первого ранга кораблей»[168]. В честь основания Черноморского флота была выпущена медаль с надписью «Слава России» – слова, которые стали пророческими[169]. В дальнейшем выпустили другую медаль «В память торжественного путешествия императрицы Екатерины II в Крым» в 1787 г., с надписью на оборотной стороне «Путь на пользу». Желая получить профессиональный совет, Потемкин обратился к инженер-полковнику Николаю Ивановичу Корсакову. Он был подающим надежды офицером, который в 1776–1777 гг. посетил Великобританию, чтобы завершить образование и изучить искусство прокладки каналов[170]. В письме Екатерине в июле 1783 г. Потемкин лестно отзывался о нем: «Корсаков, матушка, такой инженер, что у нас не бывало. Как он Кинбурн отделал, истинно дорого смотреть. Сего человека нужно беречь»[171]. Вскоре Потемкин поручил ему усовершенствование доков и береговых укреплений в Херсоне. Но талантливый инженер не ограничился этими обязанностями – он обследовал Севастополь и разработал долговременную программу его развития.
В рапорте Потемкину, датированном 14 февраля 1786 г. (ст. ст.), Корсаков изложил десятилетний план строительства города, оборонительных сооружений и военно-морской инфраструктуры. Главной задачей первого года было улучшение снабжения инструментами и материалами, «чтоб сим же летом заготовить довольное количество кирпича и извести». Инженер предсказывал, что через пять лет Севастополь будет приведен «в оборонительное состояние», а «бруствера и гласис» будут одеты дерном. Кроме того, в этом же году планировалось построить постоянные казармы для солдат гарнизона и экипажей кораблей, склады, пороховые погреба, пристань и маяк. В течение следующих пяти лет строительства предполагалось построить форты, охраняющие подходы к бухте, а также доки и другие сооружения, необходимые адмиралтейству. И наконец, должны быть возведены «остальное публичное строение, как то: церкви, гостиные дворы, камендантский дом и прочее»[172].
К сожалению, Корсаков трагически погиб во время осады Очакова в начале октября 1788 г., когда во время осмотра русских батарей случайно оступился и упал в глубокий ров, прямо на собственную шпагу[173]. «Для России, – отметил современный историк, – это была почти невосполнимая потеря – просвещенный и опытный офицер, чрезвычайно искусный и изобретательный инженер»[174]. Если бы Корсаков не поскользнулся, он не только увидел бы капитуляцию турецкой крепости 17 декабря 1788 г., но и, скорее всего, руководил бы претворением в жизнь своего грандиозного плана строительства оборонительных сооружений в Севастополе. Корсакова похоронили на кладбище у собора Св. Екатерины в Херсоне, куда в 1791 г. перенесли прах Потемкина. Тем временем в Севастополе строительные работы шли гораздо медленнее, чем планировалось.
В течение года после основания Севастополя, в 1783–1784 гг., нехватка материалов и плохая погода усугублялись отсутствием денег в казне, а также полномочий напрямую взаимодействовать с местным населением. Например, Маккензи был вынужден спрашивать разрешения у Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, чтобы попросить у татар «годных деревьев» и заплатить за них «сходную цену». Он жаловался начальству: «Но без позволения коллегии к заготовке сам собою приступить не осмеливаюсь. При всем же оном при вверенной мне эскадре денежной казны по наличию ничего нет»[175]. Но изобретательный Маккензи, похоже, нашел другой источник пополнения казны. Например, семью месяцами позже, 12 (23) июня 1784 г., он докладывал графу Чернышеву о недавнем визите Потемкина в Крым:
«Я встречал Его Светлость (кн. Потемкина) в Севастополе, где изволил пробыть два дня, рассматривая береговое строение и расположение эскадры; изволил с великим удовольствием отсюда отбыть. Будучи здесь, я осмелился ему доложить о издержанных мною деньгах на разное цивильное строение и прочия надобности, который изволил обещать заплатить, то уповаю В. С. и вы меня також и коллегия простите за дерзость, которую я сделал»[176].
Вероятно, разрешение от русской Адмиралтейств-коллегии так и не пришло. Причин такого печального положения дел могло быть несколько – по крайней мере, с точки зрения Маккензи. Во-первых, Потемкин находился в плохих отношениях с Чернышевым, поскольку последний был недоволен тем, что князь основал Черноморский флот, который находился вне сферы влияния Адмиралтейства в Санкт-Петербурге[177]. Во-вторых, по всей видимости, не был забыт инцидент в Портсмуте, и у начальства, похоже, имелись основания подозревать мошенничество в Севастополе. Русский биограф Маккензи придерживается такого же мнения, отмечая: «Те, кто обладает большой властью и распоряжается большими материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, часто путают казенный карман со своим. Не минуло это и Мекензи»[178]. В 1785 г. против него завели дело за недозволенное использование казенных средств. Однако разбирательству помешала преждевременная смерть Маккензи (скорее всего, от чумы) 10 января 1786 г. (ст. ст.).
Оглядываясь назад, следует признать, что достижения Маккензи за первые два с половиной года строительства Севастополя весьма впечатляют – несмотря на «свободное» обращение с казенными деньгами. Отношение адмирала к средствам, выделяемым государством, было обычным для того времени. Но под его непосредственным руководством экипажи кораблей и торговые люди основали город и построили военно-морской порт, который со временем стал таким же важным для России, как Кронштадт на Балтике. Энтузиазм, решительность и энергия адмирала были примером для всех. Маккензи сохранил свой независимый, добросердечный и веселый нрав, благодаря которому он завоевал восхищение и верность своих подчиненных, в том числе Сенявина. Маккензи был очень общителен и никогда не упускал возможности повеселиться.
Рассказывая о событиях 31 декабря 1785 г. (ст. ст.), Сенявин описывает последнюю пирушку Маккензи. Обычная сцена праздничного застолья внезапно окрасилась в мрачные тона:
«…весь день было веселье у адмирала Макензи. После роскошного обеда – прямо за карты и за танцы; все были действующие, зрителей никого, и кто как желал, тот так и забавлялся. За полчаса пред полночью позвали к ужину; в последнюю минуту, пред новым годом, рюмки все налиты шампанским, бьет двенадцать часов; все встали, поздравляют адмирала и друг друга с новым годом; но адмирал наш – ни слова; тихо спустился на стул, поставил рюмку, потупил глаза в тарелку и крепко задумался»[179].
Что-то явно произошло. Обычно веселый и жизнерадостный Маккензи выглядел подавленным. «Все начали его спрашивать: “Что вам сделалось, что вам случилось?” Адмирал серьезно ответил: “Мне нынешний год умереть, тринадцать нас сидит за столом”». Моряки очень суеверны, но товарищи постарались развеять его мрачные мысли. Маккензи попытался сделать вид, что все в порядке и даже «не оставил между тем, чтобы не нарядить себя в женское платье и представить старую англичанку, танцующую менуэт; это была любимая его забава, когда бывал он весел». Но хорошее расположение духа продлилось недолго. Его верный флаг-адъютант вспоминал: «Как вдруг, 7-го числа, на вечере, адмирал занемог, а 10-го, поутру, скончался; мне сердечно было его жаль»[180].
Не подлежит сомнению, что Сенявин и другие офицеры и моряки российского Черноморского флота любили и уважали своего адмирала, глубоко скорбели о нем. В начале своей карьеры Томас Маккензи проявил себя храбрым и отважным офицером, помогая уничтожить турецкий флот в Чесменском сражении, а в последние годы своей службы на российском флоте руководил строительством города и порта. Он многого достиг благодаря профессиональным знаниям, энергии и, не в последнюю очередь, природному очарованию и силе характера.
Маккензи похоронили с воинскими почестями на холме над Южной бухтой. Внизу раскинулось его создание – Севастополь, новая военно-морская база, построенная трудами экипажей российских кораблей. Как пишет В. С. Усольцев, холм, на котором похоронили адмирала, «назывался длительное время Мекензиев курган, но после Крымской войны это название изменили на Зеленый холм, а затем на Красную горку»[181]. Сегодня на этом месте стоит постамент со старым танком Т-34 – памятник боям, которые шли здесь во время Второй мировой войны. Точное место захоронения Маккензи неизвестно; более того, в Севастополе нет даже мемориальной доски в честь основателя города. Вероятно, это объясняется его иностранной, шотландской фамилией. Советские историки (и даже некоторые современные местные источники) ошибочно приписывали роль и достижения Маккензи его подчиненному Сенявину[182]. Дом Маккензи, превратившийся в резиденцию губернатора, пережил Крымскую войну, но был снесен в начале 1900-х гг. при реконструкции участка вокруг площади Нахимова.
Единственное напоминание о Маккензи сегодня – это гряда лесистых холмов, Мекензиевы горы, к востоку от города, а также бульвар Томаса Маккензи в жилом районе в северной части Севастополя, около железнодорожной станции Мекензиевы горы недалеко от Инкермана. Возможно, когда-нибудь Севастополь восстановит историческую справедливость – если возродится кампания по увековечению памяти основателя города, начатая Владимиром Усольцевым[183].
Опись имущества покойного Маккензи в Севастополе дает представление об образе жизни этого необычного русского шотландца. Как отмечает один русский историк, у него был «барский вкус и привычка к комфорту, что граничило с роскошью в убогих условиях первых лет существования Севастополя». Можно лишь догадываться, откуда взялась эта роскошь в таком нищенском окружении, не стоит исключать и растрату. Вероятно, Маккензи ни в чем себе не отказывал. Ему принадлежали: «…Несколько имений с множеством скота и птицы, голубятня, конюшня с двенадцатью лошадьми и семь разных экипажей для путешествий. Его дом, несомненно самый большой в городе, с золочеными перилами, изразцовыми печами и шелковыми занавесками, изобиловал красивой мебелью, хрусталем, фарфором, столовым серебром и картинами, и впоследствии послужил резиденцией императрицы [Екатерины II]. Адмирал оставил после себя восемь перстней с драгоценными камнями и 2213 рублей наличных денег, а также шестнадцать колод карт и 56 книг»[184].
Тем временем многострадальная жена Маккензи Анна, давно оставленная в Кронштадте, обратилась к Потемкину за помощью в получении сведений о имуществе ее покойного мужа. Она попросила, чтобы его душеприказчиком назначили капитана первого ранга Тисдейла, живущего в Севастополе сослуживца Маккензи, которого она, вероятно, хорошо знала. Потемкин, в свою очередь, 18 апреля 1786 г. (ст. ст.) написал генералу Михаилу Васильевичу Каховскому, командующему войсками в Крыму, приказав разобраться и доложить. На это потребовалось почти три месяца. 15 июля (ст. ст.) Каховский направил капитану первого ранга графу Войновичу, который принял командование Черноморским флотом после смерти Маккензи, документ за подписью членов комиссии, специально созданной для оценки имущества Маккензи. К своему глубокому огорчению, Анна выяснила, что ее расточительный муж оставил огромную кучу долгов, значительно превышавшую стоимость его движимого и недвижимого имущества.
Длинный список кредиторов, составленный Каховским, включал не меньше пятидесяти отдельных счетов на общую сумму 2919 рублей 10 копеек, значительные деньги для того времени. Большая часть неоплаченных счетов от торговцев (греков, итальянцев, русских, татар и турок) относилась к строительным материалам, одежде, еде и напиткам. Один из них, в сумме 107 рублей и двадцати копеек за 8310 пластин черепицы, был выписан местным татарином. Маккензи также задолжал 230 рублей и 13 копеек херсонскому мяснику. Еще один крупный долг в 500 рублей касался суммы, уплаченной бригадиром Тищевым за серебряный сервиз, который Маккензи ему так и не привез; вероятно, контр-адмирал просто прикарманил эти деньги. Самый большой и самый странный долг был у Маккензи перед некой «Сарой Александровной, дочерью Марии», которая ссужала ему 150 рублей в год. Поскольку период, о котором шла речь, составлял «четыре года, восемь месяцев и одиннадцать дней», то адмирал задолжал женщине как минимум 600 рублей, а скорее больше 700. Но и это еще не все. Под отдельным номером в документах Маккензи, хранящихся в Государственном архиве Симферополя, числится любопытный счет, выставленный неким британцем Р. Робинсоном, который утверждал, что Маккензи должен ему 467 рублей 95 копеек. Эта сумма состояла из нескольких более мелких долгов за фейерверки, а также за обучение Маккензи их изготовлению и использованию. Еще один крупный счет был выставлен за ремонт потолка в доме Маккензи.
Все эти неоплаченные счета означали, что продажа собственности Маккензи не принесет Анне никаких или почти никаких денег. Пытаясь хоть как-то обеспечить вдову, Екатерина II (по всей видимости, по совету Потемкина) приказала устроить аукцион по продаже движимого и недвижимого имущества Маккензи. Насколько известно автору, история не сохранила сведений, кто получил выгоду от аукциона, Анна или кредиторы Маккензи. В целом создается впечатление, что Фома Фомич Маккензи был яркой личностью, много сделал для Севастополя в первые годы существования города, но в то же время был мотом, который жил на широкую ногу и тратил гораздо больше, чем позволяли его скромные доходы.
Не подлежит сомнению, что Томас Маккензи был дамским угодником. После него осталась бездетная вдова в Кронштадте и пятилетний сын (Томас Генри Маккензи) от миссис Марии Брайн из Портсмута, вероятно зачатый во время его пребывания в городе зимой 1780/81 г. Была еще и безымянная «бедная английская девушка», которая якобы жила с ним в Севастополе и, вероятно, пережила его, но осталась «в бедности» – предположительно, та самая «мисс Салли», о которой упоминал Сенявин[185]. Жена Маккензи тоже жила в бедности. После того как она обратилась за помощью к адмиралу Грейгу, «указом Екатерины II дом в Кронштадте был передан ей в пожизненное пользование»[186]. До своей преждевременной смерти в возрасте 45 лет Маккензи любил поесть, выпить и, как и многие его соотечественники на чужбине, нарядиться в национальный костюм. Вероятно, личность адмирала наилучшим образом характеризует «содержимое его погреба и гардероба». Например:
«[Маккензи] явно был любителем сладкого: 60 фунтов патоки, 45 сахара, 45 меда, семь изюма и девятнадцать разных кондитерских изделий. И спиртного тоже: 554 пустых и 374 полных бутылок разнообразных вин плюс шесть мер водки и три бочонка французского бренди. И наконец, среди тридцати его камзолов и мундиров присутствует килт в зеленых и синих тонах, клетчатый плед, бархатная шапочка, шотландский палаш, длинный кинжал с прямым лезвием и другие предметы из облачения шотландских горцев»[187].
Имя Маккензи помнили вплоть до Крымской войны. Как мы увидим ниже, британские войска проходили Мекензиеву ферму в сентябре 1854 г. во время марша к Балаклаве от поля боя на реке Альма. Гости, приезжавшие в Севастополь до Крымской войны, вне всякого сомнения, знали о роли адмирала. Это место как будто привлекало необычных персонажей вроде Сэмпла Лайла. Пройдет совсем немного времени, и за ним последует еще один.
Вскоре после смерти Маккензи новую базу российского флота посетила некая Элизабет, леди Крейвен, «обольстительная и бесцеремонная» красавица, скандализировавшая Лондон нескромными платьями и дерзкими выходками[188]. Она получила благословение Потемкина на эту поездку и поэтому удостоилась в Севастополе самого теплого приема[189]. В письме от 12 апреля 1786 г. своему любовнику и будущему мужу маркграфу Бранденбургскому автор путевых заметок сообщала:
«…здесь мне одной определен целый дом. Архитектура и все мебели его Английские. Он принадлежал адмиралу Макензи, который недавно умер. Сюда я приехала по морскому рукаву в шлюпке… Вышедши из нее и прошедши несколько шагов, к величайшей радости и приятнейшему удивлению, я услышала два или три голоса мужчин, которые, поклонясь мне учтиво, сказали: Миледи! Мы ваши соотечественники. В действительности здесь очень много англичан, которые служат морскими поручиками в русском флоте. Дома покойного адмирала подле самого того места, где я вышла на берег. Снаружи он представляет весьма прекрасный вид»[190][191].
Рассказ леди Крейвен напоминает нам, почему база в Крыму была так важна для российского флота, и ее значение не уменьшилось и сегодня:
«Удивительные и странные берега представляют гавань совсем не похожую на те, какие прежде сего видала. Пристань вдоль по берегу моря между двумя такими высочайшими горами простирается, что Слава Екатерины[192][193], самой большой корабль в российском флоте, который стоит здесь на якоре, за нею не виден; потому что берег выше флюгера[194], привязанного на конце главной мачты. Место это так глубоко, что корабль едва достает до дна. Все европейские флоты могут быть в безопасности в гаванях и в таких натуральных пристанях, которых здесь очень много. Довольно бы было двух батарей, которыми можно укрепить устье с одной стороны, чтобы потопить те корабли, которые осмелились бы в них пройти, а если бы они находились со стороны моря, то воспрепятствовали бы войти флоту»[195].
Несмотря на некоторые преувеличения, английская путешественница проявила немалую проницательность в оценке оборонительных возможностей Севастополя. Именно такие сооружения, которые она представляла, будут построены в следующие пятьдесят лет, в частности, Константиновский форт на «северной стороне», который и сегодня охраняет вход в Севастопольскую бухту. Первую проверку эти оборонительные сооружения прошли в ходе Крымской войны. Возможно, в своем анализе леди Крейвен опиралась на мнение Николая Корсакова, с которым познакомилась в Херсоне месяцем раньше. Совершенно очевидно, молодой инженер произвел на нее огромное впечатление; она писала, что он «молодой, весьма учтивый и любезный человек», и предсказывала, что он и его коллега, капитан Мордвинов, будут «представлять отличных людей в воинских Российских летописях»[196]. Описывая его работу по обновлению фортификационных сооружений Херсона, она отмечала: «Кажется, что он всегда имеет на сердце укрепление сего места и славу своих соотечественников… Мне кажется, что нет лучше состояния для молодого офицера, как быть определену к таким местам, где он своими трудами может укреплять новоприобретенныя области»[197]. Новые империи задумываются, строятся и защищаются именно такими патриотами, преданными своей стране.
ТРИУМФАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ЕКАТЕРИНЫ В СЕВАСТОПОЛЬ
Потемкин так гордился своими достижениями в Новороссии, что желал лично продемонстрировать их Екатерине. Императрице тоже не терпелось своими глазами увидеть, что было сделано и достигнуто по ее повелению и от ее имени. Особый интерес у нее вызвало присоединение Крыма к России и основание Севастополя как главного порта нового южного флота. Обоюдное желание помогло разработать план экспедиции для инспекции недавно завоеванных земель на юге. Год, на который была назначена эта поездка (1787), через четыре года после основания Севастополя, считался символическим – исполнялось двадцать пять лет со дня восшествия Екатерины на трон в 1762 г. Сложность грандиозного предприятия была такова, что на его подготовку ушло три года. Путешествие Екатерины стало «самым длинным в ее жизни и самым захватывающим событием в период ее правления»[198]. Путь от Санкт-Петербурга до Киева она проделала на санях, а затем, весной, после схода льда на реке Днепр, началась «самая длинная, роскошная и дорогая лодочная прогулка в мировой истории»[199]. Встречать Екатерину в Киеве пригласили иностранных послов. После празднеств, состоявшихся в этом городе, они поднялись на борт галеры и сопровождали императрицу в плавании по Днепру, а затем в путешествии в карете в Крым и Севастополь.
Именно во время этого триумфального путешествия Екатерины II родилась знаменитая легенда о «потемкинских деревнях». Однако вопреки этому и другим мифам, грандиозная поездка, несмотря на беспрецедентные расходы, была не только пышным и тщеславным увеселением[200]. Прежде всего она преследовала серьезную дипломатическую цель. Екатерина и Потемкин желали продемонстрировать коронованным особам Европы, что Российская империя, с ее недавними территориальными приобретениями и растущей военно-морской мощью, превратилась в государство, с которым нельзя не считаться. Более того, это был сигнал всему миру, что они теперь внимательно наблюдают за Османской империей и Стамбулом, до которого из Севастополя всего два дня пути. Такие амбиции отражают «прекрасную мечту о возрождении Греческой империи со столицей в Константинополе и внуком Екатерины Константином в качестве императора»[201]. В целом путешествие Екатерины в 1787 г. было чем-то большим, чем увеселительная поездка или государственный визит. Предназначенное для того, чтобы «впечатлить Европу и устрашить турок», оно служило недвусмысленным заявлением о стратегических намерениях России[202]. Севастополь с его недавно созданным Черноморским флотом был конечным пунктом поездки: визит в город стал чрезвычайно уместным и впечатляющим завершением триумфального путешествия.
Потемкин еще в 1783 г. готовился к предстоящему визиту Екатерины. По его мнению, это событие должно было утвердить основание Севастополя, благословить новый город присутствием государыни и гарантировать ему высочайшее покровительство. Поэтому под руководством Потемкина грандиозное путешествие по югу России планировалось с особой тщательностью: нельзя было забывать о важных деталях или впечатляющих видах. Для императрицы и ее свиты наняли специального газетчика, который описал все места, где предстоит побывать. Раздел о Севастополе, предположительно составленный на основе флотских рапортов, подтверждал удобство бухты, включив ее «в число наилучших гаваней в свете»[203]. Контр-адмирал Томас Маккензи на протяжении трех зим уже доказал ценность Севастополя как безопасной стоянки Черноморского флота. «Вновь строящийся город Севастополь, – продолжал рассказ автор, – расположен на одном из ея заливов ближайшем к морю, на ровном берега уступе, составляющем подгорие окружающего его горнаго хребта». Вне всякого сомнения, на читателей и гостей должна была произвести впечатление скорость строительства – «судя по краткости времени довольно уже выстроен и снабжен всеми потребностями для судов и морских служителей, пребывание свое тут имеющих»[204].
Планируя путешествие, Потемкин хотел прославить не только это место, но и сам путь императрицы в Севастополь. Намекая на конечную цель России – Константинополь, князь установил вдоль всего пути ряд триумфальных арок, под которыми проезжал императорский кортеж, с провокационной надписью «Дорога на Византию»[205]. Послание было абсолютно ясным – и другу, и врагу. К сожалению, ни одна из этих арок не сохранилась. По предложению губернатора Тавриды Василия Каховского Потемкин приказал отметить маршрут императрицы каменными столбами через каждые 10 верст (10,67 километра)[206]. Однако они простояли не так долго, как хотел бы князь. При советской власти большинство этих нежелательных символов царского режима уничтожили. Четыре столба сохранились в Крыму. Среди них последний столб на императорском маршруте, стоящий на северной стороне Севастополя на краю маленького парка в Учкуевке. До недавнего времени сохранившийся верстовой столб был единственным напоминанием триумфального визита Екатерины Великой в 1787 г. Любопытно, что в 1860-х гг. на нем была вырезана надпись с ошибкой, что императрица посетила город в 1887 г., а не в 1787 г.!
Бывшую Екатерининскую площадь после Крымской войны переименовали в площадь Нахимова в честь знаменитого адмирала, который погиб при героической обороне города, а после Октябрьской революции и Гражданской войны в России Екатерининская улица стала улицей Ленина. Первый современный памятник Екатерине II в Севастополе был открыт только в 2008 г., в честь 225-летия со дня основания города. Деньги на памятник собирались по открытой подписке, и он символически обращен к Офицерскому клубу Черноморского флота Российской Федерации на улице Ленина (примечательно, что ее не переименовали), недалеко от Военно-исторического музея Черноморского флота в центре Севастополя. Это запоздалое признание заслуг Екатерины имеет историческое значение как реабилитация наследия царской России в городе.
Значение визита Екатерины в Севастополь было так велико, что Потемкин не хотел рисковать успехом этого события, предназначенного для того, чтобы порадовать императрицу и поразить иностранных гостей. Соответственно в январе 1787 г. он приехал на новую базу флота с официальной инспекцией. В сопровождении искателя приключений и будущего революционера из Венесуэлы Франсиско де Миранды, с которым он недавно познакомился, Потемкин убедился, что все готово или пребывает в последней стадии подготовки к визиту императрицы. Его южноамериканский гость пишет о посещении бывшего дома Маккензи, который был «продан за четыре тысячи рублей», а затем об ужине в казармах с капитаном корабля «Граф Войнович»[207]. Этот скромный дом, должным образом украшенный и оборудованный, пятью месяцами позже стал резиденцией Екатерины во время ее визита в город. Несмотря на скромное происхождение, дом Маккензи стал называться дворцом и, соответственно украшенный и расширенный, на протяжении многих десятилетий служил резиденцией губернатора Севастополя.
Вскоре началось долгое путешествие Екатерины. Выехав из Санкт-Петербурга в студеный зимний день 14 (25) января 1787 г., она преодолевала заснеженные равнины в огромной карете на полозьях, «с гостиной, библиотекой и спальней», которую тянули тридцать лошадей. Двор следовал за ней на двух сотнях других саней, больших и маленьких[208]. Этот огромный караван через двадцать один день прибыл в Киев. Затем последовал продолжительный и несколько суматошный раунд дипломатической активности и развлечений – многолюдные ассамблеи и частные аудиенции, роскошные балы и великолепные банкеты. В узком кругу Екатерины были иностранные гости: принц Шарль-Жозеф де Линь, фельдмаршал, доверенное лицо и посол Иосифа II Австрийского, присоединившегося к ним позже, а также британский дипломат Аллейн Фицгерберт, посланник Британии в России, и барон де Сегюр, посол Франции, поэт и писатель. Фицгерберт не оставил письменных воспоминаний об этом путешествии (увы, все его бумаги были утрачены в 1797 г., когда сгорел его лондонский дом), но, к счастью, сохранились мемуары и де Линя, и де Сегюра. Последний поделился с нами впечатлением, которое на него произвел Потемкин (он называет его могущественным и капризным), а также оставил ценное описание визита в Крым и Севастополь – именно на нем основан наш рассказ.
12 мая 1787 г. императорская флотилия наконец с большой помпой отправилась вниз по Днепру. Мэри Дюрант, повторяя легенду о потемкинских деревнях, так описывает путешествие по реке:
«По обе стороны появлялись чудеса [князя]. Его враги были поражены. Берега Днепра являли собой картину Рая. В степях паслись несметные стада коров и овец, за которым присматривали пастухи, играющие на дудочках. Живописные деревни по обоим берегам были украшены гирляндами роз. В полях маршировали отряды солдат в великолепных новых мундирах. На закате у кромки воды танцевали и пели группы веселых и беззаботных молодых крестьян в праздничном платье. С наступлением темноты на берегу начинались иллюминации и фейерверки»[209].
Но важнее развлечений были государственные дела, запланированные по дороге в Крым. Вблизи Кайдака на Днепре к императрице присоединился Иосиф II, путешествовавший инкогнито под именем графа Фалькенштейна. Екатерина стремилась произвести впечатление на австрийского императора, поскольку без его помощи любая попытка России еще больше расширить свои границы за счет Турции была обречена на провал. Два монарха вели тайные переговоры на эту тему с 1781 г.
Таким образом, главной целью путешествия императрицы было вовлечение Иосифа в «греческий» проект – Екатерина хотела произвести впечатление крепнущей силой России, особенно ее военно-морского флота. Козырной картой в этой игре предназначалось стать Севастополю и его новому флоту. Предыдущие войны показали, что Россия может одержать победу над Турцией в сухопутном или морском сражении, но ее сил недостаточно, чтобы завоевать европейские владения Османской империи и захватить Стамбул/Константинополь и проливы – именно эта цель оставалась главной для России в Первой мировой войне[210]. В конце XVIII в., как и весь XIX и начало XX, Россия нуждалась в сильных союзниках, чтобы сломить сопротивление турок. Если бы Австрия и Россия объединили силы против общего исторического врага, то карту Европы можно было бы перекроить – в пользу обеих стран. Манящая картина новой Византии оставалась в центре дерзкого замысла Екатерины и Потемкина. Но для его реализации требовалась активная и постоянная поддержка Иосифа II Австрийского.
На следующий день два монарха совершили совместную поездку в недавно основанный город Екатеринослав. Грандиозные планы Потемкина предполагали, что это будет новая столица Новороссии, с величественным дворцом, университетом, судами, музыкальной академией, ботаническим садом и текстильными фабриками[211]. Екатерина и Иосиф заложили первый камень Преображенского собора, проект которого напоминал собор Св. Петра в Риме; университет в городе был основан только в 1918 г. 28 мая Екатерина и Иосиф посетили с инспекцией заново укрепленный город и порт Херсон, также основанный Потемкиным. Здесь, на днепровской верфи, они присутствовали при спуске на воду трех военных кораблей, в том числе 66-пушечного и 80-пушечного линейных кораблей – последний получил имя «Св. Иосиф»[212]. Вероятно, этот символический жест дружбы не остался не замеченным австрийским императором и другими гостями.
Прибыв в Крым, Екатерина поселилась в бывшем ханском дворце в Бахчисарае, который по ее распоряжению бережно отреставрировал шотландский архитектор Чарльз Кэмерон. Обновив «внутренние дворики и тайные сады, окруженные высокими стенами и живыми изгородями из мирта», он заново украсил «коврами и искусными гобеленами прохладные просторные комнаты с облицованными яркой плиткой стенами»[213]. Но больше всего поражали воображение мраморные фонтаны в центре каждой комнаты; самым красивым из них был «фонтан слез», который и в наши дни привлекает тысячи посетителей и который вдохновил Пушкина на создание его знаменитой поэмы «Бахчисарайский фонтан» (1823)[214]. Именно здесь, в древнем татарском городе, в восточной атмосфере дворца и его ближайшего окружения с высокими минаретами, оживленными базарами и закутанными в чадру женщинами, Екатерина сочинила для своего фаворита стихотворение, отражавшее ее восприятие Крыма:
Лежала я вечор в беседке ханской
В средине басурман и веры мусульманской.
Против беседки той построена мечеть,
Куда всяк день иман народ влечет.
Я думала заснуть, и лишь закрылись очи,
Как, уши он заткнув, взревел изо всей мочи…
О Божьи чудеса! из предков кто моих
Спокойно почивал от орд и ханов их?
А мне мешает спать среди Бахчисарая
Табашный дым и крик; но, впрочем, место рая;
Иль не помнит кто нашествий их на Русь,
Как разоряли все, как наводили трус?
Хвалю тебя, мой друг, занявши здешний край,
Ты бдением своим все вяще укрепляй[215].
К этому времени многие иностранные гости уже сгорали от нетерпения, желая увидеть новый российский флот. На протяжении всего путешествия их не оставляли сомнения, существует ли он. Потемкин искусно играл на растущем скептицизме гостей, отказываясь сообщить какие-либо подробности о числе кораблей и их силе – по мере продвижения на юг неопределенность росла. После отбытия из Киева Потемкин уже продемонстрировал свою склонность к театральности. Теперь пришла пора нанести решающий удар. 2 июня 1787 г., когда императорская процессия достигла северной части Севастопольской бухты, он преподнес своему монарху и высоким гостям особенный сюрприз[216]. На скрытой от глаз террасе, под которой раскинулся скалистый берег моря, Потемкин установил шатер для завтрака. Вот как описывает это зрелище де Сегюр:
«Между тем как их величества сидели за столом, при звуках прекрасной музыки, внезапно отворились двери большого балкона, и взорам вашим представилось величественное зрелище; между двумя рядами татарских всадников мы увидели залив… посреди этого залива, в виду царской столовой, выстроился в боевом порядке грозный флот, построенный, вооруженный и совершенно снаряженный в два года. Государыню приветствовали залпом из пушек, и грохот их, казалось, возвещал Понту Евксинскому о присутствии его владычицы…»[217]
Несколько преувеличивая, французский аристократ предположил, что флот Екатерины способен за тридцать часов достичь Стамбула и поднять флаги над его стенами. Линейные корабли в бухте были настоящими: все сомнения удивленных иностранных гостей мгновенно улетучились. Де Сегюр опускает эту подробность, но очень важно отметить, что – по рассказам других очевидцев – в момент наивысшего триумфа Екатерины всем поднесли шампанское, и императрица с гордостью произнесла тост: «Выпьем за Черноморский флот России»[218]. Затем Екатерина спустилась к берегу, пересела на лодку и отправилась инспектировать свой новый флот. Ее главный гость и союзник император Иосиф II Австрийский заявил, что это «красивейший порт, какой я когда-либо видел». Глядя на российские корабли, стоящие на якоре в гавани, он сказал, что нужно быть здесь, чтобы поверить своим глазам[219]. Сегюр оставил нам красочное описание нового города в тот памятный день:
«Екатерина… дивилась глубине и ширине залива, вырытого природою, будто с намерением устроить здесь прекраснейшую пристань в мире. Проехав залив, мы пристали к подножию горы, на которой полукружием возвышался Севастополь, построенный Екатериною. Несколько зданий для складов товаров, адмиралтейство, городские укрепления, 400 домов, толпы рабочих, сильный гарнизон, госпиталь, верфи, пристани торговая и карантинная, все придавало Севастополю вид довольно значительного города. Нам казалось непостижимым, каким образом в 2000 верстах от столицы, в недавно приобретенном крае, Потемкин нашел возможность воздвигнуть такие здания, соорудить город, создать флот, утвердить порт и поселить столько жителей…»[220]
Севастополь быстро развивался, и его значение росло. Деятельность Маккензи, начиная с 1783 г., первые этапы плана Корсакова 1786 г. и неусыпное внимание Потемкина – всё это в 1787 г. позволило произвести на гостей императрицы нужное впечатление. Большим достижением стало завершение в этом же году строительства величественной каменной пристани на месте старой, деревянной; ее назвали Екатерининской. Другие сооружения, не столь впечатляющие, были также настоятельно необходимы. Например, в 1784 г. началось строительство водопровода, поскольку вскоре обнаружилось, что местные колодцы не способны обеспечить водой растущее число жителей, большинство которых в первые годы существования города составляли солдаты и моряки. Естественно, поисками нового источника воды занялись по приказу Потемкина. Подходящий источник был найден в восьми километрах от Севастополя, у дачи капитана Е. И. Сарандинаки, и оттуда в город проложили первую трубу водопровода. Сооружение полноценного водопровода закончилось только в 1820-х гг., а еще через десять лет ее дополнил акведук для новых доков[221].
Будущее города зависело, в первую очередь, от присутствия Черноморского флота. Эти символические отношения оказались долговечными. Императорский указ от 12 августа 1785 г. (ст. ст.) утвердил штаты адмиралтейства и флота в Севастополе. Важная роль российского флота в Крыму отражается статистикой: на кораблях, базирующихся в Севастополе и Керчи, и на берегу предполагалось иметь флотские команды численностью 9584 человека (большинство в Севастополе), тогда как в Херсоне и Николаеве – лишь 4104 человека. Таким образом, сосредоточение основного состава флота в Севастополе имело большое значение для благополучия и развития города[222]. Более того, не забыли и торговлю. Указом от 22 февраля 1784 г. (ст. ст.) Екатерина объявила Севастополь открытым для торговли портом, и вскоре сюда пришли первые торговые суда из Керчи, Таганрога, Херсона и Николаева. За три месяца в севастопольской гавани побывали не менее 20 иностранных судов[223]. Основание города стало одним из главных достижений правления Екатерины: флот, базировавший на рейде Севастополя и в соседних бухтах, на протяжении более двух столетий служил впечатляющим символом военно-морской мощи России на Черном море и за его пределами. И остается им сегодня.
РАСТУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЯ И ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА
В Севастополе триумфальное путешествие Екатерины завершилось, успешно разрекламировав дома и за границей масштаб недавних приобретений России и реальность ее нового Черноморского флота, однако все стратегические цели императрицы достигнуты не были. В краткосрочном плане это событие серьезно ударило по отношениям с Турцией. Пышный, провокационный визит Екатерины в Крым в мае 1787 г. и демонстрация возможностей нового флота в Севастополе до такой степени встревожили Османскую империю, что через три месяца, 13 августа, Высокая Порта объявила войну России. Такие последствия явно стали неожиданностью для Екатерины – Турция не испугалась ее демонстрации силы, и Россия на первых порах оказалась в невыгодном положении. Страна не была готова к такому внезапному конфликту с Турцией. Потемкин рассчитывал на несколько лет подготовки, но в действительности Россия оказалась их лишена. Таков неумолимый закон непредвиденных последствий. В письме Потемкину, датированном 24 августа 1787 г. (ст. ст.), Екатерина спрашивала: «Но что же делать, естьли пузырь лопнул прежде времяни… Естьли войну турки объявили, то, чаю, флот в Очакове оставили, чтоб построенных кораблей в Херсоне не пропускать в Севастополь»[224]. Таким образом, несмотря на все недавние триумфы, Екатерина и Потемкин не сумели проявить достаточную политическую прозорливость. Россию застали врасплох – ни предупреждения по дипломатическим каналам, ни сообщений о военных приготовлениях. Эта неудача отражала серьезные институциональные дефекты русской разведки, которая не понимала своего давнего противника (Турцию). Его изучением предстояло заняться будущим руководителям государства в Санкт-Петербурге (а впоследствии в Москве).
В разворачивающемся конфликте с Османской империей Екатерина взяла на себя политическое руководство военной стратегией Потемкина, но не пыталась контролировать каждый его шаг. Она часто предлагала ему советы, а иногда подбадривала или предостерегала его. В письмах Екатерина интересовалась не только состоянием дел в Севастополе, но и здоровьем князя (а также заболеваемостью в армии и на флоте), поскольку в 1783 г. в Крыму у Потемкина случился приступ малярии. Например, вскоре после начала войны она писала:
«Надеюсь на твое горячее попечение, что Севастопольскую гавань и флот сохранишь невредимо, чрез зиму флот в гавани всегда в опасности. Правда, что Севастополь не Чесма. Признаюсь, что меня одно только страшит, то есть язва. Для самого Бога я тебя прошу – возьми в свои три губернии, в Армии и во флоте всевозможные меры заблаговремянно, чтоб зло сие паки к нам не вкралось слабостию. Я знаю, что и в самом Царе Граде язвы теперь не слыхать, но как оне у них никогда не пресекается, то войски оныя с собою развозят. Пришли ко мне (и то для меня единой) план, как ты думаешь войну вести, чтоб я знала и потому могла размерить по твоему же мнению тебя»[225]
117
Надпись на памятном знаке, установленном на площади Нахимова в южной части Севастополя, откуда открывается вид на бухту и порт.
118
Первое из этих описаний приводится в: James Grant. The Scottish Soldiers of Fortune; Their Adventures and Achievements in the Armies of Europe. London: Routledge, 1889, republished by Forgotten Books in 2012. P. 39. Грант еще раз нелестно отзывается о Лайле, отмечая (P. 42), что «в России [Сэмпл Лайл] был замечен в недостойных связях со знаменитой герцогиней Кингстон». Вторая характеристика цитируется Себаг-Монтефиоре (P. 219), который упоминает название книги того времени о Сэмпле Лайле: «Северный герой – удивительные приключения, любовные интриги, хитроумные планы, непревзойденное лицемерие, невероятные избавления, ужасные обманы, дерзкие прожекты и злодейские деяния» (The Northern Hero – Surprising Adventures, Amorous Intrigues, Curious Devices, Unparalleled Hypocrisy, Remarkable Escapes, Internal Frauds, Deep-laid Projects and Villainous Projects!). Другая версия этого в высшей степени критического рассказа недавно была повторно издана Eighteenth Century Collections Online Print Editions: The Northern Impostor; Being a faithful Narrative of the Life, Adventures, and Deceptions, of James George Semple, commonly called Major Semple. London: printed for G. Kearsley, 1786.
119
J. G. Semple. The Life of Major J. G. Semple Lisle Containing a Faithful Narrative of His Alternate Vicissitudes of Splendor and Misfortune. London: W. Stewart, 1799. P. 10. Неизвестно, заслуживают ли доверия воспоминания Сэмпла Лайла, особенно с учетом сомнительной репутации автора. Он писал книгу в тюрьме, вероятно, с помощью «литературного раба». В этой автобиографической книге ничего не говорится о финансовых операциях самого Лайла, крайне запутанных и в основном незаконных.
120
При работе над этой главой книги автору очень помогло подробное исследование Ника Огла, посвятившего несколько лет изучению флотской карьеры контр-адмирала Томаса Маккензи, которому он приходится родственником по материнской линии. Его неопубликованная рукопись (Rear Admiral Tomas Mackenzie: Life and Times with the Black Sea and Azov Sea Command 1783–1786), основанная преимущественно на русских источниках, стала для меня неоценимым справочным пособием. Большую помощь мне также оказал мистер Аллан Маккензи, прямой потомок Томаса Маккензи. Кроме того, материал этой главы в значительной степени опирается на монографию на русском языке: Усольцев В. С. Фома Фомич Мекензи. Севастополь: Арт-Принт, 2001.
121
Следуя примеру Петра I, Екатерина II поощряла прием на службу офицеров Королевского флота. В результате значительная часть офицеров российского флота были британцами, причем несколько человек занимали высокие должности, в том числе Эльфинстон, Грейг и сэр Чарльз Ноулз. Российский военно-морской флот получал и другую помощь от Великобритании: проектирование, постройку и ремонт кораблей, а также обучение российских экипажей на британских военных кораблях. См.: M. S. Anderson. Great Britain and the Growth of the Russian Navy in the Eighteenth Century // Mariner’s Mirror, 42 (1956). P. 132–146; Anthony Cross. By the Banks of the Neva: Chapters from the Lives and Careers of the British in Eighteenth-Century Russia. Cambridge: University Press, 1997. P. 183–218. Кросс полагает (P. 205), что в период правления Екатерины Великой на службу в российский флот было принято не менее ста пятидесяти британских офицеров.
122
Grant. P. 43.
123
Возможно, инициатива входа российского флота в Средиземное море принадлежит его брату Алексею. – Прим. науч. ред.
124
Aksan. Ottoman Wars. P. 153: утверждается, что Морейское восстание «было прелюдией к прибытию русского флота»; в то же время автор признает, что оно «осложнило [османскую] мобилизацию». Эта интерпретация затрагивает спорный исторический момент: поддерживало ли греческое восстание – со стратегической точки зрения русских – развертывание российского флота или, наоборот, российский флот поддерживал его?
125
Этот стратегический маневр предвосхищал переброску Балтийского флота на Дальний Восток в 1904–1905 гг. во время Русско-японской войны.
126
Выдающийся российский художник-маринист XIX в. Иван Айвазовский изобразил Чесменское сражение на одной из своих самых знаменитых картин.
127
Письмо лейтенанта Томаса Маккензи от 29 июля 1770 г. опубликовано в Scots Magazine. Vol. XXXII, September 1770. P. 504. Однако эксперты расходятся относительно роли брандеров в Чесменском сражении. Например, в: John Tredea and Eduard Sozaev. Russian Warships in the Age of Sail 1696–1860. Barnsley: Seaforth Publishing, 2010. P. 85, – авторы утверждают: «Успех русских может быть объяснен успешным применением артиллерийских снарядов взрывного действия в сочетании с брандерами, а также пассивностью и некомпетентностью турецких командиров». Современные российские источники приписывают заслугу победы лейтенанту Ильину, который командовал другим брандером. См.: The History of Russian Navy, Chapter 3, Chesma and Patras (http://www.neva.ru/EXPO96/book/chap3–4.html). Вероятно, наиболее сбалансированная версия приводится Кроссом: «Когда около 2 часов ночи 25 июня (6 июля) в бой вступили брандеры, их задачу отчасти уже выполнили снаряды с “Грома”, которые подожгли один из турецких кораблей. Брандерами командовали четыре добровольца: двое русских, лейтенант Дмитрий Ильин и гардемарин князь Василий Гагарин, и двое британцев, лейтенант Томас Маккензи и капитан-лейтенант Роберт Дагдейл. Брандер Дагдейла был перехвачен турками, но Маккензи смог достичь своей цели, хотя турецкий корабль к тому времени уже был охвачен пламенем. Именно Ильин нанес врагу смертельный удар, когда приблизился к концу турецкого строя и поджег его, так что Гагарину было уже нечего делать».
128
Рассказ о походе русского флота и о Чесменском сражении также содержится в: Robert K. Massie. Catherine the Great. P. 376–377. Мэсси подчеркивает масштаб британской поддержки, в том числе «предоставление российскому флоту стоянок для отдыха, пополнения запасов и ремонта на английских военно-морских базах в Халле, Портсмуте, а также на Гибралтаре и Минорке в Средиземном море».
129
Усольцев. С. 20.
130
Макареев М. В., Рыжонок Г. Н. Черноморский флот в биографиях командующих. Т. 1, 1783–1917. Севастополь: Мир, 2004. С. 18. Звание контр-адмирала было присвоено также Роберту Дагдейлу.
131
Добрый, Борисова. С. 16.
132
Цит. в: Усольцев. С. 21.
133
Старинная русская мера расстояния, верста, равняется 1,067 км. Таким образом, длина главной бухты Севастополя составляет приблизительно 7,5 км, ширина – 1,5 км.
134
Цит. в: Ogle MS. P. 1; цит. «Адмирал Дмитрий Николаевич Сенявин», Морской сборник, т. 15, № 4, Санкт-Петербург, 1885. С. 128–129. Далее цит. как «Сенявин».
135
Черноморский флот России (исторический очерк) / под ред. адмирала В. П. Комоедова. Симферополь: Таврида, 2002. С. 37. D. Smith. P. 118.
136
Макареев, Рыжонок. С. 18–19.
137
Усольцев. С. 23.
138
Ogle MS. P. 3, цит.: С. И. Елагин, Ф. Ф. Веселаго. Материалы для истории русского флота, Крым 1783–1785, документ 10, 6 мая 1783 (ст. ст.). Далее цит. как Материалы.
139
Усольцев. С. 23.
140
Ogle MS. P. 3, цит.: Материалы, документ 11, 6 мая 1783 (ст. ст.).
141
Ibid. Материалы, документ 12, 7 мая 1783 (ст. ст.).
142
Данные о первом периоде в истории Ахтиара (в 1784 г. его переименовали в Севастополь) основаны на воспоминаниях Сенявина, дополненных исследованиями Усольцева.
143
Описание бухт и истории их названий взяты из: Усольцев. С. 23; Добрый, Борисова. С. 103–107. Перед Второй мировой войной главную бухту (которую в XIX в. называли рейдом) стали также называть Северной.
144
Бухта Матюшенко названа в честь Афанасия Николаевича Матюшенко, одного из руководителей восстания на броненосце «Потемкин» в 1905 г. (см. главу 9).
145
Ogle MS. P. 4. Материалы, документ 15, 12 мая 1783 (ст. ст.).
146
Фрегаты № 8 «Осторожный», № 9 «Поспешный», № 10 «Крым», № 11 «Храбрый» и № 13 «Победа».
147
Комоедов. С. 38.
148
Основание Севастополя увековечено в памятнике на площади Нахимова, открытом в 1983 г. и обращенном к Севастопольской бухте. На нем выбиты такие слова: «Здесь 3 (14) июня 1783 года заложен город Севастополь, морская крепость юга России». Сегодня эта дата официально отмечается как день рождения не только Севастополя, но и Черноморского флота.
149
«Сенявин». С. 130–131.
150
Там же. C. 131.
151
Макареев, Рыжонок. С. 19.
152
Цит. по: Гончаров Г. В. Адмирал Сенявин. Биографический очерк с приложением записок адмирала Д. Н. Сенявина. М.; Л.: НК ВМФ, 1945. С. 22.
153
Себаг-Монтефиоре (Catherine the Great and Potemkin. P. 320) сомневается в том, что Лайл вообще был в Крыму в 1783 г., утверждая, что тот оставил службу в русской армии осенью 1782 г. Эта версия выглядит не слишком убедительно, если принять во внимание, как подробно шотландец описал Ахтиар и Томаса Маккензи; кроме того, Себаг-Монтефиоре не цитирует самого Лайла. Я, со своей стороны, убежден, что Сэмпл Лайл действительно приезжал в Крым и что его рассказ добавляет ценные подробности к картине основания Севастополя. Более того, Сэмпл Лайл мог действовать в интересах британского правительства, поскольку состоял в дружеских отношениях с сэром Джеймсом Харрисом, британским послом при дворе Екатерины II. Харрис был приятелем Потемкина, и можно предположить, что знакомством с Потемкиным и последующим поступлением на службу Сэмпл Лайл обязан своему покровителю. Кристина Бэкманн в статье «Майор Джеймс Джордж Сэмпл Лайл и его жены» (Major James George Semple Lisle and his wives) сообщает дополнительные подробности его биографии, в том числе его сомнительные подвиги в Париже, и отмечает, что он «был известен своими путешествиями и, похоже, не приходится сомневаться, что на самом деле он был тайным агентом, фактически шпионом». Цит. по: http://www.tufftuff.net/majorsemple.htm.
154
Semple. P. 37.
155
Ibid. P. 37–38.
156
Ibid. P. 38.
157
Ibid. P. 25.
158
Ogle MS. P. 10. Материалы, документ 44, без даты (вероятно, начало октября 1783 г.).
159
Екатерина Вторая и Г. А. Потемкин. Личная переписка (1769–1791), письмо 661.
160
Там же, письмо 662.
161
«Черную смерть» – бубонную чуму – привезли в Западную Европу в 1347 г. генуэзцы из своего крымского порта Каффа (современная Феодосия). До Англии болезнь добралась в 1348 г.
162
Ogle MS. P. 10. Материалы, документ 46, 20 ноября 1783 г.
163
Екатерина Вторая и Г. А. Потемкин. Личная переписка (1769–1791), письмо 662.
164
Текст речи президента В. В. Путина в Государственной думе 18 марта 2014 г. доступен на сайте: www.kremlin.ru/events/president/news/20603.
165
Добрый, Борисова. С. 16–17.
166
Там же. С. 7. Другой возможный перевод греческих слов себастос (σεβαστός) и полис (πόλις) – «город, достойный поклонения».
167
Ванеев Г. И. Севастополь: Страницы истории 1783–1983. Справочник. Симферополь: Таврия, 1983. С. 13.
168
Макареев, Рыжонок. С. 20.
169
Комоедов. С. 38.
170
Anthony Cross. A Russian Engineer in Eighteenth-Century Britain: The Journal of N. I. Korsakov, 1776–7 // The Slavonic and East European Review. Vol. 55, No. 1 (January 1977). P. 1–20.
171
Екатерина Вторая и Г. А. Потемкин. Личная переписка (1769–1791), письмо 672.
172
Болотина Н. Ю. Главная крепость «должна быть Севастополь»: Документы о создании базы Черноморского флота. 1784–1793 гг. Документ 5: РГВИА. Ф. 52, оп. 1. Ч. 1. Д. 160 (Ч. З). Л. 57–58об. Подлинник. См.: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVIII/1780–1800/Osnov_Sevastopol/text.htm.
173
Smith. P. 147.
174
Cross. A Russian Engineer. P. 20.
175
Ogle MS. P. 10. Материалы, документ 46, 20 ноября 1783 г. (ст. ст.).
176
Ogle MS. P. 11. Материалы, документ 53, 12 июня 1784 г. (ст. ст.).
177
Sebag Montefore. P. 287.
178
Усольцев. С. 26.
179
«Сенявин». С. 135–136.
180
Там же. С. 137
181
Усольцев. С. 26.
182
Например, Добрый и Борисова в своей книге (см. с. 16) утверждают, что строительством военно-морской базы руководил лейтенант Сенявин, впоследствии знаменитый русский флотоводец.
183
Но надежд на это мало. Примечательно, что в 2014 г. был снесен современный украинский мемориал на проспекте Нахимова, и вместо него установили памятник Сенявину, а не Маккензи.
184
Dmitry Fedosov. Under the Saltire: Scots and the Russian Navy, 1690s-1910s // Murray Frame & Mark Cornwall (eds). Scotland and the Slavs: Cultures in Contact 1500–2000. Newtonville, Massachusetts and St Petersburg: Oriental Research Publishers, 2001. P. 38.
185
Письмо от Уильяма Гленна, душеприказчика контр-адмирала Маккензи, из Петербурга в Бристоль миссис Марии Брайн [sic], датированное 17 июля 1786 г. (ст. ст.) – из неопубликованных семейных документов и писем Альберта Маккензи (1980), цит. в: Ogle MS. P. 14–15.
186
Ibid.
187
Fedosov. Under the Saltire. P. 38.
188
Первым ее мужем (1783–1791) был многострадальный барон Уильям Крейвен, который построил давно не существующий дом у реки Темзы, Крейвен-коттедж, на месте которого с 1896 г. располагается лондонский футбольный клуб «Фулхэм».
189
Sebag Montefore. P. 320.
190
Здесь и далее цит. в пер. Д. Рунича.
191
Путешествие в Крым и Константинополь в 1786 году милади Кравен. М.: Унив. тип., 1795. С. 300.
192
Корабль «Слава Екатерины» был первым из класса 66-пушечных линейных кораблей, построенных в Херсоне для Черноморского флота. В годы советской власти в Херсоне на месте бывшей верфи на берегу реки Днепр был установлен большой памятник из металла и бетона в честь спуска судна на воду в 1783 г. Корабль «Слава Екатерины» базировался в Севастополе и нес службу на Черном море с 1785 г. до списания в 1791 г. Екатерина II поднималась на борт корабля в Севастополе в 1787 г. В 1788 г. линейный корабль переименовали в «Преображение Господне».
193
См.: Tredea & Sozaev. P. 268–269.
194
То есть вымпела.
195
Путешествие в Крым и Константинополь. С. 301.
196
Там же. С. 250–252.
197
Там же. С. 250, 253.
198
Massie. Catherine the Great. P. 490.
199
Mary Durant. Catherine’s Boat Ride // Horizon – A Magazine for the Arts. Vol. VIII, no. 4 (Autumn 1966). P. 98.
200
Durant. Op cit.: «Роскошная поездка Екатерины длилась шесть месяцев, развлекла три тысячи гостей, преодолела три тысячи миль и стоила семь миллионов рублей, или приблизительно восемнадцать миллионов долларов в сегодняшних [1966] ценах».
201
Isabel de Madariaga. The Travels of General Francisco de Miranda in Russia. London, 28 March 1950. P. 5.
202
Massie. Catherine the Great. P. 491.
203
Неизвестный автор. Путешествие ее императорского величества в полуденный край России, предприемлемое в 1787 году. Санкт-Петербург: Горный институт, 1786. С. 73.
204
Там же. С. 74.
205
Orlando Figes. Crimea. P. 14.
206
Маленко А. Ю. «Была пора: Екатеринин век». Екатерина и Крым по страницам документов. Симферополь: Бизнес-Информ, 2013. С. 113. Верстовые столбы были установлены согласно приказу Потемкина от 8 (19) сентября 1787 г. А. Ю. Маленко предполагает, что автором и исполнителем проекта был инженер-полковник Н. И. Корсаков.
207
Archivo del General Miranda: Viajes [&] Diaros 1785–1787 [Архив генерала Миранды: Путешествия и дневники, 1785–1787], Tomo [vol.] II. Caracas: Editorial Sur-America, 1929. P. 229.
208
Durant. P. 100.
209
Ibid. P. 102.
210
Sean McMeekin, The Russian Origins of the First World War. Cambridge, Massachusetts and London: Harvard University Press, 2013.
211
Durant. P. 100.
212
Massie. Catherine the Great. P. 499.
213
Ibid. P. 500–501.
214
Поэма рассказывает о высокой драме жизни и смерти в ханском гареме.
215
D. Smith. P. 178–179: Екатерина «показала посвященное Потемкину стихотворение Храповицкому, своему секретарю, который подправил (и, возможно, переписал) его».
216
Точное место остается предметом споров. Некоторые источники указывают на Инкерман на восточной оконечности Севастопольского залива. Барон де Сегюр действительно сообщает, что императорский кортеж прибыл в Инкерман, но также называет это место Ахтиар – вероятно, «Инкерман» он использует в качестве общего названия. Следует отметить, что последний верстовой столб в память о путешествии Екатерины II стоит на северной стороне Севастополя напротив исторического центра города, и поэтому скорее всего место театрального представления Потемкина находится недалеко от памятника 2-й гвардейской армии, увековечивающего ее роль в освобождении Крыма и Севастополя в апреле – мае 1944 г. Такого же мнения придерживался местный историк В. С. Усольцев, изучивший несколько возможных мест.
217
Ségur. P. 66–67.
218
Добрый, Борисова. С. 17. Существует множество других описаний этой знаменитой сцены. Одна из самых лучших – Massie. Catherine the Great. P. 501.
219
Massie. Catherine the Great. P. 499.
220
Ségur. P. 67.
221
Ванеев. Справочник. С. 10–12.
222
Там же.
223
Там же. С. 9.
224
Екатерина Вторая и Г. А. Потемкин. Личная переписка (1769–1791), письмо 782.
225
Там же.