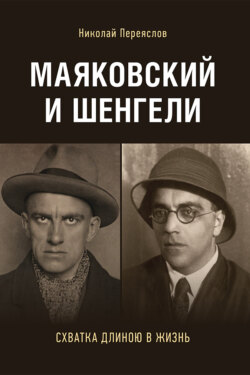Читать книгу Маяковский и Шенгели: схватка длиною в жизнь - Н. В. Переяслов - Страница 3
Харьков, Крым, Одесса и так далее…
ОглавлениеШенгели родился 20 апреля (по новому стилю – 2 мая) 1894 года в городке Темрюк, расположенном в Краснодарском крае, в самом устье реки Кубани, впадающей в Азовское море. Его отец – Аркадий Александрович Шенгели (1853–1902) был известным в Темрюке адвокатом, мать – Анна Андреевна Шенгели, урожденная Дыбская (1862–1900). В первых детских впечатлениях Георгия остались пейзажи с берегов Кубани, Азовское побережье, лиманы и, конечно же, морские волны, в которых вечно играют слепящие глаза солнечные блики. Казалось, детство начинается благополучно и безоблачно.
В 1898 году семья переехала в сибирский город Омск, откуда в 1899 году маленький Георгий ездил с мамой в Москву, где она лечилась от какой-то серьезной болезни. А 6 февраля 1900 года (по старому стилю) мать умерла.
Осенью 1901 года отец женился вторично, а Георгий открыл для себя радость процесса чтения – «проглотил» книги Жюля Верна, Уэллса, Марка Твена, Джерома, Гоголя и многих других.
28 февраля 1902 года в Тюмени внезапно скончался отец, после чего Шенгели с сестрой были взяты на попечение бабушкой со стороны матери – Марией Николаевной Дыбской (1840–1914), и с той поры Георгий жил у нее «под крылом» в Керчи. Как он написал: «на бабушкину пенсию и маленькое отцовское наследство, разверстанное “до окончания гимназии”».
Шенгели долго обитал в этом южном городе над проливом, соединившим Черное море с Азовом, Понт Эвксинский с Меотидой, и Керчь с этой поры стала любовью поэта на всю его жизнь, именуясь в стихах не иначе, как «мой город», «любимый город», который еще не однажды оживет и откликнется в его поэтических строках:
Помнишь день, когда тебе впервые
В синем небе белые ладьи
Развернули паруса тугие
В запредельном бытии?
Помнишь – в сердце – в эти миги трепет?
Ты не знал, что это стих цветет,
Что в тебе уже поэта лепит
Море, вечность, неба разворот…
В Керчи он впервые увидел море, а также поразившие его своим поэтическим видом корабли. Золотые годы детства и юности, проведенные им в Керчи, около моря, – это самое счастливое время в его жизни. (Эти дни очень хорошо описал в своем очерке «Поэт Георгий Шенгели и его Крым» современный харьковский писатель Сергей Шелковый.) Память об этих днях, омытых ветром и солнцем, поэт проносит через все последующие годы. И даже на старости своих лет, возвращаясь мысленно к любимым берегам, он напишет строки о белом домике в Еникале, стоящем над самыми водами Киммерийского Босфора, который он никогда не забывал и хранил в своем сердце, как образ земного рая:
Где-нибудь – белый на белой скале —
Крохотный домик в Еникале…
Город в две улицы узким балконом
Выпятился над проливом зеленым;
Степь с трех сторон, а с четвертой – простор:
Ветер и зыбь, Киммерийский Босфор…
Здесь доживают в безмолвьи суровом
Площадь в булыжнике средневековом,
Замок турецкий и греческий храм,
И – старики… Хорошо бы и нам
Выискать белый, в проулке дремливом,
Крохотный домик над рыжим обрывом,
Стол под широким поставить окном,
Лампу зеленым покрыть колпаком,
Наглухо на ночь закладывать ставни,
Слушать норд-оста мотив стародавний,
Старые книги неспешно листать
И о Несбывшемся вновь поминать:
Очень подходит к томительной теме
Медленное – по-еникальски – время…
Здесь, на родных керченских берегах, хотел бы он подвести итоги своей жизни, бурной и наполненной многими значительными событиями. Годы Георгия Шенгели сполна отмечены яркими событиями его внутренней творческой жизни. И этому творческому богатству, отмеченному неповторимостью личностной духовной силы, еще только предстоит стать по достоинству оцененным его наследниками – читателями русской поэзии.
Учился Шенгели в Керченской Александровской мужской гимназии, где с третьего класса начал подрабатывать репетиторством, а с 1909 года уже сотрудничал в газетах «Керчь – Феодосийский курьер», «Керченское слово» и других, писал для них хронику, фельетоны, статьи по авиации. В том же году он сошелся с товарищем по гимназии С. А. Векшинским, с которым дружил до последних своих дней.
В 1958 году на вечере памяти Г. А. Шенгели академик Сергей Аркадьевич Векшинский рассказывал о своем школьном товарище и друге всей его взрослой жизни следующее:
«Чернобровый красивый юноша, стриженный наголо, с повязанной, как тюрбаном, белым платком головой, смеющийся, веселый и страшно предприимчивый. Все его звали Ерик. Он был такой обаятельный, что я сразу привязался к нему и стал также называть его Ериком. В нем была какая-то удивительная предприимчивость, какое-то поразительное умение во всем найти интерес и увлечь остальных. Что бы он ни затевал, оно становилось общим интересом…
Вспоминая школьные годы, могу сказать, что он весь класс держал в постоянном любовно-прикованном к нему внимании. Не было случая, чтобы он плохо или стандартно написал классное сочинение; все то, что он писал, было несколько вызывающе, выходило за рамки казенной педагогики, но всегда умно, строго, логично. Кроме нормального почерка Георгий в совершенстве владел и микро-почерком, столь мелким, что только в пятикратную лупу можно было прочесть написанное им; нормальным невооруженным человеческим глазом читать было невозможно. Однажды он подал классное сочинение на маленьком, в осьмушку, листке бумаги. Учитель взорвался, сказал, что это хулиганство, что он доведет об этом до сведения начальства. Однако на следующем уроке он прочел это сочинение всему классу, и Шенгели получил за него отметку 5+. Это было самое интересное и содержательное сочинение, а по объему оно не уступало нашим «нормальным» классным писаниям…»
В 1910 году Шенгели съездил к своему дяде в Харьков. А в 1911 году побывал у другого дяди Александра Андреевича в Одессе, где, как он записал в своем дневнике, у него была «первая женщина». В 1912 году он бросил гимназию и отправился в Иркутск к своему брату Владимиру, который служил там младшим офицером. Позже Георгий напишет в своей первой книге стихов об этой поездке:
…Сосны и ели, горы, тайга,
Тускло блестели льды и снега,
Там, подо мною, мягко сверкал
Синей волною грозный Байкал…
По возвращении в Керчь Георгий провалился на экзамене и был из-за этого оставлен на второй год в седьмом классе. В этом же году (то есть в 1912-м) он влюбился в Паню Грипенко и начал писать стихи, а также серьезно заинтересовался стиховедением. Он обратил внимание на то, что «ямб Пушкина не совпадает с определением ямба в школьном учебнике», и это подтолкнуло его к «систематическим наблюдениям над фактурой стиха у больших поэтов», а также к чтению стиховедческой литературы. Таким образом, поэтическая и стиховедческая работы начались, в сущности, одновременно и продолжались – фактически непрерывно – до самых последних месяцев его жизни, взаимно обогащаясь, когда одно вырастало из другого.
Благодаря учителю французского языка в керченской гимназии Станиславу Антоновичу Краснику, Шенгели довольно быстро и накрепко приобщился к французской поэзии. Тот способствовал его приобщению к стихам С. Малларме, Ж.-М. Эредиа и других французских авторов, выступая в качестве первых критиков его переводов на русский. 1 декабря 1913 года под руководством Красника Георгий принял участие в литературно-музыкальном вечере, посвященном Расину, школьники разыграли фрагмент его трагедии «Митридат», в которой Шенгели играл царя Митридата, а Векшинский – Фарнака.
А в конце этого года он опубликовал в газете свои первые стихи.
«Когда мне было лет 17, – вспоминал позднее Шенгели, – и я только начинал писать стихи, буквально изнемогая от ощущений и мыслей, хлынувших в меня со страниц Верлена и Бодлера, Верхарна и Готье, Ницше и Пшибышевского, не говоря уже о русских модернистах, я «сошел с ума» от поэмы Брюсова «Искушение» (из книги «Urbi et Orbi»). Она абсолютно совпала с моими полудетскими томлениями и тревогами, с мучительными поисками «смысла жизни», «категорического императива», «границ познания» и т. п., она полностью отозвалась на то нытье в коленках, которое я испытывал, карабкаясь по кручам Канта, Спенсера, Шопенгауэра, Авенариуса, Фейербаха и других – вплоть до Сведенборга… Я в два прочета выучил поэму наизусть (помню до сих пор) и часами бормотал ее, сидя на утесах горы Митридат или выгребая в крошечной шлюпке, «тузике», против зыби Керченского пролива…»
И здесь у него рождались чудесные поэтические строчки, которые просто необъяснимо, по каким причинам, на столь долгое время были упрятаны от глаз влюбленных в настоящую поэзию читателей:
Исчерченный коринфскою резьбой
Иконостас из черного ореха.
Сгоревшего полудня льется эхо
Из купола струею голубой.
И бледным золотом дрожащий зной, —
Шипы уже незримого доспеха, —
Зигзагом быстрым, молниею смеха
У закоптелых ликов – как прибой.
Забытый порт Святого Иоанна…
В долине – церковь, где молчит осанна;
Безмолвный храм Тезея на холме.
И выше всех, в багряной мгле заката,
Над пропастью, на каменном ярме,
Гранитный трон – могила Митридата.
Еще один из выпускников Керченской гимназии Федор Аверкиев, выпустившийся в 1913 году с серебряной медалью, позже написал в своих воспоминаниях, как после приезда в Керчь известного авиатора Сергея Уточкина и показа его полетов на биплане «Фарман-IV» его друг Ера Шенгели «решил строить планер и привлек к этому меня. У нас не было нужных знаний, но было много энтузиазма. Во дворе, где жил Ера, закипело строительство. И вот планер из деревянных планок и бамбуковых жердей, обтянутых коленкором, готов. Первый полет намечался в городском саду, где были, как нам казалось, подходящие для полетов холмы на открытой поляне.
Нести на руках планер пришлось через весь город. Как мы ни отбивались от мальчишек, заинтересованных нами и нашей ношей, за нами увязалась целая толпа. От них мы получили, можно сказать, авансом восторженную оценку нашего «полета».
Полет окончился, не начинаясь, безобидной аварией. Ера прыгнул с холма, вооруженный планером, но тут же упал на землю с обломками крыльев. Однако его эмоциональное возбуждение было так велико, что он, невзирая на печальную действительность, уже сидя на земле, лихо воскликнул: «Ура, лечу!» Дружный смех зрителей был ему ответом…»
3 января 1935 года на встрече писателей с мастерами советского планеризма и парашютного спорта сам Георгий Шенгели так вспоминал об этом случае: «В 1913 году на планере собственной конструкции я совершил свой первый полет там, где вы совершили свою посадку. Я слетел с холмика вышиной в этот балкон и, пролетев не менее 50 сантиметров, торжественно воскликнул – «ура»! Вот уже в течение 20 лет этим меня дразнят мои товарищи. На втором полете планер сломался, и я построил биплан со стабилизатором сзади, с висеньем на локтях, сделал 7 взлетов длиной до 30 метров. Это даже было сфотографировано, причем снимок осторожно обрезали снизу, чтобы не было видно земли…»
А еще в 1916 году им было написано замечательное стихотворение «Полет», которое он тогда же читал на большом поэтическом вечере в зале петроградской городской Думы, где он выступал тогда вместе с Игорем Северяниным:
На гладкой мартовской полянке,
Где первые так нежны мхи,
Я выстрогал прямые планки
Из мягкой кремовой ольхи.
Оклеил шелком, руль наставил
И в голубую высоту
Аэропланом их направил,
Легко дрожащим на лету.
И тонкая в руке бечевка
Виолончельною струной
Поет отточенно и ловко,
Впивая ветер молодой.
И упоенный этой дрожью,
Впитав ее отрадный мед,
Потом иду по бездорожью,
Как будто совершив полет.
В те годы Шенгели жил на Мещанской улице, которая сегодня называется Самойленко; с 1826 года на ней находился Керченский музей древностей, который давал юному Георгию немалую долю вдохновения и знаний. В своем неоконченном романе «Жизнь Адрика Мелиссино» он потом написал:
«Необычайно сладкое и странное чувство он испытал, когда они подошли к великолепной «гидрии». На подставке стояла ваза, почти такой величины, как Адрик, вся черная, блестящая, в равномерных рубчиках, бежавших от горла, огибавших бока и опускавшихся к подставке. Она была совершенно простая, без всяких украшений, и – непонятно чем и почему – была необыкновенно прекрасна. На одной из ее ручек были вытиснуты какие-то буквы. Слав Славич сказал, что это – имя гончара, который ее сделал, и что звали его «Эвний», вероятно, сокращенное от «Евгений». Адрик прикоснулся к вазе, ощутил ее холодок, и сладкий холодок пробежал у него по позвоночнику. Эвний! Он жил две с половиной тысячи лет назад, он сделал эту прекрасную вазу, – и вот имя его звучит, а его вазой любуются! Он, Адрик, точно пожал руку этому древнему Эвнию, благодаря его за созданную им красоту! Сделает ли он, Адрик, что-либо такое, чтобы через две тысячи лет вспоминали его имя? Адрик не мог бы сказать, что он чувствует, но никогда у него не было такого странного, сладкого, пронизывающего чувства. Вечность!..»
Через два с лишним десятилетия Георгий напишет стихотворение «Поэту», в котором опять всплывет эта запавшая ему в душу удивительная ваза:
Помнишь день, когда амфо́ры древней
Ты впервые тронул стройный бок,
И гончар, вовек безвестный Эвний,
В пальцы вдунул ветерок?..
В этом году Шенгели съездил с Сергеем Векшинским в Батум и обратно, потом еще побывал в Феодосии, а затем поселился жить в большом доме у Векшинских.
Осенью 1913 года Георгий познакомился с приехавшими в Керчь на «олимпиаду футуризма» поэтами И. Северяниным, Д. Бурлюком, В. Баяном и В. Маяковским, к которым он пришел на встречу в гостиницу «Приморская». О том, как все это произошло, через очень много лет описал сам Шенгели:
«Я – гимназист старшего класса, через полгода – студент! Я пишу стихи. Их многие пишут: Юра Брженчковский, Федя Мишинов, Женя Сирин, Женечка Массино. Но я один – футурист.
Раннее утро; я спешу в гимназию. По главной улице – вереница извозчиков: прибыл утренний поезд. В одном из фаэтонов, – вижу мельком – какие-то бритые джентльмены, фаэтон поворачивает налево за угол: едут в “Приморскую” – лучшую гостиницу городка.
Проходит три часа, закончены уроки, наступает “большая перемена”: час досуга. Позавтракав в гимназическом буфете, где за семь копеек дают весьма приличный бифштекс, я устремляюсь на бульвар, надеясь повстречать хорошенькую гимназисточку и эпатировать ее чем-нибудь. На углу афишная витрина. Я бегло гляжу и вдруг застываю:
Дальше – всякие “занятности” – оглушительные тезисы докладов и пр.; цены местам…
Я читаю и перечитываю – “Игорь Северянин”!
Я уже с жадностью проглотил “Громокипящий кубок”, половину запомнив наизусть (память у меня “клинописная”); я чуть не наизусть знаю фельетон Чуковского о Северянине (в 1943 г. я удивил Корнея Ивановича, сказав ему несколько фраз из этого фельетона).
“Владимир Маяковский”! Это имя я уже не раз встречал в “Журнале для всех” под непонравившимися мне стихами, которые, впрочем, я тоже помню наизусть.
“Давид Бурлюк”! Это имя встречал я: да! Он ходил с раскрашенным лицом…
“Вадим Баян”?.. Но мне нравится и то, что он – Вадим, и то, что – Баян, и то, что он будет читать “Лирионетты и баркароллы”.
Пойду, пойду на “олимпиаду”! Хотя… гимназистам, верно, не позволят. Ну, конечно, в штатском проберусь на галерку; “Араб” (гимназический педель) туда не пойдет; если пойдет, так Герман (милейший и кротчайший Герман Готфридович Беме), а это – свой человек. Пойду!
И вдруг меня осеняет прозрение: да ведь те бритые джентльмены, проскользнувшие мимо моего рассеянного взора в “Приморскую”, и есть, несомненно, они – Северянин, Бурлюк, Маяковский, Баян!
И я мгновенно принимаю великое решение.
Гимназия – к черту! Гимназисточка – по боку! Я сейчас иду в “Приморскую”! Пойду к ним!.. Я прочту им… мои стихи!..
У меня колотится сердце; я мчусь по липкому осеннему тротуару.
“Приморская”. Вхожу в вестибюль. На черной доске постояльцев мелом написаны фамилии: Дурацевич… Попандопуло… Бурлук… Номер такой-то.
Иду по красной дорожке пустынного коридора. Вот этот номер. У меня холодеют пальцы. А вдруг они меня не примут? А если они скажут, что мои стихи плохи, что я бездарность? Уйти?
Нет! – и я сильно стучу в дверь. За дверью слышна какая-то суета, движение. И только через полминуты резкий и повелительный голос произносит:
– Войдите.
Вхожу. Обыкновенный “роскошный номер” провинциальной гостиницы. Справа диванчик, перед ним стол, окруженный стульями, слева ширмы. На диванчике сидит человек в коричневой куртке с бронзовыми плоскими пуговицами, украшенными изображением якоря. У человека чрезвычайно длинное лицо. По ту сторону стола, лицом ко мне, сидит другой, в широкополой шляпе, надвинутой на лоб. У него тяжелая челюсть, нахмуренные брови, темные, желчные воловьи глаза. Он сидит, отодвинув стул и погрузив на стол ноги; между огромными подошвами – тарелка с остатками яичницы. Третий человек стоит посреди комнаты. На нем расстегнутый сюртук, бархатный зеленый с рельефными разводами жилет. У него круглая голова, оттопыренная губа. Он смотрит на меня в лорнет. Глаза у него колюче сверкают. Четвертого в комнате нет.
Я лепечу:
– Могу я видеть г-на Бурлюка?
Человек с лорнетом коротко взлаивает:
– Я.
Называюсь, прошу извинить беспокойство, излагаю – зачем пришел.
Человек с лорнетом прячет его в карман жилета и протягивает мне руку:
– Очень приятно. Знакомьтесь.
Я поворачиваюсь к длиннолицему человеку. Он деревянно протягивает мне узкую руку и чеканит:
– Игорь Северянин.
…Так вот он какой!..
Человек в шляпе убирает пятки со стола и забирает мою руку в мягкую теплую ладонь и басом рокочет:
– Владимир Маяковский.
…Так вот он какой!..
Из-за ширмы выходит четвертый: голубоглазый, востроносый, с пышными вьющимися волосами. На нем щегольская визитка, бриллиантовые запонки в манжетах, жемчужины в крахмальном пластроне, из-под жилетки впродоль выреза голубеет муаровая лента.
– Вадим Баян, – говорит он приветливо, подавая мне вялую, бескостную руку.
…Так вот он какой!..
Бурлюк сразу меняет тон, становится простым, усаживает меня к столу, звонит, заказывает кофе, не внемля моим отчаянным клятвам в том, что я ничего не хочу, – и засыпает меня расспросами о городе, о публике, о молодежи и ее читательских интересах. При нем все безмолвствуют.
Наконец, Северянин прерывает молчание; видно, ему наскучила эта беседа:
– Прочтите стихи.
Я читаю.
Фурора они не производят, но я чувствую, что меня слушают без иронии, что меня – слушают.
– Прочтите еще.
Читаю. И еще.
Северянин говорит:
– Вы правильно читаете, только нужно еще больше петь.
Я читал, как все поэты, слегка нараспев, что в гимназии всегда вызывало насмешки, а преподавателя словесности просто било по нервам, и он никогда меня не выпускал читать на гимназических вечерах.
Маяковский сказал, перекатывая сигару из одного угла рта в другой:
– Есть места. Вот у Вас “голос, хриплый как тюремная дверь”; это ничего; это образ.
Бурлюк сказал мне несколько любезных фраз, меня совершенно опьянивших, и затем стал разбирать прочитанное. И я впервые увидел “профессиональный”, “технологический” подход к стихам. Как ни поверхностны, как ни случайны были его высказывания, я в этот миг понял раз и навсегда, что стихи прежде всего – искусство и что о них можно говорить без упоминания об “искренности”, “задушевности”, “взволнованности” и прочем подобном.
Жизнь определилась в этот миг. Я уверовал, что я поэт и что я прав, любя слово, ритм и звук…
Два-три замечания в связи с бурлюковским анализом обронили и другие. Маяковский отметил банальную рифму; Северянину понравились “часы, где вместо стрелок ползают серебряные черепахи”, – и его замечание не было только любезностью, так как года через четыре эти черепахи появились у него:
Как серебряные черепахи
В полдень проползают серны…
Милый мой Игорь! Он не похищал у меня образа, он просто забыл, что запомнил его, и нашел у себя как свой.
Совершенно влюбленный в моих новых друзей, я стал откланиваться. И вдруг Бурлюк сказал мне, что сегодня они идут в театр, уже заказали ложу и будут рады меня в ней видеть.
Значит… значит, я действительно им (или хотя бы ему) понравился.
Я летел по городу. В гимназию идти не стоило: кончался пятый урок. Я вскочил на извозчика и помчал в театр покупать билет на сегодняшний спектакль. Абсолютно не помню, какая шла пьеса!..
До вечера я был как в бреду. То я садился писать стихи, – ничего не лезло; то в десятый раз звонил моему другу Коле Петрову, с которым мы составляли “левоэстетическую” фракцию класса, умоляя его не опоздать в театр (мне смерть как хотелось познакомить его с поэтами), – так что он, в конце концов, назвал меня эпилептиком и послал к черту.
И вот я в театре. Узкие коридоры наполняются публикой. Вдруг движение, говор восклицания, смех, – и через публику протискиваются поэты. Баян в цилиндре, из-под которого его кудри выбиваются как из-под кучерской шляпы, Маяковский в широкополом мятом сомбреро, Северянин в меховой шапке, Бурлюк в банальном котелке. Но лицо у него (очень напряженное, с невидящими глазами) – расписано. Синим гримировальным карандашом начерчены на щеках и крыльях носа какие-то треугольники и животное, похожее на пряничного конька. Не замечая меня, они проходят в свою ложу…»
В этом же 1914 году Георгий Шенгели благополучно закончил Керченскую Александрийскую гимназию, что несколько позже отразилось в его большой оде, посвященной этому событию:
Quousque tandem… Uns… Zusammen…
Бойль – Мариотт… Июнь, жара…
Но вот последний сдан экзамен, —
И на свободе мы! Ура!
Как вдохновенно и крылато
Слетала явью к нам мечта:
Пред гордым флагом аттестата
Жизнь распахнула ворота.
Все можно: трубку вдвинуть в зубы,
Сбить на затылок синий блин
И обходить ночные клубы
С повадкой опытных мужчин.
Или немедленно в тетради
Начать по химии трактат
И с тихой гордостью во взгляде
Встречать курсисток робкий взгляд.
Или в собранье гарнизонном,
Под локоть комендантшу взяв,
Ей овевать лицо озоном
Ревнивых чувств и дерзких прав… – и так далее
на протяжении еще 13 строф.
А через три недели после окончания гимназии бывшие одноклассники устроили в Английском клубе города благотворительный вечер, и первым номером программы, как о том написал «Керченский курьер», было выступление Георгия Шенгели, который читал там свои поэтические произведения. Другой хроникер в газете «Блестки» написал: «Любители всего оригинального, вплоть до красивой бессмыслицы, послушали бы юного Шенгели – вдохновенного Бурлюком».
Вскоре после этого Георгий издал дебютную книгу своих стихов «Розы с кладбища», отмеченную сильным влиянием творчества Игоря Северянина и украшенную посвящением Евгении Добровой, к которой он пробовал свататься, но получил отказ. Похоже, что его распирала горевшая в нем молодая сила, и это толкало его на раннюю женитьбу.
Тогда же Шенгели выступил со своей первой публичной лекцией «Символизм и футуризм», в которой он говорил следующее:
«Произведения искусства не есть нечто обособленное от жизни. В них отражается дух эпохи.
Иногда гениальный художник создает такие произведения, которые не бывают поняты современниками, но которыми восхищаются будущие поколения. Это значит, что гений художника предвосхитил грядущую эпоху…
Главный принцип футуризма заключается в следующем: цель и смысл жизни заключается в утверждении нашего «я» – целиком… Повсюду, во всех предметах и явлениях мы видим ее, чарующую красоту… Мы поем наслаждение, мы поем страдание, поем чайные розы тела девушки, мы поем черно-красные опухлости Антонова огня, мы поем любовь, мы поем смерть…»
На следующий день Шенгели в «Керченском курьере» прочитал: «Кто такой Георгий Шенгели? Изволите спросить меня, читатель. Георгий Шенгели – молодой человек, только что окончивший гимназию.
И хотя он «только что», но, тем не менее, уже имеет свое – поэтическое «кредо».
Не дожидаясь чужих признаний, Георгий Шенгели стал в позу и сказал:
– Я поэт.
А посему Георгий Шенгели и читает лекцию – о футуризме…»
Тем же летом 1914 года Георгий поступил на юридический факультет Московского университета; несколько месяцев жил в Москве, гостил на даче у Давида Бурлюка на хуторе под Москвой. На московских бульварах несколько раз встречался с Маяковским – но «отношения не налаживались», встречи неизменно кончались обоюдной пикировкой. Да и сама московская жизнь на этот раз не задалась. Поэтому поздней осенью этого года Георгий Шенгели перевелся «по прошению» из Московского университета в Харьковский, где служил брат его рано умершей матери, его дядя – профессор химии Владимир Андреевич Дыбский, чья дочь Юлия вскоре станет первой женой Георгия. Эта молодая, красивая женщина с грустным бледным лицом и удивительными зелеными глазами была одновременно и его жена, и двоюродная сестра. Да еще и служила корректором.
Имя Георгия Шенгели надолго запомнилось харьковским литераторам периода 1914–1922 годов, когда по его приглашению в город приезжали Алексей Толстой, Максимилиан Волошин, Анна Ахматова, Осип Мандельштам. Несмотря на свою молодость, Шенгели пользовался неподдельным авторитетом в кругах творческой интеллигенции Москвы и Петрограда. Его уважали как подлинного поэта, блестящего переводчика и одного из лучших теоретиков стиха своего времени. Не случайно Максимилиан Волошин в одном из своих писем писал о Шенгели: «Это самый серьезный из молодых крымских поэтов (керчанин) и очень видный теоретик стиха».
В Харькове в предреволюционный период Шенгели организовал литературно-художественный кружок, деятельность и структура которого послужили образцом для создания в начале 20-х годов первых украинских литературных объединений.
Одними из ближайших друзей и единомышленников Георгия стали с той поры Евгений Львович Ланн и Александра Владимировна Кривцова, известные переводчики английской классики. Их знакомство относится ко времени, когда в 1914 году Шенгели приехал в Харьков и поступил на юридический факультет университета. Тогда же в Харькове началась его литературная карьера: вышла небольшая книжечка стихотворений «Розы с кладбища». Он был увлечен французскими парнасцами, новейшими достижениями в поэтике западноевропейского стиха. Его университетом, как он сам позднее признавался, была Харьковская публичная библиотека, где он пропадал целые дни.
Вот как писали о начале своей дружбы с Георгием Шенгели его керченские друзья Евгений Ланн и Людмила Кривцова:
«Худой, стройный, с матовым, оливкового оттенка, точеным лицом, с глазами большими – не то бедуина, не то индийца – появился этот юноша в просторном читальном зале Харьковской общественной библиотеки. Раньше его никто здесь не видел, стало быть, он приехал недавно. И каждый раз, когда мы видели его там – а это было почти ежедневно – он уносил от стойки к своему столу кипы книг… Он не только читал, он что-то писал, а когда отрывался от тетрадки, смотрел куда-то в пространство, не мигая, сквозь стекла пенсне и, закрывая глаза, неслышно шевелил губами…
Вот таким мы увидели Георгия Шенгели и, как все завсегдатаи читального зала, не могли не задать себе вопрос – кто этот пришелец? Узнали мы его имя скоро, так же скоро узнали о том, что он поэт, студент юридического факультета Харьковского университета, и также скоро познакомились с ним – познакомились, чтобы до конца его недавно оборвавшейся жизни считать близким, родным человеком этого большого поэта нелегкой судьбы. Здесь, в Харькове, Шенгели и состоялся как поэт, хотя в своей судьбе не стал восприниматься как «харьковчанин». Он уже выступал вместе с Северяниным, и многие харьковские поэты, несмотря на его возраст, воспринимали его как мэтра. «Он был потрясающе красив в молодости! – говорил о нем в поздние годы поэт и переводчик Лев Минаевич Пеньковский. – Георгий был королем для всех нас… Читал он блистательно! Этот рокочущий баритон, он навевал поэтические эмоции, ласкал слух! Началом своего поэтического осознания я обязан ему».
Шел девятьсот четырнадцатый год. Первая мировая война уже началась. В Харькове не было литературных журналов, и харьковские газеты “Южный край” и “Утро” не очень нуждались в поэте, для которого в ту пору любовь к Верхарну и Эредиа была такой же насущной, как насущная нужда в куске хлеба…
Он был очень горд – Георгий Шенгели. Только много лет спустя, уже в Москве (куда мы и он переехали почти одновременно в начале 1922 года), мы узнали, что бывали в 14-м и 15-м году времена, когда Георгий Шенгели лежал круглые сутки у себя на лежанке в какой-то клетушке на Журавлевке в районе Технологического сада – лежал потому, что ему нечего было есть, а он знал, что в таком лежачем положении он сэкономит себе малую толику сил. А наши глаза, к сожалению, не были зоркими. Мы не задавали себе вопроса, на какие лишения должен был обречь себя Георгий, чтобы издать первую “толстую” книгу стихов. Эта книга называлась “Гонг”, на титуле красовалось название издательства “L’oiseau bleu”, но этой Синей Птицей был сам поэт Георгий Шенгели…
(Это для друзей он старался всегда найти что-нибудь полезное, отрывая его от самого себя, чтобы помочь им, а сам старался преодолеть любые проблемы, даже голод, побеждая его терпением и “отлеживанием”. Душа оказывается сильнее желудка…)
…И так же, закрыв глаза, мы видим его сегодня на эстраде читального зала Харьковской библиотеки (зал по вечерам превращался из читального зала в концертный), поэта с только что изданным “Гонгом”, легко и удобно лежащим в раскрытой его ладони. Поэт облачен в узкий застегнутый черный сюртук – он куплен по случаю и, конечно, по дешевке, но поэту повезло – лучший портной не сумел бы скроить этот сюртук более мастерски. В этом одеянии поэт походит на молодого диссентерского (т. е. – нонконформиста или протестанта, находившихся в оппозиции к английской церкви, как поясняет Ольга Резниченко) пастора. Мы слышим его грудной, баритональный, глубокий голос. Поэт обладает абсолютным ритмическим стихотворным слухом – это врожденное его свойство, и мы слышим, как Георгий Шенгели с эстрады читает стихи из “Гонга”: “Читать испанские имброглио / В громадном зале библиотеки, / Когда мерцающе сиренево / В углах прольются фонари…” Это – стихи о читальном зале той библиотеки, где мы впервые увидели нашего друга, большого русского поэта Георгия Шенгели».
Вспоминая спустя прошедшие годы то далекое время, Георгий Шенгели писал: «Мои интересы лежали в области литературы, поэтики, языкознания, истории, истории культуры, словом – в среде филологической, и здесь моим “университетом” была Харьковская публичная библиотека, где я пропадал целые дни».
К 1916 году вокруг Георгия Шенгели образуется постоянный круг людей, пишущих стихи и желающих заниматься их изучением. В этом же году они выпускают альманах «Сириус», а в 1917 году издают ежемесячник «Ипокрена». В 1918 году – «Камена», а в 1919-м – журнал «Творчество». Основную задачу создатели этих журналов формулируют как «собирание искусства, отстаивание его от всякого рода посягательств, горячая проповедь искусства. Отметание всего случайного и временного, шаблонного, борьба с застывшими формами». Примеры таких произведений и демонстрировал в этих альманахах и при устных выступлениях Георгий Шенгели, который с каждым днем все активнее овладевал поэтическим творчеством:
Трагические эхо Эльсинора!
И до меня домчался ваш раскат.
Бессонница. И слышу, как звучат
Преступные шаги вдоль коридора.
И слышу заглушенный лязг запора:
Там спящему вливают в ухо яд!
Вскочить! Бежать! Но мускулы молчат.
И в сердце боль тупеет слишком скоро.
Я не боец. Я мерзостно умен.
Не по руке мне хищный эспадрон,
Не по груди мне смелая кираса.
Но упивайтесь кровью поскорей:
Уже гремят у брошенных дверей
Железные ботфорты Фортинбраса.
Журнал «Камена» выходил под редакцией П. Краснова и Г. Шенгели, причем одновременно в Москве, Петрограде и Харькове. Это, скорее всего, и определило состав авторов издания. Здесь были опубликованы стихи М. Волошина, Г. Иванова, Г. Шенгели, Р. Ивнева, П. Краснова, О. Мандельштама, а также неизданные ранее произведения Фета и Щербины с примечаниями И. Айзенштока и две солидные литературоведческие статьи («Искусство и ритм» А. Я. Денисова и «Морфология русского шестистопного ямба» Г. Шенгели). Издательство «Камена» успело выпустить несколько поэтических сборников, в их числе – «Демоны глухонемые» М. Волошина.
Наиболее интересен и в содержательном, и в оформительском смысле журнал «Творчество», выходивший с перерывами в 1918–1921 годах под эгидой харьковского «Художественного цеха» (организации художников, поэтов, артистов и близких им искусствоведов). Редактировал его художник И. Рабинович, впоследствии, в 50–60-е – главный художник московского театра им. Е. Вахтангова. «Творчество» четко ориентировалось на Москву и Петроград (в разделе «Хроника» тщательно отслеживались события культурной жизни обеих столиц). Литературная часть содержала стихи А. Блока, Н. Гумилева, А. Ахматовой, Ф. Сологуба, М. Кузмина, О. Мандельштама, К. Бальмонта, Г. Шенгели, рассказы М. Осоргина, А. Ремизова, пьесу Ромена Роллана «Дантон» и другие.
В альманахи и журналы, связанные с Художественным Цехом – «Парус», «Художественная мысль» и «Художественная жизнь», – помещают свои произведения М. Волошин, В. Нарбут, О. Мандельштам и А. Ахматова. Из старшего поколения писателей в этих изданиях печатались Ф. Сологуб, А. Белый, А. Блок и А. Ремизов. Свои стихи и прозу издавали также малоизвестные, не включенные в собрания сочинений произведения писателей более ранней поры…
2 мая 1919 года Шенгели послал В. Я. Брюсову письмо с предложением принять участие в рассказываемых ему ранее харьковских журналах:
«Валерий Яковлевич. Издаваемый Харьковским Цехом журнал, о котором я говорил Вам в январе, в настоящее время достиг тиража в 7000 экз. и увеличивает его. В силу этого журнал сей, как единственный в России свободный литературно-художественный орган, приобретает особенное значение. Цех принимает все меры к его улучшению и обогащению. Редактором ныне приглашен М. Волошин, приезжающий в Харьков. Сотрудничают в журнале, между пр., Ахматова, Гиппиус, Бальмонт, В. Иванов, А. Белый, Ремизов, С. А. Венгеров, Гершензон, Горнфельд. Обращаюсь к Вам от имени редакции, членом которой я состою, с просьбою реализовать Ваше январское обещание сотрудничества и прислать 1) стихи, 2) критический очерк всех литературных новинок сезона, 3) статью о современной поэзии армян, 4) небольшой, размером 30–40 000 печ. знаков рассказ или более-менее законченный отрывок романа, повести. Журнал платит: за строчку стихов 5 р., за статьи – 3 коп. печ. знак, за художественную прозу – 5 к. печ. зн. Очень просим Вас, не откладывая, известить о согласии. По получении извещения аванс будет немедленно переведен. Адрес: Харьков, ул. Либкнехта, 14, Худож. Цех, редакция журн. «Творчество». Искренне Вас уважающий Георгий Шенгели. Если гонорарные условия покажутся Вам неподходящими, не откажите указать желаемые».
Харьков этого времени был частью стремительно менявшегося на глазах мира, одна власть сменяла другую, и все между собой непрерывно воевали: УНРовцы, деникинцы, немцы, белополяки, гетьманцы, Директория – пока всех их, в конце концов, не одолели большевики, основательно закрепившись в Харькове в конце 1919 года.
В те же дни было объявлено о закрытии Кружка и роспуске организации. Ненадолго его жизнь возобновилась в начале 1922 года, когда Шенгели назначили председателем Харьковского Губернского литературного комитета. Но в этом же году Валерий Брюсов пригласил его переехать в Москву, чтобы читать в Литературном институте курс энциклопедии стиха.
Ну, а до этого, в 1914 году, Шенгели выпустил свою первую книгу стихов «Розы с кладбища», а в 1915-м – два сборника стихов: «Зеркала потускневшие» и «Лебеди закатные». Через год, в 1916-м, у него вышла новая книга «Гонг», которая была отмечена в петербургской газете «Речь», где она удостоилась пространной и лестной рецензии известного тогда критика Ю. Айхенвальда, который отметил, что автор «тщательно выписывает образ».
Георгий Шенгели подробно вспоминает о событиях того года: «Весною 16-го года вышел мой “Гонг” – довольно слабая, хотя и звонкая книга, имевшая неожиданно значительный успех. Подвал Айхенвальда в “Речи” сразу сделал меня “знаменитым”. Выступая со стихами из “Гонга” в Петербурге на одном из вечеров Северянина в громадном, до отказу набитом зале Городской Думы, я вызвал овацию, бисировал четырнадцать раз; в антракте несколько сот экземпляров “Гонга” были раскуплены (в фойе стоял столик с книгами Северянина и моими), и в “артистическую” ломились юноши и девушки с белыми томиками в руках, прося автографов. Мне было только двадцать два года… Я послал один экземпляр “Гонга” Брюсову с почтительной, но сдержанной надписью».
Пожалуй, подтверждением того, какими полными молодых надежд и нерастраченной творческой энергии были для Шенгели годы его становления в Харькове, и в частности, годы написания и издания «Гонга», являются его слова в одном из писем к Марии Шкапской, в котором он пишет: «…Любая мелочь, – прохожий, вызолотивший вечером, зажигая спичку, свое лицо; зеркальный шкаф, несомый по улице; футлярчик для мундштука, похожий на сафьяновый гроб, – все было источником лирического переживания, все рождало стихотворение. В первом моем томе, в “Гонге” – 80 стихотворений, написанных в 2 года, но это не более 1/5 всего, что за эти годы написалось…»
Его ранние стихи находились в значительной степени под влиянием пленившего его своей музыкальностью «учителя» – Игоря Северянина, который, по словам Шенгели, «обладал самым демоническим умом, какой я только встречал», но позднее Георгий перешел к более аскетической стилистике, демонстрируя отточенную технику и литературную эрудицию. Что же касается Северянина, то, по свидетельству Шенгели, он никогда (за редкими исключениями) ни с кем не говорил серьезно: «Ему доставляло удовольствие пороть перед Венгеровым чушь и видеть, как тот корежится “от стыда за человека”. Игорь каждого видел насквозь, непостижимым чутьем, толстовской хваткой проникал в душу, и всегда чувствовал себя умнее собеседника, – но это ощущение неуклонно сопрягалось в нем с чувством презрения. Вы спросите, – где гарантия, что и меня не рядил он в дураки? Голову на отсечение не дам…»
В 1916–1917 годах Шенгели был приглашен Игорем Северяниным в турне по городам России, Украины и Кавказа с предложением читать в каждом городе о нем доклады, а также читать свои собственные стихи. В одном из своих стихотворений Северянин так написал об этих выступлениях в своем сборнике «Соловей» под названием «Георгий Шенгели»:
Ты, кто в плаще и в шляпе мягкой,
Вставай за дирижерский пульт!
Я славлю культ помпезный Вакха,
Ты – Аполлона строгий культ!
В твоем оркестре мало скрипок:
В нем все корнеты-а-пистон.
Ищи средь нотных белых кипок
Тетрадь, где – смерть и цепий стон!
Ведь так ли, и́наче (ина́че?..)
Контрастней раков и стрекоз,
Сойдемся мы в одной задаче:
Познать непознанный наркоз…
Ты, завсегдатай мудрых келий,
Поющий смерть, и я, моряк,
Пребудем в дружбе: нам, Шенгели,
Сужден везде один маяк.
Предложенная Северяниным поездка длилась в течение всего 1916-го и первой половины 1917 года, в нее входили города Петроград, Москва, Одесса, Кутаис, Тифлис, Баку, Армавир, Екатеринодар, Новороссийск, Ростов, Таганрог, Харьков, Батуми… Проходивший в каждом из этих городов поэзоконцерт (или поэзовечер) открывался докладом Шенгели о творчестве Северянина – «Поэт вселенчества», после чего еще читался доклад о каком-нибудь интересном зарубежном поэте, вроде Верхарна, затем выступали кто-то из артистов, а в завершение вечера читал свои поэзы сам Игорь Северянин.
Вот как описывала один из таких поэзоконцертов газета «Тифлисский листок» в статье «1-й вечер Игоря Северянина» в № 23 за 28 января 1917 года:
«Вечер открылся чтением лекции г. Шенгели, ознакомившим обширную аудиторию с разными течениями современной русской поэзии и с основными мотивами творчества Игоря Северянина, ярким апологетом которого является лектор.
Как содержание лекции, так и изложение ее вполне положительно, красиво, обстоятельно. Единственным дефектом этой лекции надо считать некоторую тенденцию г. Шенгели возвысить своего любимца, Игоря Северянина, не только за счет современных писателей, как, например, Валерия Брюсова, на которого он поминутно замахивался, но и за счет Некрасова. Это, по нашему мнению, не этично, тем более, что г. Шенгели разъезжает с г. Северяниным вместе и в данном случае как бы говорят в один голос…
Затем г. Шенгели прочел свои стихи, из которых особенно хороши: “В аметистовом сумраке”, “Мне было пять лет” и много других на бесконечные “бис” публики.
Стихи г. Шенгели красивы, поэтичны, полны чувств и создают желанное автору настроение. Поэта наградили аплодисментами и цветами. Кроме того, г. Шенгели, кстати сказать, прекрасный декламатор, прочел с большим подъемом чувств несколько прекрасных стихотворений Игоря Северянина».
В вечернем выпуске харьковской газеты «Южный край» за 18 февраля 1917 года статья без подписи называлась «Поэзовечер Игоря Северянина», и в ней гласилось:
«Свой доклад г. Шенгели начал развенчанием символизма в русской литературе, признав полную его исчерпанность и в то же время невыполненность намеченных представителями символизма задач и целей. В подтверждение своего взгляда г. Шенгели приводил цитаты из произведений символистов.
Вторая часть доклада была посвящена новому, намечавшемуся в современной литературе течению, в котором г. Шенгели видит залог будущего “пушкинства”. Представителем этого нарождающегося течения г. Шенгели привел Волошина и др., причем очень выразительно прочел одно из лучших стихотворений г. Волошина».
На следующий день в той же газете появилась еще одна статья, на этот раз под фамилией А. Станкевича – «Поэзовечер Игоря Северянина»:
«…Далее прочел несколько своих стихотворений из сборника “Гонг” Шенгели – выбор и исполнение были удачны. И, наконец, наступил центральный момент и появился сам Игорь Северянин, встреченный бурными аплодисментами…»
По мнению всех посетителей концертов (то есть – «поэзоконцертов»), Шенгели выделялся и обращал на себя всеобщее внимание: красавец, похожий на бедуина, экзотичный, точеное лицо, пенсне, смуглая кожа, громадные глаза, устремлявшиеся поверх собеседника, когда ему на ум приходила особенно удачная строчка…
Будучи в Москве, он решил воспользоваться случаем и познакомиться со своим любимым поэтом Валерием Брюсовым. Вот как он сам описывает эту памятную для него встречу:
«Брюсов встретил меня у двери, учтиво поклонившись, сказал банальную любезность, – вроде того, что он рад со мной познакомиться, – и усадил в кресло у письменного стола, маленького и невыразительного. На столе с краю лежал фарфоровый кирпичик для беглых записей и стояла стеклянная коробочка с тоненькими папиросками, которыми Брюсов тут же стал меня угощать.
Брюсов оказался выше ростом, чем я думал, и удивил меня глухим голосом, в котором было нечто от орлиного клекота, и гортанным произношением звука “р”. Мне казалось, что у него должен быть металлический голос и безупречная дикция.
Я жадно вглядывался в великого поэта. Да, действительно: “веки, опаленные огнем глаз”, кошачий лоб и крутые скулы: некрасив, но прекрасен. Суровое лицо и вдруг – добрая, даже робкая улыбка. Пристальный взгляд огромных, черных, странно прорезанных глаз – и тут же вскид мечтательного взора к потолку, чтобы поймать там цитату или умную формулу.
Короткими вопросами Брюсов заставил меня “заполнить” анкету: кто я, откуда, где рос, где учусь. Узнав, что я студент-юрист, Брюсов одобрил это “несоответствие”.
– Филология необходима поэту, но филологический факультет ему вреден. Там ему навязывают истины, вместо того чтобы их выращивать в его душе. Но лучше было бы, если бы вы учились на математическом.
Но я не успел порадоваться его одобрению. Брюсов спросил:
– А почему вы избрали юридический?
Увы! Я его избрал по соображениям плоско-житейским: юридический диплом открывает несравненно больше практических возможностей, чем другие: судейские должности, любое чиновничество, адвокатура; а с филологическим или же математическим – иди в учителя. Я с полной откровенностью это и сформулировал. Брюсов поглядел на меня и немедленно “подсек”, хмуро спросив:
– Значит, вас интересовала не наука, а карьера?
Я попытался как-то оправдаться, но не очень удачно.
Разговор коснулся моего “Гонга”.
– Вы талантливы, – сказал Брюсов.
Я окунулся в розовое масло.
– Но ваш “Гонг” еще не книга. Там слишком много чужих голосов. Стихи – интересные, звучные, но все это – бенгальский огонь, пиротехника.
Я окунулся в оцет.
– Вы спешите. Переживание вы заменяете воображением.
И он поразил меня, безошибочно продекламировав несколько строк из разных стихотворений, показывая, как я «спешу». Ведь книжку я ему послал полгода назад, и он не мог знать, что я к нему приду. Что за божественная память!
Брюсов продолжал меня “подминать”.
– Я видел афишу: завтра вы читаете доклад о Верхарне. Вы всего Верхарна читали?
Я признался, что некоторых второстепенных книг Верхарна из фландрийской серии не читал, но зная неплохо основные его книги и основную литературу о нем, считаю себя вправе прочитать коротенький реферат. (Доклад мой должен был состояться на вечере Северянина и был рассчитан на 20–25 минут.)
– Что же вы говорите о Верхарне?
Я стал излагать тезисы. Среди них было утверждение о том, что Верхарн – великий мастер стиха, слова и образа. Брюсов меня прервал:
– Неверно! Верхарн был великим поэтом, но довольно слабым мастером.
Настала пора и мне перейти в наступление и щегольнуть памятью.
– В вашем предисловии к переводам Верхарна вы, Валерий Яковлевич, говорите диаметрально противоположное. А именно… – И я наизусть процитировал соответственный абзац. Брюсов внимательно на меня поглядел, пружинно встал, вытащил с полки томик своих переводов, развернул и убедился, что я цитирую точно.
– Я, собственно, не то здесь хотел сказать: я имел в виду, что Верхарн только в лучших своих вещах стоит на высокой ступени мастерства, а не вообще, – пояснил он.
– Не знаю, что вы имели в виду, но сказали вы то, что сказали, – торжествовал я свою сладчайшую победу, – и я вправе повторять суждения столь авторитетного автора, как вы.
Брюсов переменил разговор. Поговорили еще о разных поэтах, о природе русского гекзаметра, – причем тут я опять заспорил, и не без успеха, – и я откланялся.
Провожая меня в прихожую и помогая, как я ни увертывался, надеть мою студенческую шинель, Брюсов нанес мне еще удар:
– А почему, – спросил он, – на вашем “Гонге” значится “Петроград”, тогда как печаталась книга в Харькове?
Брюсов был совершенно прав, обличая мое маленькое и невинное, но все-таки жульничество. Дело в том, что книги, изданные в провинции, встречались публикою и критикою недоверчиво и раскупались плохо, – и меценат, снабдивший меня деньгами на издание “Гонга”, присоветовал напечатать обязательное указание адреса типографии мельчайшим шрифтом в конце книги, а на титуле и обложке тиснуть “Петроград” и название несуществующего издательства “L’oiseau bleu” (“Синяя птица”). Так делали многие, и так, конечно, делать не следовало. Но Брюсов все-таки был жесток. Я разозлился и ответил дерзостью:
– Потому же, почему ваши “Семь цветов радуги” означены: “Книгоиздательство Некрасова, Москва”, а печатались в Ярославле.
Это было точно, но здесь заключался софизм: издательство действительно существовало и действительно в Москве.
Брюсов улыбнулся, как боец, умеющий оценить удачный удар противника, и сказал:
– А ведь верно!
Мы простились, и я унес в ненастную московскую ночь смешанное чувство встревоженности, умиления и досады, – и твердо решил издать мою злую брошюру о «двух “Памятниках”».
Такова была моя первая встреча с поэтом, которого я до сих пор читаю и перечитываю, ставя на первое место за Пушкиным…
Через несколько месяцев Северянин и я очутились в Баку; там должны были состояться два или три наших вечера. Из газеты мы узнали, что в Баку находится и Брюсов, читающий там публичные лекции по древней истории Востока. Оказалось, что Брюсов живет в той же гостинице, где остановились и мы.
Северянин был с Брюсовым в ссоре: Брюсов напечатал о нем весьма разгромную статью (и, бесспорно, во многих отношениях несправедливую), а Северянин ответил стихотворением, где были такие строки:
Вы, чьи стихи – как бронзольвы,
Вы поступаете бесславно;
Валерий Яковлевич! Вы —
Завистник, выраженный явно…
Северянин был также не прав. Брюсовская “агрессия” была продиктована не завистью, а другим, более спорным и благородным, хотя тоже злым чувством. Брюсов одним из первых оценил блестящий талант Игоря, поехал в Петербург знакомиться с ним (это было еще до “Громокипящего кубка”, в 1911 году), писал ему письма (я сам их видел у Северянина), где говорил: “Вы и ваша группа сейчас – самые молодые в России; прошу считать меня среди вас” (цитирую по памяти, но за смысл ручаюсь). Но тот путь, которым двинулся северянинский “эгофутуризм”, был избран не по брюсовскому компасу, – и Брюсов понял, что его любовь была “ошибкой”. У Брюсова есть строки, обращенные к Белому:
Я верил многим, я проклял многое
И мстил неверным в свой час кинжалом.
И брюсовская статья была именно этой “местью неверным”.
Раздражение Северянина, вызванное брюсовской статьею, давно улеглось, резкость его ответа, написанного сгоряча, стала казаться чрезмерною, и Северянин пожелал помириться с Брюсовым. Но, будучи болезненно-гордым и самолюбивым человеком, больше всего опасаясь подозрений в робости или в заискивании, он боялся сделать первый шаг – и возложил на меня дипломатическое поручение: пойти к Брюсову, разведать его нынешнее отношение к Игорю и постараться устроить “случайную встречу”, при которой они могли бы объясниться.
Я узнал, в каком нумере живет Брюсов, и постучался к нему. Брюсов сидел один, в своем неизменном сюртуке и мраморном высоком воротничке, левой рукой перелистывал какую-то книгу на армянском языке, а правой делал из нее выписки по-армянски же.
Меня он дружелюбно приветствовал, усадил и горячо заговорил о том, какой прекрасный поэт Саят-Нова. Воспользовавшись первой паузой, я приступил к выполнению моего поручения. Но я решил обойтись без дипломатии. Брюсов был слишком крупным человеком, чтобы его можно было оскорбить экивоками и намеками. Я сказал просто:
– Северянин хочет с вами объясниться и помириться, но ему страшно, что вы превратно поймете его решение. Я должен вас заманить куда-нибудь, где вы с ним встретитесь.
Брюсов улыбнулся своей доброй улыбкой и сказал:
– Какие глупости! Я охотно сам к нему пойду. Идемте.
Он пружинно поднялся, аккуратно убрал свою работу и, предводимый мною, прошел в нумер к Северянину. Северянин не ожидал столь быстрого успеха моей миссии. Побледнев, он встал навстречу Брюсову. Они обнялись. Я ретировался в свой нумер, не желая мешать объяснению.
Через час ко мне постучался официант и сказал, что меня просят в ресторан при гостинице. Я спустился.
В особой ложе ресторанного зала за накрытым столом сидели, оживленно и дружелюбно беседуя, Брюсов и Северянин, жена Северянина и Иоанна Матвеевна Брюсова, остроумная и насмешливая, которую я видел впервые и которой был тут же представлен. Меня приветствовали как «ангела мира», налили мне бокал шампанского (бутылки стояли в сторонке на стуле, стыдливо завешенном салфеткою: спиртные напитки были запрещены) и немедленно заставили читать стихи.
Амфитрионом этого маленького мира был какой-то безукоризненно одетый джентльмен восточного типа, оказавшийся местным меценатом, богачом Арутюновым (кажется, я не ошибся в фамилии). Он приехал к Северянину просить его посетить вечером устраиваемый Арутюновым банкет, где будут армянские писатели и вообще весь бакинский mond вплоть до адмирала, командующего каспийской флотилией. Покуда же, восхищенный встречей также и с Брюсовым, он устроил завтрак.
Читал стихи я, читал Северянин. Брюсов слушал внимательно, вскинув голову и недвижно уставив свои огромные глаза в какую-то точку в пространстве, изредка роняя слово одобрения рифме или ритмическому ходу. Сам читать свои стихи не пожелал, но, уступая общему натиску, прочел несколько переводов из Саят-Новы – к полному восторгу Арутюнова.
Однако миллионер вскоре был разочарован: во-первых, Брюсов категорически отказался быть на банкете, хотя Арутюнов предлагал прислать автомобиль и буквально умолял заехать хоть на четверть часа, во-вторых, когда завтрак окончился, Брюсов решительно воспротивился намерению Арутюнова расплатиться по счету и настоял на равномерной оплате: он, Северянин и Арутюнов (мне платить не позволили: я – “гость”).
Мне очень понравилось брюсовское нежелание хоть в чем-нибудь идти навстречу меценату. Северянин потом рассказывал мне, что Брюсов объяснял свои нападки на него в пресловутой статье досадою на то, что он, Северянин, первоклассный поэт, небрежничает в работе и как будто потрафляет вкусам публики. Публика же, по мнению Брюсова, “ничего не понимает”».
В эти годы Шенгели весьма активно учится поэзии у И. Северянина, В. Брюсова и М. Волошина. В 1917 году он издает (если учесть уже два издания его «Гонга») свою шестую книгу стихов «Апрель над обсерваторией», а также первую свою научную работу «Два “Памятника”» – о Пушкине и Брюсове, то есть об их стихах с одинаковым названием. При этом он мирит в Баку Брюсова и Северянина, мы уже знаем, а в 1918 и 1919 годах выпускает седьмой и восьмой сборники стихов «Раковина» и «Еврейские поэмы», а также издает свои переводы 40 сонетов французского поэта Эредиа, в которых он использовал опыт художественного перевода Максимилиана Волошина.
Поэзия Максимилиана и французской поэтической школы «Парнас», с которой он был тесно связан, в творчески переработанной в духе русской классики форме оказала значительное влияние на Шенгели, который, стремясь показать себя независимым от модных поэтических направлений, говорил, что он, прежде всего, – «парнасец».
В 1918 году Георгий успешно окончил университет, завершив курс и обретя в итоге диплом юриста, а в мае 1919-го был командирован из Харькова в Севастополь в качестве «комиссара искусств республики Таврида». Там же его впервые увидела Мария Заславская, так описывавшая их встречу:
«Впервые я его увидела в дверях канцелярии Севастопольского Гороно. Ему двадцать пять лет. Он в расцвете своих физических и творческих сил, и он был обворожителен.
Высокая и стройная фигура гармонировала с милым, выразительным лицом, смотревшим весело и приветливо, горящими темными глазами, ясной улыбкой на ярких пунцовых губах.
Он просит секретаря срочно собрать коллектив отдела искусств. На собраниях в те времена присутствовали все сотрудники от технических, кончая комиссарами.
Георгий Аркадиевич выслушивал внимательно и уважительно всех, подчеркивая всем своим поведением, что ему важно мнение каждого сотрудника. Уборщицу он выслушивал с не меньшим вниманием, чем специалистов. На его заседаниях обычно присутствовали все. Отсутствующих не бывало.
Через пять минут уже все сидели на скамьях зала заседаний.
На повестке обсуждалась организация музыкальной школы. Рассмотрение списка будущих учащихся проходит быстро и гладко. Вдруг раздается неожиданная реплика:
– Не стоит брать в училище детей буржуазной сволочи!
– Неужели мы поступим, как буржуазия? Мальчик – сирота. Оттолкнем мы его – он своим необычайным голосом будет служить интересам буржуазии; воспитаем мы его – он будет служить революции, – спокойно и убедительно возразил Шенгели.
Георгий Аркадьевич сумел всех увлечь работой. Всюду виднелась его высокая, стройная фигура. Музыкальная школа, клубы, театр, литературные студии, лекции, беседы – весь конгломерат культурных мероприятий вызваны им к жизни.
Жизнь кипит! Георгий Аркадьевич постоянно с массами, вызывает общую симпатию, расположение и стремление ему помогать.
И вдруг надо спешно уходить!»
Большевики покинули Крым. После эвакуации их из Крыма Шенгели вынужден был скрываться от белогвардейцев и с выданным Севастопольской парторганизацией фальшивым паспортом пробрался сначала в Керчь, а осенью оттуда – в Одессу, где прожил почти два года. Достать для Шенгели паспорт поручил большевик «тов. Иванов», а передавала его Заславская, договорившись о встрече на Приморском бульваре.
«– Завтра к 10 часам утра пойдете в аллею вздохов на бульваре, а когда он будет вас обнимать, положите ему паспорт в один из карманов. Ясно? – дал задание «тов. Иванов».
– А где же я возьму паспорт?
– Свяжитесь с эсэрами, меньшевиками. Они вам помогут.
– А если я не сумею достать?
– Вы должны достать! “Не” не может быть! Поняли? Все! Вам надо уходить. Опасаюсь, что за мной следят…»
Раздобыть паспорт помог Заславской левый эсер Иван Гапонов, сестра которого работала паспортисткой в милиции и перед уходом оттуда захватила с собой пять чистых паспортов. Заславская взяла у Гапонова два паспорта, чтобы передать их Шенгели.
«Приморский бульвар при спуске к морю имел три этажа. Из одной боковой аллеи, получившей название «аллея вздохов», шел под мостиком спуск ко второй – широкой круглой площадке. Аллея вздохов – место свиданий. Вечером и ночью по ней бродят влюбленные.
Утро пасмурное и предвещало серый туманный день.
Нервно хожу по аллее.
– Неужели не придет? Все пропадет впустую… Становится досадно. Самое трудное было достать паспорт. Как хотелось выполнить задание! Не скрою, приятно и свидание с Шенгели, хоть и на деловой почве.
Делаю не меньше десяти туров, как вдруг кто-то сзади меня осторожно обнял… Быстро оборачиваюсь и очутилась в его объятиях. Он! Протягиваю руку в направлении кармана его бархатной куртки, но не достаю. Он весело засмеялся, взял у меня пачку с паспортами. Сели на стоявшую рядом скамейку. Прислоняюсь к нему с нежностью любящей, тихонько посвящаю его в историю обоих паспортов. Он тут же возвращает мне паспорт Гапонова.
Ничто в его поведении не намекает на смертельную опасность, грозившую ему, если бы нас накрыли.
Мой вид, молодой девушки, маленькой и хрупкой, вполне удовлетворял требованию к объекту любовного свидания и не мог вызвать никакого сомнения.
Он вынимает из бокового кармана свою книжечку «Два “Памятника”» (Пушкина и Брюсова) и дарит мне. Надпись он сделал еще дома. Осторожно обнимает меня, почти не касаясь, чтобы не оскорбить моей девичьей скромности, в меру, необходимую для наблюдателя. Полагая, что наше свидание было уже достаточной длительности, чтобы убедить в его любовности, мы, наконец, поднялись, вместе дошли до ворот бульвара и разошлись в разные стороны. Лишь спустя тридцать лет мы встретились…»
Выбравшись из Севастополя в свою родную, но переполненную «белыми» Керчь, Георгий некоторое время отсиделся там и затем перебрался в Одессу, в которой было намного больше людей и можно было легче затеряться среди них. Что Шенгели и сделал.
Надо сказать, что, растворившись в кругу местных литераторов, он так и не нашел с ними за все это время полного созвучия. Казалось бы, ровесники: он всего только на два года моложе Паустовского, на год старше Багрицкого, на три – Катаева, с остальными ненамного больше, но… Классик и эстет, окруженный поэтическими бунтарями, он остался среди них почти одинок. Оглядываясь на то уже далекое время, поэт и прозаик Сергей Александрович Бондарин, одессит по рождению, писал: «Мы не чувствовали прошлого – и не удивительно: было только будущее, ибо и настоящее служило ему. Едва ли не сверстник наш, Георгий Аркадьевич Шенгели представлялся нам, людям по молодости беспощадным, человеком другого, чуждого нам поколения, смешным архаистом, чуть ли не из другой страны, со скучно устоявшимися правилами жизни и поэзии. А было Шенгели о ту пору немного за тридцать, и был он стройный, смуглый, с “пушкинскими” бачками, в твердой, как ореховая скорлупа, экзотической шляпе-шлеме “здравствуй-прощай”».
Но все это нисколько не помешало Георгию корпеть над своими стихами и статьями. «Я работаю напряженно, – пишет он Волошину из Одессы в Коктебель, – перевел пьесу Клоделя “La ville”, написал два учебника по стихосложению и скоро издаю трактат о стихе. Написал трагедию в стихах “Сальери”, пишу еще одну…»
Не случайно вскоре он получит звание профессора, законодателя ритмов и рифм. Хотя это произойдет уже после его окончательного переезда в столицу…
А на улицах Одессы однажды появились афиши цвета жидкого помидорного сока, которые сообщали, что на днях на Пушкинской улице в каком-то пустующем зале состоится феерический вечер всех одесских поэтов. И наискось через всю афишу большими буквами была оттиснута крупная черная надпись: «! В КОНЦЕ ВЕЧЕРА БУДУТ БИТЬ ПОЭТА ГЕОРГИЯ ШЕНГЕЛИ!» А внизу в скобках кто-то чернилами приписал: «Если он осмелится прийти».
Билеты на этот вечер стоили дорого. Их распродали в течение трех часов.
Предполагалось, что надпись на афише об избиении была напечатана с ведома и согласия самого Шенгели. Он сидел около эстрады на кухонной табуретке и держал на коленях пробковый шлем. Так, должно быть, держали свои погнутые в боях медные каски, попав в сенат, запыленные и загорелые римские легионеры.
Шенгели, похоже, охотно участвовал в этой игре и больше изображал из себя спокойного, как истый римлянин, противника, чем был им на самом деле. Тонкое лицо его во время схваток с одесскими поэтами бледнело и казалось выточенным из мрамора. Кто-то из друзей говорил, что бюст Шенгели мог бы быть украшением римского Форума. Или Пантеона…
Вспоминая Шенгели той поры, Константин Паустовский пишет, что поэт Георгий Аркадьевич был добрый человек, но с несколько экзотической внешностью. «Я никак не мог понять ту легкую неприязнь, с какой относились к нему некоторые одесские поэты. На мои расспросы Багрицкий отвечал невразумительно. В конце концов, я пришел к мысли, что вражда к Шенгели была литературной игрой. Она вносила добавочное оживление в поэтическую жизнь Одессы.
Шенгели был высок, глаза его по-юношески сверкали. Он ходил по Одессе в тропическом шлеме и босиком. При этих внешних качествах Шенгели обладал эрудицией, писал изысканные стихи, переводил французских поэтов и был человеком, расположенным к людям и воспитанным.
Но эти свойства Шенгели делали его чужаком для многих одесских поэтов – юношей нарочито развязных, гордившихся тем, что они не заражены никакими «штучками», в особенности такими смертными грехами, как чрезмерная интеллигентность и терпимость. И, как ни странно, но эти чувства проявляли себя чаще всего именно в представителях культуры – людях, причастных к литературе и книгоизданию. Так, например, суждения хорошо известного тогда в Одессе корректора газеты «Моряк» Коли Харджиева, студента Новороссийского университета, знатока левой живописи и поэзии, «отличались суровостью, краткостью и были бесспорны. Возражать ему никто не решался, так как ни у кого не хватало той эрудиции, какой обладал Коля. Из одесских поэтов он терпел только Эдуарда Багрицкого, снисходительно относился к Владимиру Нарбуту, а Георгия Шенгели считал развинченным эстетом не только за стихи, но и за то, что Шенгели ходил по Одессе в пробковом тропическом шлеме».
Но Георгий уже полюбил этот город, и поскольку он был настоящим поэтом, то и писал о нем замечательные стихотворения. Одно из которых так и называется – «Город»:
Он лежит в кукурузных долах,
У тревожных синих зыбей —
Город мужественных, веселых
И доверчивых людей.
Он гордится бронзовым Дюком,
Что на римлянина похож,
И песком по морским излукам,
И атласной обивкой нож…
<…>
Он воскресшей дышал Элладой,
С Гарибальди мечтать умел,
Он потемкинской канонадой,
Точно Вагнером, опьянел…
<…>
И теперь, из бани кровавой
Выйдя вновь на ветер и свет,
Изъязвленный черной протравой,
Осиянный славой побед,
Пусть он будет, как прежде, свежим
Краснобаем и удальцом,
Чтобы шла по всем побережьям,
Как улыбка, молва о нем!
По мнению молодых пишущих одесситов, Шенгели был отнесен к старшей группе писателей, а литературная молодежь Одессы не очень-то почитала авторитеты, поэтому отношение к поэту Шенгели у нее было весьма неоднозначное. Тамошней молодежи он казался человеком чуждого поколения, своего рода архаистом. Признавая за ним определенные поэтические заслуги, она, тем не менее, воспринимала его скептически. Это отношение было сохранено на долгие годы, что отметил в одном из своих стихотворений Дмитрий Кедрин, после которого осталась знаменитая строчка: «у поэтов есть такой обычай, – в круг сойдясь, оплевывать друг друга…».
Неплохо зная поэта и его творчество, выросший в Одессе Эдуард Багрицкий не простил ему некоторого высокомерия и вспомнил о нем уже в свои московские годы жизни. Описывая вечера в литературном Доме Герцена, он вскользь (но от этого не менее ехидно) упомянул о своем старшем (всего лишь на один год) соратнике:
Там Уткин – не Уткин, а Шелли,
и корчит поэта Шенгели.
Живший в годы своей молодости в Одессе, поэт Игорь Сельвинский тоже вслед за Багрицким саркастически откликнулся своими стихами на мотив поэзии Шенгели, пародируя его творчество:
В лоскутных ямбиках с кандовочкой коварной
То пушкинзоновский, то брюсовский язык,
И лишь тогда вопрет шенгелиевский лик,
Когда он переводит из Верхарна.
А в другой раз Сельвинский поймал поэта на слиянии соседних букв в одной из его строчек и тут же повеселился на этот счет своим каламбуром:
«И шаг мой стих…» —
Сказал Шенгели.
И в самом деле:
Ишак твой стих.
Как демонстрировала себя реальная жизнь, у многих одесских поэтов на всю жизнь сохранялись в сознании негативные юношеские впечатления, которые давали себя знать в их творчестве в последующие годы. Надо сказать, что одесситы всегда хвалились своими остротами, вот и Георгий Шенгели в воспоминаниях о Дорошевиче записал такой случай: «Хейфец, у которого тот печатался в Одессе, однажды сказал: “Знаете, какая разница между Дорошевичем и проституткой? Он получает за день, а она за ночь”, – объяснил он. Дорошевич, узнав об этом, спросил: “А знаете, какая разница между Хейфецем и проституткой?” – “Не знаем”, – пожали плечами остальные. – “И я тоже не знаю”, – сказал он. И больше Хейфец не острил».
В культурной жизни Крыма и Одессы времен Гражданской войны Шенгели был фигурой настолько заметной и значительной, что в сохранившемся в архиве Паустовского остроумном «уставе» товарищества молодых одесских литераторов «Под яблоневым деревом» есть отдельный пункт: «Не говорить о Шенгели». Стало быть – о нем тогда говорили, и, видимо, очень часто…
Валентин Катаев в своей книге «Алмазный мой венец» вскользь упоминает о «Поэте-классике», носившем большие пушкинские бакенбарды. Эта же деталь вызывала раздражение у беспринципного молодого поэта Семена Кирсанова. Вот как он описывает свое отношение к поселившемуся в Одессе Георгию Аркадьевичу:
«Однажды Шенгели устроил свой “поэзо-вечер”. Мы решили эпатировать. Была приобретена черепаха, отпечатаны листовки, а один из нас загримирован под Шенгели. В самый лирический момент во время чтения Шенгели стихов черепаха была пущена на сунец, с балкона в публику полетели листовки, а в зале под общий хохот появился Шенгели № 2. Вечер был сорван, а Шенгели для Одессы окончен.
Нужно прибавить, что кроме своих исследований и стихов Шенгели отличался оригинальной внешностью. Он носил густые черные баки и на плечах шерстяное одеяло вместо плаща. Однажды, когда Шенгели читал стихи, в зале раздался робкий детский голос:
– Мамоцка, это Пуцкин?
Это так повлияло на мэтра, что он оставил Одессу для более славных лавров».
Но вот как, спустя много лет, вспоминал уже без всякой иронии и предвзятости своего старшего собрата поэт и сказочник Юрий Карлович Олеша: «Он поразил меня, потряс навсегда. В черном сюртуке, молодой, красивый, таинственный, мерцая золотыми, как мне тогда показалось, глазами, он читал необычайной красоты стихи, из которых я понял, что это рыцарь звука, слова, воображения. Одним из тех, кто были для меня ангелами, провожавшими меня в мир искусства, и, может быть, с наиболее пламенным мечом, – был именно Георгий Шенгели.
Все можно было нести на его суд – стихи, прозу, драму, замысел, намек… Он все понимал, и, если ему нравилось – вдруг сверкал на меня великолепным оскалом улыбки. Он написал чудные вещи. Сонет о Гамлете, где говорит о железных ботфортах Фортинбраса. У него ни одной ошибки в применении эпитета. Он точный мастер…
Лучшее стихотворение о Пушкине в русской литературе после Лермонтова написано им. Он говорит, что Пушкин на экзамене перед Державиным выбежал, “лицом сверкая обезьяньим”. Гениально!
У него пронизанные поэзией стихи о море, о капитанских жилищах, о Керчи, которые я всегда ношу в своем сердце… Он назвал одну из своих книг “Планер”!
Он навсегда остался в моей памяти как железный мастер, как рыцарь поэзии, как красивый и благородный человек – как человек, одержимый служением слову, образу, воображению. Я верю, что где-то сейчас он живет на маяке с огромными окнами и огромным морем у подножия…»
Весьма нерегулярно получая скромные гонорары за публикацию своих стихов, Шенгели наедался досыта лишь в день получки. Однажды за такой трапезой его, икающего после съеденной в изрядном количестве колбасы, сидящего босиком на раскладушке, застал Эдуард Багрицкий, и тут же громогласно произнес свой каламбур:
И колбасой —
икал босой!
В то же время Багрицким и Шенгели была совместно написана шуточная пьеса в стихах, которая была поставлена ими в одесском театре «Крот», хотя прошла там недолго.
Большой творческой и организаторской активностью, а также редкостной интеллектуальной производительностью, которые окрепли и проявились у него еще в 1914–1919 годах в Харькове, было отмечено время пребывания Шенгели и в Одессе. В своем творчестве он по-прежнему оставался неутомимым и полным энергии, несмотря на политическую чехарду, на непредсказуемые и опасные смены режимов и властей. Работа велась день за днем – даже вопреки трагедии, постигшей его семью в декабре 1920 года, когда в Керчи расстреляли двух старших братьев Георгия – Евгения и Владимира Шенгели, офицеров Добровольческой армии. Они остались в Керчи по-видимому в надежде, что их пощадят. Война закончилась, они признали свое поражение и остались в своем городе, рядом со своими семьями. А может быть, они руководствовались не столько чувством патриотизма, сколько, как им казалось, здравым смыслом: они не знали, что их ждет на чужбине, да и куда они могли уезжать от своих близких?..
Георгий сотрудничал в газетах, издавал журналы, организовывал литературные студии, был комиссаром по делам искусств, откровенно используя «служебное положение», чтобы помогать выжить занесенным на юг многочисленным писателям, художникам, артистам. Скрывался в подполье, жил по подложным документам, совершил опаснейший вояж по занятым «добровольцами» городам – от Керчи до Одессы, где и наблюдал, в конце концов, отправление последних эмигрантских пароходов – в Константинополь.
В начале февраля 1920 года Одессу окончательно и эффектно занимают части Красной армии под предводительством Григория Котовского. В феврале 1920 года вчерашний петлюровский казак Владимир Сосюра решился посетить на улице Петра Великого собрание одесского «Коллектива поэтов», и этот вечер словно рассыпал небрежною рукою над ним по небу янтари. Когда он впервые читал свои стихи, в которых были такие слова, как «хлопцы», «девчата», «половники», и спросил: «Я поэт?» – юноша с орлиными глазами и соколиным профилем отозвался с подоконника: «Да, поэт, украинский поэт».
То был Эдуард Багрицкий.
Став курсантом военно-политических курсов при 41-й стрелковой дивизии, он познакомится вдобавок к Багрицкому еще и с Олешей и Шенгели, которые, как пишет Сосюра: «в светлые и добрые руки взяли мое сердце и показали ему дорогу в лазурное небо поэзии», – расскажет он позднее в своей автобиографии, а в июле 1920 года напишет в Одессе стихотворение: «Шагами шумными, в шинели, шелком шитой, к Шенгели спешно шел…»
«Я стал украинским поэтом, – напишет потом Владимир Сосюра. – Потом, после гражданской войны, в Харькове я познакомился с поэтами Куликом, Блакитным и другими, но встречи с Шенгели, Багрицким и Олешей навсегда запечатлелись в моем сердце. Багрицкий говорил: “Надо развить свой художественный вкус”, – а лозунгом Юрия Олеши было: “Слово должно светиться”».
Здесь же, в Одессе, пробующий свои литературные силы Георгий Паустовский впервые попал в среду молодых писателей. Среди сотрудников газеты «Моряк» были молодые одесские поэты и прозаики Катаев, Ильф, Багрицкий, Шенгели, Лев Славин, Бабель, Андрей Соболь, Семен Кирсанов и даже престарелый писатель Юшкевич. Паустовский тогда жил у самого моря, и много писал, но еще не печатался, считая, что он еще не добился умения овладевать любым материалом и жанром.
С января 1920 по август 1921 года Шенгели является главным редактором Одесского «Губиздата». В 1920 году здесь вышли «Избранные сонеты» Эредиа, переведенные им, и второе издание его «Еврейских поэм». А в 1921 году были напечатаны его драматическая поэма «1871 год» и сборник стихотворений «Изразец». Еще в 1919 году в Одессе им были опубликованы отдельными изданиями драматическая поэма «Нечаев» и большая теоретическая работа «Трактат о русском стихе. Органическая метрика». Основная часть этого «Трактата» была наработана Шенгели еще в Харькове, так же, как и переводы из Жозе Марии де Эредиа, среди которых просто нельзя не выделить его замечательного «Козопаса»:
По спутанным следам в овраге этом диком
Зачем преследуешь козлиное руно?
Ты не найдешь его: становится темно.
Здесь ночи ранние в лесу под горным пиком.
Давай присядем здесь. Внимая птичьим крикам,
Пробудем до утра. Есть фиги и вино.
Но тише говори: Дианы луч давно
Осеребрил весь лес, и боги в сне великом.
Гляди: вон узкий грот. Теперь укрылся в нем
Сатир приветливый. И если не вспугнем,
Он выйдет, может быть, из этой темной щели.
Ты слышишь? Ветерок свирели звук пронес.
Он! Видишь, как рога его за луч задели,
Как он плясать повел моих ленивых коз!
Здесь же, в Одессе, в 1920 году было вообще положено начало циклу сонетов Шенгели, которые занимают особое место в его творчестве, заслуживая наименование «постгойевских», близких к фантасмагории. Эти стихи – воплощенные в безупречную классическую форму страшных картин Гражданской войны, кровавой междоусобицы, безжалостной бойни, очевидцем которой пришлось быть Шенгели в 1918–1921 годах в Харькове и Керчи, в Севастополе и Одессе. Уже сама стыковка совершенной поэтической формы сонетов с описанием в них сцен безудержного насилия, разрушения и жестокости несомненно являет собой сильный стилистический и психологический ход. Вряд ли следует видеть в этом жесте признаки некой авторской отстраненности. Скорее, здесь и звучит, и молчаливо насыщает собой контекст интонация неодолимой горечи и бесконечного сожаления, как в сонете «Комендантский час»:
Норд-ост ревет и бьет о дом пустой.
Слепая тьма ведет меня в трущобы,
Где каменные обмерзают гробы.
Но – поворот, и вот над чернотой
Стеклянный куб, сияньем налитой,
Тень от штыка втыкается в сугробы,
И часовых полночные ознобы
Вдруг застывают в ледяное «стой!».
И пуговица путается туго
Под пальцами, и вырывает вьюга
Измятые мандаты, а латыш
Глядит в глаза и ничему не верит:
Он знает все, чего и нет… Вдоль крыш
Лязг проводов верстою время мерит.
Аскетически строгая старинная форма сонета резко контрастировала с голой, почти документальной правдой о жизни и нравах времени, которое так долго героизировали. Суть и содержание сонетов оказались сродни обжигающей прозе Артема Веселого, его жестокой правде о Гражданской войне. Эти сонеты не отпускали Шенгели еще очень долгое время, требуя возвращения к себе авторской правки и в 1933 году, и в 1937-м, так что исследователям сейчас уже и понять не просто, когда именно они были созданы. Цикл хронологически открывается выразительной харьковской зарисовкой 1918 года «“Дух” и “Материя”»:
Архиерей уперся: «Нет, пойду!
С крестом! На площадь! Прямо в омут вражий!»
Грозит погром. И партизаны стражей
Построились – предотвратить беду.
И «многолетье» рявкал дьякон ражий,
И кликал клир. Толпа пошла, в бреду,
И тяжело мотаясь на ходу,
Хоругвы золотою взмыли пряжей.
Но, глянув искоса, броневики
Вдруг растерзали небо на куски,
И в реве, визге, поросячьем гоне —
Как Медный Всадник, с поднятой рукой, —
Скакал матрос на рыжем першероне,
Из маузера кроя вдоль Сумской.
В этот шенгелиевский цикл черно-белых сонетов-гравюр глубокой и выразительной резьбы входят такие его вещи, как: «Комендантский час», «Своя нужда», «Мать», «Короткий разговор», «Самосуд», «Провокатор», «Интервенты», «Здесь пир чумной…» и близкие им по духу стихотворения. К ним тематически и интонационно примыкают стихи и 1919 года, дополняя собой ту же фантасмагорическую картину судного часа:
На фронте бред. В бригадах по сто сабель.
Мороз. Патронов мало. Фуража
И хлеба нет. Противник жмет. Дрожа,
О пополнениях взывает кабель.
Здесь тоже бред. О смертных рангах табель:
Сыпняк, брюшняк, возвратный. Смрад и ржа.
Шалеют доктора и сторожа,
И мертвецы – за штабелями штабель…
В 1921 году Шенгели написал поэму «Поручик Мертвецов», а на следующий год у него вышел сборник «Раковина», знаменующий переход к более аскетической стилистике и демонстрирующий отточенную технику и литературную эрудицию. Перечитывая сегодня входящие в нее стихи, невозможно удержаться от глубокого вздоха, встречая перед собой удивительную и прекрасную поэзию. Даже если Георгий иногда и нарушал в стихах ударения.
Обитавший одно время в Одессе Константин Паустовский писал, что Шенгели даже дистанционно помогал ему выжить в холодную зиму. Вот как он об этом вспоминал:
«Зимой 1921 года я жил в Одессе, в бывшем магазине готового платья “Альшванг и компания”. Я занял явочным порядком примерочную на втором этаже. В моем распоряжении были три большие комнаты с зеркалами из бемского стекла. Зеркала так крепко были вмурованы в стены, что все попытки – и мои, и поэта Эдуарда Багрицкого – выломать эти зеркала, чтобы обменять их на продукты на Новом базаре, ни к чему не привели. Ни одно зеркало даже не треснуло.
В примерочной не было никакой мебели, кроме трех пустых ящиков с гнилой стружкой. Хорошо еще, что стеклянная дверь легко снималась с петель. Каждый вечер я снимал ее, клал на два ящика и устраивал на этой двери свою постель.
Стеклянная дверь была очень скользкая, и потому по нескольку раз за ночь старый тюфяк сползал с нее вместе со мной и сваливался на пол.
Как только тюфяк начинал двигаться, я тотчас просыпался и лежал, не дыша, боясь пошевелить даже пальцем, глупо надеясь, что, может быть, тюфяк остановится. Но он сползал медленно и неумолимо, и моя хитрость не помогала.
Это было совсем не смешно. Зима стояла свирепая. Море замерзло от порта до Малого Фонтана. Жестокий норд-ост полировал гранитные мостовые. Снег не выпал ни разу, и от этого холод казался гораздо холоднее, чем если бы на улицах лежал снег.
В примерочной стояла маленькая жестяная печка-“буржуйка”. Топить ее было нечем. Да и невозможно было согреть этой жалкой печуркой три огромные комнаты. Поэтому на “буржуйке” я только кипятил морковный чай. Для этого хватало нескольких старых газет.
На третьем ящике был устроен стол. На нем по вечерам я зажигал коптилку.
Я ложился, наваливал на себя все теплое, что у меня было, и читал при свете коптилки стихи Хозе Мария Эредиа в переводе Георгия Шенгели. Стихи эти были изданы в Одессе в этот голодный год, и я могу засвидетельствовать, что они не ослабили нашего мужества. Мы чувствовали себя стойкими, как римляне, и вспоминали стихи того же Шенгели: “Друзья, мы римляне. Мы истекаем кровью…”».
К счастью, до истечения настоящей кровью тогда не доходило, поэтов спасала от всех невзгод молодость. Оглядываясь впоследствии на прошедшие через годы трудности, Георгий об этом времени писал:
Узнаю тебя, молодость: голод;
В темной комнате холод и мрак;
Ум тревогой тяжелой надколот, —
И вплотную под городом враг.
Было только не так одиноко,
Было только тоскливо не так:
Ветер с юга и солнце с востока
Залетали ко мне на чердак.
Да и было терпенье «во имя»,
Хоть не помню, во имя чего,
Что делил я с друзьями моими,
И люблю я друзей оттого…
Нет, не молодость. Только похоже, —
Но похуже: темней, холодней;
И стихи – отражение дрожи,
Черной ряби на заводях дней.
Вспоминая свои встречи в Одессе, писатель Юрий Олеша писал: «Шенгели говорил мне как-то, что он хотел бы жить на маяке. Ну, что ж, это неплохая фантазия! А что там, на маяке? Какой формы там жилище? Что это – комната, несколько комнат, маленькая казарма? Ничего нельзя себе представить! Я не был на маяке, я только видел, как он горит. Мало сказать, видел, вся молодость прошла под вращение этого гигантского то рубина, то изумруда. Он зажигался вдали – сравнительно не так уж далеко: километрах в двух, что при чистоте морского простора – ничто! – зажигался в темноте морской южной ночи, как бы вдруг появляясь из-за угла, как бы вдруг взглядывая именно на вас. Боже мой, сколько красок можно подыскать здесь, описывая такое чудо, как маяк, – такую древнюю штуку, такого давнего гостя поэзии, истории, философии…
Теперь маяки, кажется, светятся неоном.
Шенгели вообще удаются всякие, так сказать, морские, береговые размышления – это потому, что их питают у него воспоминания юности. Он жил в Керчи. Он говорил мне, что по происхождению он цыган. Вряд ли. Очень талантливый человек.
Вдали оранжево-топазовая
Величественная река
Колышет, в зеркале показывая,
Расплавленные облака.
Это не слишком хороший отрывок (дань Северянину, которому нельзя подражать) – да я еще и наврал что-то. У него прелестные, именно морские стихотворения – о каком-то капитанском домике в Керчи и т. п. Чистые, точно поставленные слова, великолепные эпитеты и, главное, – поэзия! Поэзия!