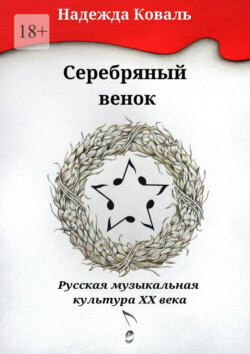Читать книгу Серебряный венок. Русская музыкальная культура ХХ века - Надежда Коваль - Страница 3
Часть I Время революций. 1905—1917 гг.
Глава первая
ОглавлениеНовые ориентиры в русском искусстве не возникли одновременно с Октябрьской революцией, организованной партией большевиков под руководством Ленина в 1917 году. Начало изменениям в социальной и культурной обстановке в стране было положено раньше, а точнее 9 января 1905 года, когда прямо перед Зимним дворцом царскими войсками была расстреляна мирная демонстрация рабочих. Это событие вошло в историю под названием Кровавое воскресенье и считается началом Первой русской революции.
В тот день шествие 140-тысячной толпы возглавил 34-летний священник Георгий Гапон. В 1904 году он создал организацию «Собрание русских фабрично-заводских рабочих города Санкт-Петербурга». Первоначально рабочие устраивали общие вечера, часто с чаепитием и танцами. Скоро в «Собрании» Гапона насчитывалось около 9 тысяч человек. Члены организации требовали установления восьмичасового рабочего дня и повышения жалованья, защищали несправедливо уволенных с предприятий рабочих и организаторов забастовок. Именно Гапон призвал обратиться к царю, который «один может заступиться за рабочих». Он же подготовил обращение к Николаю II, где говорилось: «Мы обнищали, нас угнетают, в нас не признают людей, к нам относятся как к рабам. Нет больше сил, Государь». Когда правительственные войска стали расстреливать мирную манифестацию, потрясенный Гапон воскликнул: «Нет больше царя, нет больше Бога!» Возможно, это легенда, и он таких слов не произносил, но есть факт, что после событий 1905 года Гапон вступил в члены РСДРП – партию, возглавившую большевистское восстание в октябре 1917 года. В Российской социал-демократической рабочей партии священник-социалист пробыл всего несколько месяцев. Спустя год после Кровавого воскресенья бывшие члены «Собрания» учинили над Гапоном жестокую расправу – повесили по подозрению в сделках с полицией.
В результате всенародного недовольства тяжелой экономической ситуацией и бедственного положения крестьянства (на тот момент оно составляло 77% населения), резкого спада промышленного производства и поражения в Русско-японской войне политическая жизнь в стране была крайне обострена и требовала немедленного изменения к лучшему. Манифестом Николая II от 6 августа 1905 была учреждена Государственная Дума как законосовещательный орган при монархе. За этим Манифестом последовал еще один, от 17 октября. Он учреждал парламент, без одобрения которого не мог вступить в силу ни один закон. В то же время за императором сохранялось право распускать Думу и блокировать ее решения своим правом вето. Впоследствии Николай II не раз пользовался этими полномочиями. Манифест провозглашал политические права и свободы совести, слова, собраний, образования союзов и объединений, а также неприкосновенность личности. Однако социальное напряжение все равно не спадало, продолжая бушевать как в среде рабочих и крестьян, так и среди интеллигенции.
Вслед за трагическими событиями Кровавого воскресенья московская газета «Наши дни» опубликовала открытое письмо-обращение передовых музыкантов с требованиями демократических свобод. 1 февраля 1905 года Николай Андреевич Римский-Корсаков выступил на Художественном совете Санкт-Петербургской консерватории в поддержку бастующих студентов и протестовал против их исключения из учебного заведения. Двадцать семь профессоров из пятидесяти одного поддержали требование студентов отменить занятия до 1 сентября. Однако Дирекция отделения Императорского русского музыкального общества (ИРМО) согласилась приостановить занятия только до 15 марта. На следующий день газета «Русские ведомости» сообщила об увольнении Римского-Корсакова из состава профессоров Петербургской консерватории. Отставка великого композитора всколыхнула всю русскую прогрессивную интеллигенцию. Из солидарности с Римским-Корсаковым из консерватории ушли А. Глазунов, М. Бенуа-Эфрон, А. Лядов и Ф. Блуменфельд. Великий князь Константин Константинович утвердил Постановление ИРМО об увольнении Римского-Корсакова и запретил исполнение его произведений в столице. В знак поддержки всемирно известного композитора Русское музыкальное общество покинули его почетные зарубежные члены – композиторы К. Сен-Санс и Э. Изаи, а также скрипач Й. Иоахим.
5 февраля состоялась первая сходка учащихся Петербургской консерватории. Девяносто восемь ее участников были переписаны по приказу ректора А. Р. Бернгарда. Позже состоялась репетиция ученического концерта в Малом зале консерватории. Опасаясь большого скопления учащихся, А. Бернгард расставил служителей, которые прекратили доступ в Малый зал. По этому поводу А. Глазунов писал А. Бернгарду: «Умоляю Тебя завтра на заседании СПб. Дирекции не сообщать членам ее имен учащихся, переписанных на сходке. В святилище искусства, по моему мнению, не следует никогда прибегать к подобным полицейским приемам. Чего Ты достигнешь, передав список гг. генералам с орденами и лентами на груди: их, как людей с высшим положением, отделяет страшная бездна от состава учащихся в нашей Консерватории различного происхождения и наполовину бедняков, но объединенных искусством». (1)
16 марта 1905 года Петербургская консерватория была оцеплена полицией, более ста учащихся были доставлены в полицейский участок. Приказом ректора всех задержанных исключили из учебного заведения. На следующий день по решению Комитета учащихся несколько студентов проникли через заслон полиции и устроили «химическую обструкцию», разлив в помещении консерватории зловонную жидкость, чтобы помешать проведению занятий.
В конце марта в зале драматического театра им. В. Комиссаржевской прошла петербургская премьера одноактной оперы Н. Римского-Корсакова «Кощей Бессмертный». Сюжет оперы имел много характерных для произведений композитора черт – борьба светлых и темных сил, противопоставление мира человеческого и земного миру волшебному. Поставленная силами группы студентов консерватории под руководством А. Глазунова опера стала иносказательным выражением революционных настроений молодежи и превратилась в своеобразный политический митинг. Когда зрители после спектакля стали кричать «долой самодержавие!», полиция с такой поспешностью взялась опускать металлический занавес, что он чуть было не раздавил 61-летнего композитора, вышедшего на сцену поклониться публике. Игорь Стравинский писал в те дни сыну Римского-Корсакова Владимиру, с которым был в дружбе: «Проклятое царство хулиганов ума и мракобесов!» А в следующем письме 1906 года, живо откликаясь на события общественной жизни в России, уверял, что не будь он занят музыкальными делами, он бы «принялся самым серьезным и тщательным образом изучать научный социализм». Однако заканчивая это письмо, он высказал мысль, от которой уже не отказывался до конца жизни: «…я и рад, что музыкальный интерес все-таки для меня – первенствующий. Гибель для искусства – его смесь с политикой». (2)
Последней работой, законченной Римским-Корсаковым за год до смерти в 1908 году, стала опера «Золотой Петушок». После драматических событий 1905 года публика и власти предержащие ожидали от композитора не просто злободневных политических намеков, а прямую и смелую сатиру на самодержавие. Так, московский генерал-губернатор С. Гершельман в конфиденциальном письме к начальнику Главного управления по делам печати писал об этой опере следующее: «Оскорбляется и высмеивается понятие о царском достоинстве. <…> Царь только думает о сне и еде. <…> В третьем действии народ поет песню, где плоско высмеивается покорность. Постановка этой оперы на сцене может вызвать нежелательное толкование, не говоря уже о том, что либретто оскорбляет понятие священности слова „царь“». (3) После этого цензура заставила автора внести изменения в текст либретто, написанного по «Сказке о золотом петушке» А. С. Пушкина. Не будет лишним упомянуть, что при публикации этой сказки в «Библиотеке для чтения» в 1835 году, цензор уже тогда запретил печатать строчки «Царствуй, лежа на боку!» и «Сказка – ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок».
Революционно настроенные студенты выступали со своими требованиями не только в Петербургской, но и в Московской консерватории. Ректор Василий Ильич Сафонов, выдающийся дирижер, пианист и педагог, отнесся к происходящим событиям негативно. Сын терского казачьего генерала (коренастый, приземистый, с пронзительными черными глазами) не скрывал своего отношения ко всяким революциям с их идеологией насилия и вселенского разрушения и хотел уберечь от дурного влияния своих студентов. Он запрещал им ходить на демонстрации, убеждал, что музыканты, художники и поэты должны быть в стороне от политики. Однако ученики не прислушивались к советам педагога. Наоборот, выходили со знаменами на улицы, требовали автономии и отставки «реакционера» и «монархиста» Сафонова.
Василий Ильич Сафонов был личностью примечательной: за семь месяцев окончил полный курс Петербургской консерватории, дебютировал как дирижер в Москве в 1889 году, а уже через шесть лет блестяще выступил в Амстердаме. В разное время в его фортепианном классе учились А. Скрябин, Н. Метнер, А. Гречанинов, Л. Николаев и А. Гедике. Благодаря его хлопотам были выстроены новое здание Московской консерватории и Большой зал, в котором установили орган работы прославленного французского мастера Аристида Кавайе-Коля. Сооружение собственного здания открывало для консерватории обширное поле деятельности. Стало быстро возрастать число учащихся и, соответственно, число выпускников, благодаря чему провинциальные музыкальные учреждения стали пополняться новыми педагогическими силами.
Будучи председателем Московского отделения Русского музыкального общества В. Сафонов организовал общедоступные симфонические концерты. Он принимал деятельное участие в судьбе А. Скрябина: всячески пропагандировал его творчество, пригласил на работу в консерваторию, помог организовать гастрольное турне по Америке. Однако в результате революционных волнений 1905 года некогда безоговорочный авторитет В. Сафонова пошатнулся, и он был вынужден написать заявление об уходе из консерватории, которую возглавлял в течение 16 лет. В памяти современников запечатлелась картина одного из последних дней его руководства. Музыкальный критик Леонид Сабанеев писал о том, как бледный и разозленный Сафонов отступал перед толпой революционно настроенных учащихся, скрываясь за дверью своего кабинета.
На заседании Художественного совета В. Сафонов подал в отставку, назначив своим преемником композитора и педагога Михаила Михайловича Ипполитова-Иванова. Это вызвало огромное недовольство со стороны сочувствующих студентам профессоров и Сергея Ивановича Танеева, который указал на «незаконность» такой замены. Но Сафонову в ту минуту было не до соблюдения устава консерватории. Забыв о том, что именно Танеев в свое время порекомендовал его кандидатуру на пост ректора, он резко оборвал его и даже попытался вывести из зала заседания. В итоге получились две отставки – С. Танеева и В. Сафонова. Ведущие музыканты вместе покинули консерваторию, столь дорогую им обоим.
Сложив с себя обязанности ректора Московской консерватории, Сафонов начал блестящую мировую карьеру дирижера. В 1906—1909 годах он руководил Нью-Йоркским филармоническим оркестром, одновременно работая над созданием Национальной консерватории Америки. Покинув США, он продолжил гастрольные поездки по России и Европе, дирижируя оркестрами Берлинской и Венской филармонии, Лондонским симфоническим оркестром и оркестром Театра Ла Скала. Под его управлением впервые прозвучали многочисленные сочинения русских композиторов.
Жизнь Василия Сафонова закончилась трагически. Большевики не простили ему горячей приверженности монархии и того, что дочь Анна была возлюбленной адмирала Колчака, одного из руководителей Белого движения во время Гражданской войны. Когда красные пришли в Кисловодск, где проживало многочисленное семейство Сафоновых, его самого и родных постоянно выводили на «расстрелы»: ставили к стенке, а после этого отпускали. В один из таких пыточных дней в феврале 1918 года В. Сафонов скоропостижно скончался от сердечного удара в возрасте 66 лет. (4)
Покинув Московскую консерваторию, Сергей Иванович Танеев продолжал давать уроки на дому (всегда бесплатно) и вести классы в организованной в 1906 году Народной консерватории. В отличие от «регулярных», народные консерватории не готовили профессиональных музыкантов, и, будучи не государственными, а благотворительными заведениями, принимали всех желающих. Ученики обучались игре на музыкальных инструментах, сольному и хоровому пению, а также теории музыки. В течение десятилетнего периода существования Московской народной консерватории в ней окончили учебу около двух тысяч слушателей, среди которых были знаменитый хоровой дирижер Александр Васильевич Свешников, композитор Дмитрий Михеевич Мелких и певица Елена Андреевна Степанова.
«Сергей Иванович Танеев для всех нас был высший судья, обладавший мудростью, справедливостью, доступностью, простотой. Образец во всем, в каждом деянии своем, ибо что бы он ни делал, он делал хорошо. <…> И смотрели мы все на него как-то снизу вверх!» – писал о своем учителе Сергей Рахманинов. Танеев был первым, кто закончил Московскую консерваторию с большой золотой медалью. В ту пору ему было всего 19 лет. По классу фортепиано он учился у Николая Григорьевича Рубинштейна (основателя и первого директора консерватории), а по классу композиции – у Петра Ильича Чайковского, с которым у него завязалась крепкая дружба на многие годы. В Московской консерватории началась педагогическая и ректорская деятельность, которой он занимался в период с 1885 по 1889 годы. Среди его учеников были знаменитые музыканты А. Скрябин, С. Рахманинов, Р. Глиэр, С. Василенко, А. Гольденвейзер и К. Игумнов. Помимо гармонии, инструментовки, композиции, фортепиано и анализа музыкальных форм Танеев вел разработанный им самим курс контрапункта и фуги. Материалы этих лекций легли в основу фундаментального научного труда под названием «Подвижной контрапункт строгого письма». В 1889 году музыкант решил посвящать больше времени сочинительству. Поэтому оставаясь профессором консерватории, он покинул пост ректора, порекомендовав вместо себя В. Сафонова. Как пианист Сергей Танеев прославился исполнением в Москве знаменитого Первого фортепианного концерта Чайковского, а как композитор – своими камерными сочинениями, симфониями, особенно Четвертой, до-минорной, оперой «Орестея», а также кантатами «Иоанн Дамаскин» и «По прочтении Псалма». Хоровые произведения композитора, а их более сорока, украшают репертуар смешанных хоров до сегодняшнего дня. Одними из наиболее популярных являются хоры a cappella на стихи Я. Полонского «Посмотри, какая мгла», «Вечер», «Развалину башни, жилище орла» и «Прометей».
В 1895 году Сергей Танеев подружился с Львом Толстым. Часто бывал в Ясной Поляне, где жил и работал в специально отведенном для него флигеле. Толстой увлек Танеева ездой на велосипеде. И тот, близорукий и несколько неуклюжий, посвящал велосипедным прогулкам каждый свободный час летнего пребывания в гостях. Кроме страсти к взаимному общению Танеева и Толстого роднило увлечение шахматами. Условия поединков были весьма занимательными: если проигрывал композитор, он должен был исполнить что-нибудь на рояле, а если в проигравших оставался Лев Толстой – он читал вслух какое-нибудь свое произведение.
Сын Льва Николаевича, Сергей, в книге «Очерки былого», вспоминал о Танееве: «Исключительная музыкальная одаренность Сергея Ивановича общеизвестна. Он обладал абсолютным слухом. Как-то в Ясной Поляне мы произвели с ним такой опыт: ударили на фортепиано одновременно шесть или семь клавишей без всякого порядка, как придется, и предложили ему их назвать. Он, не глядя, безошибочно назвал все ударенные клавиши. Известно, что он ездил сочинять в монастырский скит, где не было никаких музыкальных инструментов. Он обладал феноменальной памятью, легко вычитывал пьесы и долго их помнил. Одно время он мечтал выучить все, что было выдающегося в фортепианной литературе. Партитуры он читал с поразительной легкостью, точностью и полнотой. В своих суждениях о современных композиторах и исполнителях он, не стесняясь, иногда довольно резко высказывал свое мнение. В этом отношении его справедливо называли „музыкальной совестью Москвы“».
Однако именно Танеев стал причиной разлада в семье великого писателя. К нему начала испытывать нежные чувства Софья Андреевна, жена Толстого, надломленная безвременной кончиной семилетнего сына Вани, умершего от скарлатины. Вот, что она писала в своем дневнике по поводу нахождения композитора в их доме: «Горе, сердечная тоска куда-то уходили, и спокойная радость наполняла мое сердце». «Присутствие его (С. Танеева – Н.К.) имело на меня благотворное влияние, когда я начинала опять тосковать по Ванечке, плакать и терять энергию жизни. Иногда мне только стоило встретить Сергея Ивановича, послушать его бесстрастный, спокойный голос – и я успокаивалась… Это был гипноз, невольное, неизвестное совершенно ему воздействие на мою больную душу». (5) Музыка Танеева была нужна ей как воздух. Толстой же не мог не заметить перемен, случившихся с его женой. Он ревновал, просил ее быть благоразумной. А позже прекрасно описал привязанность жены к молодому человеку в своей повести «Крейцерова соната». Сам же Танеев, казалось, был далек от всего этого. Да и могло ли в нем зародиться другое, кроме уважения, чувство к Софье Андреевне, которая была старше его на двенадцать лет?
Когда позволяло время, Сергей Иванович уезжал в Орловскую губернию, в Селище, где находилось имение Масловых, близких друзей семьи Танеевых. Там его принимали как родного. Находясь на природе, он мог прекрасно отдыхать, а главное – писать музыку. Больше всего в Селище композитор любил плавать и кататься на лодке. Как только он оказывался в гостях у Масловых, сразу же собирал всех на прогулку, с непременным условием идти пешком. Возвращаясь в Москву, Танеев редко находился дома один – на знаменитые «танеевские вечера» собиралась вся просвещенная Москва. Здесь жарко спорили, играли на фортепиано в четыре руки, пели хором. В разгар дружеской беседы вдруг открывалась дверь, и в комнату входила любимая няня – Пелагея Васильевна, с громадным капустным пирогом в руках. Она всю жизнь опекала Сергея Ивановича и вела домашнее хозяйство. У этой простой деревенской женщины все было в таком порядке, что она без труда могла найти нужные страницы сочинений своего воспитанника. А когда у нее заканчивался лавровый лист для приготовления пищи, она настойчиво отправляла Сергея Ивановича «поиграть на концерте». Ведь от благодарных слушателей он получал не только цветы, но и лавровые венки.
В доме Танеева было семь небольших комнат, одна из которых служила кабинетом, а другая – музыкальным залом, где стоял старенький рояль «Беккер». Сергею Ивановичу иногда приходилось извиняться перед дамами, посещавшими его музыкальные собрания. В записке к А. Гольденвейзеру от 6 мая 1911 года он написал по поводу его жены, что если она «не побоится некоторых неудобств, происходящих от тесноты квартиры (слушать, например, придется из другой комнаты), то я был бы очень рад видеть ее в числе слушателей».
Ранней весной 1915 года скоропостижно скончался Александр Скрябин – один из наиболее знаменитых учеников Сергея Танеева. Композитор умер от заражения крови, промучившись всего три дня. На его похороны Танеев пришел сильно простуженный. В холодный, ветреный апрельский день он стоял с непокрытой головой, несмотря на уговоры поберечься и надеть шляпу. Простуда дала осложнение, и композитор умер от пневмонии через два месяца, 6 июня 1915 года. Следуя за гробом Сергея Ивановича, Модест Чайковский (брат П. И. Чайковского) и Александр Гречанинов говорили о необходимости оставить дом Танеева в Малом Власьевском переулке навсегда в том виде, в каком он был при жизни композитора. Гречанинов вспоминал: «Бывало вечерком подойдешь к дому и видишь в окно, что Сергей Иванович пьет чай, значит можно войти не потревожа, посоветоваться, а то и просто отвести душу в беседе. Ну, а если он за пюпитром или за инструментом, то постоишь и порадуешься, что он тут, за делом. И, уже довольный и этим, уйдешь утешенным и ободренным».
Блестящая музыкальная деятельность Александра Николаевича Скрябина, как пианиста и композитора, дала ему возможность вступить в 1898 году в должность профессора Московской консерватории. Приглашение это было получено от его бывшего учителя по фортепиано В. Сафонова. Правда, в этой должности Скрябин пробыл совсем недолго – желание заниматься собственным творчеством превалировало над преподаванием. В 1903 году Скрябин ушел из консерватории. Покидая Петербург, он не предполагал, что в последний раз видит Митрофана Петровича Беляева – музыкального издателя и мецената, оказывавшего ему постоянную поддержку. Беляев страдал от неизлечимой болезни и понимал, что дни его сочтены. Как человек деловой, он старался ничего не упустить в своих прощальных распоряжениях. Размышляя о судьбах отечественной культуры, служению которой он отдал столько сил, времени и средств, Беляев в оставшиеся месяцы жизни особенно много думал о Скрябине. Год назад, узнав о решении Александра Николаевича прекратить педагогическую работу, он удвоил ему сумму ежемесячного аванса с тем, чтобы композитор мог погасить задолженность перед нотным издательством. Зная о материальных затруднениях Скрябина и о том, что его семья пополнилась четвертым ребенком, Беляев постарался, чтобы последняя при его жизни премия, учрежденная им для поощрения выдающихся произведений русских композиторов, помогла бы тому расплатиться с долгами и переехать за границу. (6)
Поселившись в Женеве, А. Скрябин часто посещал Париж, Амстердам, Брюссель, представляя свои сочинения. Судя по отзывам прессы, концерты проходили с большим успехом. Однако доход от выступлений был незначительным и не решал финансовых проблем композитора. Поэтому он, не задумываясь, принял приглашение консерваторского товарища М. Альтшулера приехать в США и дать концерты с оркестром Русского симфонического общества. Добравшись до Америки, Скрябин встретился с В. Сафоновым, который в 1906—1909 годах исполнял обязанности директора Национальной консерватории в Нью-Йорке и главного дирижера Филармонического оркестра. Сафонов использовал весь огромный авторитет, чтобы обеспечить своему любимцу как можно более теплый прием и успех за океаном. После нескольких концертов, утвердивших А. Скрябина в принадлежности к выдающимся русским музыкантам, композитор вдруг резко засобирался обратно в Париж. Поговаривали, что Скрябин испугался разошедшихся слухов о том, что он находится в Америке с Т. Ф. Шлецер, не являвшейся ему законной женой, а это грозило скандалом в газетах, изгнанием из отеля и прочими неприятностями.
Вернувшись в Европу, Скрябин вновь погрузился в работу и закончил сочинение «Поэмы экстаза», а позже – «Прометея» («Поэма огня»). Для воплощения образов «Прометея» композитору потребовался не только огромный состав оркестра, но еще фортепиано, большой смешанный хор и, что самое главное, – световая клавиатура. С ее помощью зал должен был погружаться в сияние того или иного цвета в зависимости от изменений звуковой гаммы в музыке.
В 1907 году в Париже был организован творческий вечер из произведений Скрябина. Планировалось, что «Поэмой экстаза» будет дирижировать А. Никиш, а Концерт для фортепиано с оркестром должен был исполнять сам автор. Композитору был представлен молодой Артур Рубинштейн, который был большим поклонником его музыки. Во время чаепития в Café de la Paix Скрябин поинтересовался у пианиста, кто являлся его любимым композитором? Рубинштейн, недолго думая, ответил, что Иоганнес Брамс. Услышав это, Скрябин закричал в негодовании: «Как вам в одно и то же время может нравиться музыка этого ужасного композитора и моя?! Когда я был в вашем возрасте, я был „шопенистом“, позже „вагнерианцем“, а сейчас я могу быть только „скрябинистом“!» С этими словами он схватил свою шляпу и выскочил из кафе, оставив в растерянности Рубинштейна и не заплатив своего счета. На вечернем концерте «Поэма экстаза» была встречена с шиканьем и криками недовольства. Присутствующие в зале композиторы Дюка, Форе и Брюно забрались на сиденья и с удовольствием свистели. И хотя самого Артура Рубинштейна «Поэма» заразила и увлекла, он чувствовал себя отомщенным. (7)
В 1911 году Скрябину в тринадцатый раз присудили учрежденную М. Беляевым Глинкинскую премию. На этот раз за симфоническую поэму «Прометей». Одновременно с этим его избрали почетным членом Санкт-Петербургского отделения Русского музыкального общества, после чего композитор с семьей сразу же переехал в Россию. В один из дней, он, с присущей ему изысканной вежливостью, решил навестить своего учителя Сергея Танеева. После первых приветствий Танеев вдруг начал высказывать Скрябину свое отношение к его музыке:
– Александр Николаевич, а ведь вы знаете, я вашей музыки не люблю.
Не привыкший к таким «комплиментам» деликатный Скрябин отвечал извиняющимся голосом:
– Знаю, знаю, Сергей Иванович. А что?
– Да нет, я ведь не то что не люблю, а прямо ее не выношу, – продолжал Танеев.
– Знаю, Сергей Иванович, ведь у всякого свой вкус, – примирительно говорил Скрябин.
– Да ведь я не только не выношу вашей музыки, меня просто тошнит от нее, – не унимался наставник, очевидно решившись высказать сразу все до конца. К счастью, после такого бурного признания музыканты мирно продолжили свой разговор. (8)
Строгая и в чем-то архаичная оценка Танеевым музыки Скрябина была созвучна с мнением Римского-Корсакова, который полностью отвергал «второй скрябинский период», называя его новые гармонии «грязью». (9) Игорь Стравинский вспоминал о Скрябине следующее: «Как ученик Танеева, Скрябин был подкован в области контрапункта и гармонии лучше большинства русских композиторов – он был гораздо лучше экипирован в этих вопросах, чем, например, Прокофьев, возможно, более ярко одаренный. Основой для Скрябина служило творчество Листа, что естественно для композитора его поколения. Я ничего не имел против Листа, но мне не нравилась манера Скрябина постоянно дискутировать на тему о направлении Шопен – Лист, противопоставляя его германским традициям. В другом месте я описал, как он был шокирован, когда я выразил свое восхищение Шубертом. Чудесную фа-минорную Фантазию Шуберта для фортепиано в четыре руки Скрябин считал музыкой для барышень. И большинство его музыкальных суждений были не лучше этого». (10)
Композитор Николай Мясковский, в свою очередь, говорил о Скрябине как о смелом новаторе, «гениальном искателе новых путей». А известный музыкальный критик Александр Оссовский так писал о своем впечатлении от прослушивания Третьей симфонии («Божественная поэма»): «Симфония произвела ошеломляющее, грандиозное действие. <…> Нам казалось, что Скрябин этим произведением возвещает новую эру. Между нами было неоспоримо решено: Скрябин – гений и вождь».
Будучи одной из самых значительных фигур среди композиторов Серебряного века, Скрябин предвосхитил художественный и идеологический ход развития отечественной культуры в ближайшие годы после своей смерти, включая также и первые советские. Вхождению его музыки в молодую революционную культуру способствовал возникший «дефицит» композиторов-«звезд», уехавших за рубеж после Октябрьской революции 1917 года, то есть Рахманинова, Стравинского, Прокофьева и Метнера. Скрябинское наследие оказалось востребованным советскими идеологами еще и потому, что музыкальный язык его произведений олицетворял чаяния и устремления начала века: разрушение старого и возведение нового искусства. Уже на первом праздновании годовщины Октября на сцене Большого театра была исполнена Симфоническая поэма «Прометей». По воспоминаниям дирижировавшего концертом Эмиля Купера, она увлекла самого В. И. Ленина. (11) Нарком просвещения А. Луначарский, предваряя один из концертов с музыкой Скрябина, сказал, что она «учит не бояться страданий, не бояться смерти, но верить в победную жизнь духа». И позже, даже при всех оговорках, он продолжал настаивать на том, что «Скрябин нам сугубо нужен». В 1925 году в статье «Танеев и Скрябин», приуроченной к десятилетию со дня смерти обоих композиторов, Луначарский писал об этом предельно вдохновенно: «Мы, как революционеры, можем ждать еще в будущем титанических песен революционной страсти, но пока не только в русской музыке, но, может быть, и в мировой не найдем более страстного музыкального языка, чем язык Скрябина в таких его произведениях, как „Прометей“ и ему подобные». (12)