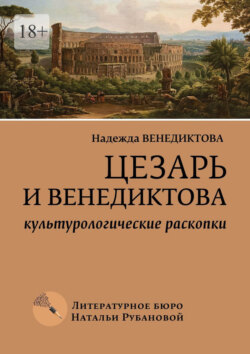Читать книгу Цезарь и Венедиктова. Культурологические раскопки - Надежда Юрьевна Венедиктова - Страница 6
Страсти по Европе
Палка о двух концах
Австрия
ОглавлениеЛегкомысленная репутация австрийской столицы зародилась в начале девятнадцатого столетия, когда в эпоху Штраусов и Венского конгресса в городе было несколько танцзалов – 50 тысяч венцев из разных социальных слоев вальсировали каждый вечер; Фрейд с бессознательным и вывалившейся из него разномастной компашкой тоже не особо укрепил репутацию города, но все же придал ей респектабельный демонизм; художник Оскар Кокошка, сидевший в театральной ложе с куклой-двойником любимой женщины, снова выкинул флаг творческого легкомыслия и отодвинул в глубокую тень научно-технические достижения австрийцев – от первого транспортного средства на бензине до квантовой телепортации.
«Поцелуй» Климта и вовсе стал художественным клише, общительным, как студент, голосующий на дороге – особенно это заметно в дешевых апартаментах для туристов по всей Европе, где «Поцелуй» почти вытеснил Мэрилин Монро и стал визитной карточкой романтического путешествия в заслуженный отпуск.
Если пустить штампы по ветру, Вена уютна, и даже центр имперского замеса смотрится, как добродушный вояка, давно ушедший на покой – гармония всадника и лошади среди помпезных дворцов навевает давно выцветшую ностальгию по прошлому, тоже уютную и ни к чему не обязывающую…
* * *
На самом деле этот пышный торт с вишенкой, оставшийся от Австро-Венгерской монархии, не так прост, как кажется, когда гуляешь по Рингштрассе или сидишь в Венской опере.
Много лет назад наткнулась на анонс статьи под названием «Австро-Венгрия как опытная станция конца света» – оказывается, бывшие подданные этой империи оспаривали у наших предков честь присутствовать при конце света!
Хотя разве можно сравнить их постимперский раздрай с нашим полным развалом всего и вся, когда Первая мировая перешла в революцию, а потом в ожесточенную гражданскую войну и голод, когда большевики пустили под откос ценность человеческой жизни и начали эксперимент, уничтоживший большую часть активных граждан и до сих пор отзывающийся в наших буднях.
Эта разница отчетливо видна в творчестве двух титанов, рожденных двадцатым веком для самопознания, ибо время тоже хочет заглянуть себе под юбку и распять себя на кресте, чтобы остаться в истории.
Роберт Музиль в романе «Человек без свойств» описывает распад Австро-Венгрии, но это лишь фон для объемно-ожесточенной рефлексии главного героя, у которого уже нет доверия к культуре и к самому себе, и потому он мысленно проедает насквозь все происходящее, превращая реальность в зыбкую субстанцию, ускользающую при любой попытке вызвать ее на откровенность…
Платонов описывает бездну, в которую рухнуло сознание, лишившись всех привычных опор и обольстившись прекрасной химерой, за реализацию которой отвечали люди в кожанках, железной рукой загонявшие человечество к счастью, попутно решая собственные проблемы.
У них рефлексия, у нас – тектонический сдвиг в сознании.
Ни в Австрии, ни в России эти авторы до сих пор не оценены по достоинству и витают в смутном бульоне дистанционного уважения; рефлексия австрийского математика и бездна советского инженера слились в порыве интеллектуального ветра, до сих пор остающегося бездомным.
* * *
Любой город становится почти родным, когда тебя опускают в глубь местной жизни хотя бы ненадолго, и в Вене этот дружеский фокус проделала с моим братом и мной Дагмар Райхерт, австриячка, в 29 лет переехавшая в Швейцарию, ныне профессор Цюрихской школы искусств.
Отца Дагмар после аншлюса быстро отправили на Восточный фронт в составе гитлеровской армии; попав в плен, он оказался в азербайджанском лагере, рядом с городом Мингечаур. Он выжил, а в благодарность за это в самом начале третьего тысячелетия уже набравшая жизненный опыт и профессиональный вес Дагмар организовала благотворительный фонд и начала работать на Кавказе, пытаясь содействовать разрешению конфликтов с помощью искусства.
Мы познакомились в Сухуме и сразу совпали – редчайший случай, может быть, даже единственный, когда я не ощущаю ни малейшей разницы между представителем другой культуры и собой во взглядах, реакциях, жестах и так далее, хотя у нас разные способы существования, опыт, темпераменты и прочее. В нашем случае человеческое оказалось весомее культурно-исторических различий – реальность плутовски улыбнулась и смела надстройку, как шелуху!
Весной 2015 года Дагмар Райхерт пригласила нас с братом в Вену, где мы еще не были, и познакомила с сестрами – это был чудесный сюрприз, ибо мы увидели, как комфортно и неожиданно можно устроиться в огромном городе, обладая скромным бюджетом, страстной любовью к природе и технической смекалкой, видимо, унаследованной от отца, который дополнял скудный паек военнопленного, продавая свои поделки из подручного мусора.
У обеих сестер квартиры на пятых этажах в средне-благополучных районах; они умудрились устроить на крышах зимние сады, куда выходишь прямо из комнаты – у Астрид, младшей, работающей врачом в полиции и делающей вполне профессиональные скульптуры из мрамора, растет даже полноценное дерево. Выходя, ты попадаешь в пространство личного уюта, совмещенного с небом и горизонтом, где крыши разного фасона общаются между собой, порождая верхнюю Вену, столицу воздушного изящества с флюгерами, кокетливыми окнами и цветочными горшками.
Чуть позже выяснилось, что у самой Дагмар в Цюрихе изумительный лофт, переоборудованный из чердака – простор, комфорт, целесообразность, лаконичность отделки и ощутимый дух цивилизованного индивидуализма; а на пристроенном балконе роскошная глициния, тянущая с земли на пятый этаж свое мощное, как у удава, тело. Сестры перекликаются над землей и крышами, образуя между странами семейное общение воздушной выделки.
Следующий фокус был еще выразительнее, ибо в течение нескольких дней произошла забавная смена личной оптики.
Пару раз использовав венское метро, мы не заметили ни одного сотрудника метрополитена ни на входе, ни на выходе, ни на станциях; в городском транспорте мы только один раз встретили контролеров, и те деликатно раздавали конфетки в обмен на показанный билет; в целом у нас сложилось впечатление, что австрийцы слишком либеральны в этом отношении, и мы даже отпустили несколько дурацких шуток в адрес местного идеализма.
Наконец мы все трое сели в утренний поезд до Цюриха – до границы со Швейцарией не было ни одного контролера, но как только въехали в Швейцарию, тут же нарисовались двое, а через два часа появилась вторая пара подтянутых и серьезных личностей в мундирах. Этот контраст изумил нас, и мы обратились к Дагмар за разъяснениями.
Выяснилось, что между швейцарским и австрийским менталитетом есть принципиальная разница в отношении к государственному контролю. Австрийцы долго жили в империи, до сих пор находятся в оппозиции к власти и даже элементарную проверку билетов в транспорте воспринимают негативно, поэтому контролеры в венских трамваях раздают конфетки, а в метро сотрудники почти невидимы. Швейцарцы же так давно гордятся своими гражданскими свободами, что считают доблестью пройти контроль без раздражения и с достоинством.
Две страны-соседки – население по восемь миллионов, говорят в основном по-немецки, интенсивный культурный и торговый обмен, а инерция прошлого до сих пор диктует стереотипы поведения – захватывающее упорство менталитета расцвело у нас перед глазами и подмигнуло по-приятельски.
* * *
В тот раз Вене в мы с братом жили в четырехкомнатной просторной квартире недалеко от центра – две комнаты были закрыты, но у каждого из нас имелась своя территория с матрасом на полу. В огромной столовой, где кухня отгораживалась барной стойкой, можно было танцевать, места хватило бы на кучу гостей. Минимум мебели и аксессуаров, аскетизм умеренной заброшенности, в общем-то характерный для посуточной аренды жилья.
В моей комнате была изюминка – поясной портрет мужчины зрелого возраста, судя по одежде, выполненный в начале прошлого века; сухой, добротный реализм, не отзывающийся даже в деталях на кипящее вокруг новаторство и обилие «измов».
Засыпая и просыпаясь под взглядом портрета, я постепенно проникалась его участью – его не продали, не подарили, не выкинули; невостребованность солидного венца интриговала – было в этом нечто мистически-эпохальное, будто история пронеслась мимо, даже не заметив его; наслаивалась атмосфера цвейговских рассказов с привкусом шоколадного торта и шницеля на крутых поворотах флирта и измен, не знающих себе цену.
Возможно, он сам заказал свой портрет, не довольствуясь фотографией и рассматривая живопись как менее расхожий вариант – во всяком случае, выражение лица не казалось банальным или самодовольным, соседствовать с ним было познавательно, ибо вынуждало к догадкам; заброшенный человеческий колодец, спускаясь в который, находишь капли живой воды, выступающей на стенках с цепкостью плюща.
Живой, импозантный город и одинокий портрет – очередной незаметный диалог, вброшенный в твое сознание, благодарно втягивающее неизмеримую сложность жизни и истории.
* * *
Зальцбург – прелестный городишко: мы приехали туда в апреле 2016-го, сразу после католической пасхи, и поэтому пасхальные кролики бродили буйными толпами, слегка оттеснив даже всплески современного искусства.
Но ничто и никто не может конкурировать здесь с Моцартом, которого употребляют как приправу ко всем блюдам – сначала это забавляет, а потом быстро набивает оскомину; но когда натыкаешься на фанерное изображение композитора, приглашающего – в низком поклоне – посетителей в очередное кафе, уже корежит от амикошонства с непристойно-плотоядным послевкусием.
У нас есть рестораны «Пушкин», но пока еще не додумались использовать национального гения в качестве зазывалы, хотя, возможно, просто не хватило смекалки и пороху; учитывая резвость предпринимательской инициативы, пора уже вдогонку закону об охране интеллектуальной собственности принять закон о защите чести и достоинства покойников, на популярности которых можно грести деньги лопатой!