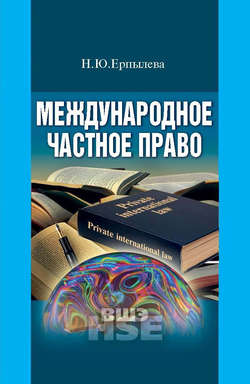Читать книгу Международное частное право - Наталия Ерпылева - Страница 8
Часть 1
Коллизионное регулирование в международном частном праве
1 Глава
Предмет, метод и источники международного частного права
§ 2. Источники международного частного права
2. Понятие и основные виды источников международного частного права
Оглавлениеа) Внутригосударственное законодательство
Внутригосударственное законодательство как источник МЧП может быть представлено в двух формах: в форме единого кодифицирующего акта (чаще всего закона о МЧП) либо в форме комплекса правовых норм, рассредоточенных по различным отраслям законодательства. На территории России ранее в качестве внутригосударственного акта, содержащего нормы МЧП, действовали Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 г.[40] (далее – Основы). Раздел VII Основ «Правоспособность иностранных граждан и юридических лиц. Применение гражданских законов иностранных государств и международных договоров» утратил силу после принятия части третьей ГК РФ, содержащей разд. VI «Международное частное право» и вступившей в силу с 1 марта 2002 г. В большинстве государств нормы МЧП содержатся в различных отраслях внутреннего права и, следовательно, в различных нормативных актах.
Ряд государств имеют единые кодифицирующие акты в области МЧП. К ним относятся: Австрия, Азербайджан, Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Грузия, Италия, КНР, Лихтенштейн, Македония, Польша, Сербия, Словакия, Словения, Тунис, Турция, Украина, Черногория, Чехия, Швейцария, Эстония, Южная Корея. Следует отметить, что в современных условиях определяющей тенденцией в развитии кодификации норм МЧП является разработка и принятие кодексов международного частного права, что не может не заслуживать всяческого одобрения. В число государств, принявших единый кодекс, входят Тунис (Кодекс международного частного права 1998 г.), Бельгия (Кодекс международного частного права 2004 г.), Болгария (Кодекс международного частного права 2005 г.) и Турция (Кодекс международного частного права 2007 г.).
Как справедливо отмечал А. Л. Маковский, в разд. VI ГК РФ получила формальное выражение та система норм коллизионного права, которая была создана еще в Основах 1961 г., однако в нормах ГК РФ проявились по крайней мере четыре новых принципиально важных аспекта регулирования отношений, подпадающих под действие гражданского законодательства. Во-первых, в ст. 1186 ГК РФ впервые в отечественном законодательстве были определены те условия, при наличии которых только и возможно применение в пределах российской юрисдикции права другого государства к отношениям, регулируемым гражданским законодательством (ст. 2 ГК РФ). Таких условий два: 1) осложнение соответствующего отношения иностранным элементом; 2) необходимость применения к этому отношению иностранного права в силу одного из трех оснований – международного договора РФ, российского федерального закона либо признаваемого в России обычая.
Во-вторых, увеличение в ГК РФ объема и углубление детализации правового регулирования отношений, осложненных иностранным элементом, по сравнению с прежним законодательством ясно показали, что применение к этим отношениям иностранного права является для российского законодательства не случайностью, а проявлением определенной закономерности и, следовательно, основано на мотивах принципиального характера. В-третьих, в ГК РФ коллизионное регулирование отношений, осложненных иностранным элементом, стало значительно более либеральным по сравнению с предшествующим законодательством, возможности применения иностранного права в рамках отечественного правопорядка существенно расширились. Это проявилось в увеличении числа двусторонних и, что еще важнее, диспозитивных коллизионных норм (последнее означает предоставление большего поля действия принципу автономии воли), в ограничении действия оговорки о публичном порядке и правил о взаимности. В-четвертых, в ГК РФ предусмотрено значительно более гибкое, чем прежде, решение коллизионных вопросов, так как в основу многих из них положен принцип наиболее тесной связи отношения, осложненного иностранным элементом, с правом определенной страны[41].
Говоря о необходимости принятия самостоятельного нормативного акта в области МЧП, Н. Г. Доронина и Н. Г. Семилютина отмечают, что несмотря на принятие разд. VI части третьей ГК РФ «Международное частное право», отвечающего в целом современным требованиям кодификации правового регулирования гражданско-правовых отношений, которые возникают в сфере международного общения, недостатки достигнутого уровня кодификации требуют продвижения вперед в указанном направлении. Серьезным аргументом в пользу разработки специального закона является то обстоятельство, что бо́льшую часть международных частных отношений составляют международные экономические отношения, в регулировании которых существенное значение придается общим нормам МЧП. Преобладающая роль общей части в разд. VI ГК РФ может быть реализована в полной мере при принятии закона о международном частном праве как специального законодательного акта, имеющего в своей структуре и общую часть, выражающую основные принципы регулирования отношений с иностранным элементом, и специальную часть, содержащую отдельные коллизионные нормы. Такой подход позволит в наибольшей степени обеспечить адекватное регулирование в условиях глобализации международных экономических отношений, защитить интересы государства в инвестиционных спорах[42].
Подводя итог вышеизложенному, можно сделать некоторые теоретические обобщения. Кодификация законодательства с позиции теории права представляет собой одну из разновидностей его систематизации (наряду с инкорпорацией и консолидацией). Систематизация законодательства направлена на упорядочение комплекса нормативно-правовых актов в целях обеспечения их наиболее эффективного использования. Как справедливо отмечалось в научной литературе, кодификация представляет собой наиболее сложную и совершенную форму систематизации, направленную на коренную переработку действующего законодательства. С этой точки зрения существует три пути кодификации норм МЧП:
1) в различных разделах общего материально-правового акта;
2) в отдельных разделах отраслевых законодательных актов;
3) в едином специализированном законе.
В данном контексте консолидация, имеющая целью устранение множественности нормативно-правовых актов, их унификацию и создание в структуре законодательства крупных однородных блоков, представляет собой важнейшее звено или смычку между правотворчеством и кодификацией[43]. Совершенно очевидно, что Россия выбрала второй путь кодификации норм МЧП, предполагая их сосредоточение в отдельных разделах отраслевых законодательных актов (разд. VI ГК РФ; разд. VII СК РФ; разд. V АПК РФ; разд. V ГПК РФ; гл. XXVI КТМ РФ). В свете сказанного можно согласиться с мнением И. С. Зыкина о том, что «раздел VI ГК РФ служит этапной вехой в развитии российского МЧП, так как законодателю удалось найти баланс между гибкостью и определенностью регулирования не в ущерб его адекватности»[44]. Между тем, на наш взгляд, сложились все предпосылки для перехода к третьему пути кодификации норм МЧП и принятию специального закона о международном частном праве либо, что лучше всего, отдельного кодекса международного частного права России. Однако законодатель пошел по иному пути, внеся лишь изменения, пусть и существенные, в действующий раздел VI части третьей ГК РФ в процессе проведения масштабной реформы российского гражданского законодательства. Основные внесенные изменения сводятся к следующему:
1) обновлено понятие сверхимперативных норм, получивших ныне название «нормы непосредственного применения», что позволило провести их однозначное отграничение от императивных норм в правовой системе какого-либо государства (ст. 1192 ГК РФ);
2) уточнено понятие оговорки о публичном порядке в целях устранения практики неоправданного обращения к этой защитной оговорке, а также более точного определения того, что понимается под российским публичным порядком в контексте регулирования отношений, осложненных иностранным элементом (ст. 1193 ГК РФ);
3) расширен личный статут юридического лица путем включения в него вопросов ответственности учредителей и участников юридического лица по его обязательствам, а также введена субсидиарная односторонняя коллизионная привязка. Согласно последней, если учрежденное за границей юридическое лицо осуществляет свою предпринимательскую деятельность преимущественно на территории Российской Федерации, к требованиям об ответственности по обязательствам юридического лица его учредителей (участников), других лиц, которые имеют право давать обязательные для него указания или иным образом имеют возможность определять его действия, применяется российское право либо по выбору кредитора личный закон такого юридического лица (п. 4 ст. 1202 ГК РФ);
4) нормы о праве, подлежащем применению к вещным правам, в целях достижения большей определенности коллизионного регулирования дополнены перечнем конкретных вопросов, которые решаются на основе указанного права (вещного статута – ст. 1205.1 ГК РФ), как это сделано при определении сферы действия личного статута юридического лица (п. 2 ст. 1202 ГК РФ), а также права, подлежащего применению к договорным обязательствам (договорного статута – п. 1 ст. 1215) и к деликтным обязательствам (деликтного статута – ст. 1220 ГК РФ);
5) отменена односторонняя коллизионная норма об обязательной письменной форме внешнеэкономической сделки, хотя бы одной из сторон которой выступает российское юридическое лицо. Отныне форма сделки подчиняется праву страны, подлежащему применению к самой сделке. Однако в соответствии с принципом favor negotii вводится кумулятивная коллизионная норма, согласно которой достаточно соблюдения права страны места совершения сделки для признания ее юридически действительной (п. 1 ст. 1209 ГК РФ);
6) упрощена и детализирована структура ст. 1210 и 1211 ГК РФ, касающихся реализации принципа автономии воли сторон договорного обязательства и определения права, подлежащего применению к договору в отсутствие его выбора сторонами договора. При этом в качестве основной коллизионной привязки сохранен принцип применения права той страны, где на момент заключения договора находится место жительства или основное место деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора (п. 1 ст. 1211 ГК РФ);
7) расширен круг внедоговорных обязательств, в отношении которых предусматривается коллизионное регулирование. В их число включаются коллизионные нормы относительно так называемой преддоговорной ответственности (culpa in contrahendo), т. е. обязательств, возникающих вследствие недобросовестного ведения переговоров о заключении договора (ст. 1222.1 ГК РФ);
8) расширены возможности выбора сторонами внедоговорного обязательства применимого права путем включения в сферу действия принципа автономии воли обязательств, возникающих вследствие причинения вреда или вследствие неосновательного обогащения (ст. 1223.1 ГК РФ); разрешен вопрос о соотношении договорного и деликтного статутов в ситуации причинения вреда, тесно связанного с договорными отношениями между сторонами (п. 3 ст. 1219 ГК РФ);
9) потерпевшему по-прежнему предоставлены три варианта выбора права, применимого к ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги, однако отныне такой выбор не зависит от согласия причинителя вреда на поступление товара в соответствующую страну. Ему достаточно доказать, что он не предвидел и не должен был предвидеть распространение товара в соответствующей стране (п. 1 ст. 1221 ГК РФ);
10) сформулированы абсолютно новые коллизионные нормы, регулирующие выбор права, применимого к переходу прав кредитора к другому лицу на основании закона (ст. 1216.1 ГК РФ); к отношениям представительства (ст. 1217.1 ГК РФ); к прекращению обязательства зачетом (ст. 1217.2 ГК РФ); к установлению допустимости требования о возмещении вреда страховщиком (ст. 1220.1 ГК РФ).
б) Международные договоры
Международные договоры как источник МЧП приобретают все большее значение в современную эпоху. Это связано в первую очередь с тем объективным обстоятельством, что они являются надежным и перспективным инструментом международной унификации как коллизионно-правовых, так и материально-правовых норм МЧП. Удельный вес международных договоров в общем спектре всех источников МЧП неуклонно возрастает, что обусловлено закономерностями развития международных экономических, научно-технических и культурных связей. Международные договоры могут быть классифицированы следующим образом:
• двусторонние и многосторонние договоры;
• универсальные и региональные договоры.
Двусторонние договоры заключаются только двумя государствами и действуют исключительно в их взаимных отношениях. К числу таких договоров с участием России относятся договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам (например, Договор между Российской Федерацией и Республикой Индией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и торговым делам от 3 октября 2000 г.[45]); договоры о поощрении и взаимной защите иностранных инвестиций (например, Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индонезия о поощрении и защите капиталовложений от 6 сентября 2007 г.[46]).
В многосторонних договорах участвуют несколько государств, принимающих взаимные обязательства. Чем шире круг государств-участников, тем выше эффективность применения заложенных в договоре норм и принципов. К числу многосторонних договоров относятся Венская конвенция ООН 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров (81 государство-участник); Брюссельская конвенция 1924 г. об унификации некоторых правил о коносаменте (75 государств-участников); Нью-Йоркская конвенция ООН 1958 г. о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (150 государств-участников).
Универсальные договоры включают в состав государств-участников государства, принадлежащие к различным регионам земного шара, к различным социально-политическим и правовым системам. Признак универсальности позволяет существенно расширить круг субъектов, участвующих в таких договорах, ибо не предполагает введения каких-либо ограничений территориального или иного характера. В качестве универсальных международных договоров выступают, например, Бернская конвенция 1886 г. об охране литературных и художественных произведений; Парижская конвенция 1883 г. по охране промышленной собственности; Монреальская конвенция ИКАО 1999 г. для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок.
К региональным международным договорам относятся те договоры, которые приняты и действуют в пределах одного региона, как правило, в рамках региональной интеграционной группировки государств. В качестве примеров можно привести Брюссельское соглашение ЕС об Объединенном патентном суде от 19 февраля 2013 г., которое действует на территории государств – членов Европейского Союза. В рамках другой интеграционной группировки – Содружества Независимых Государств – разработан, принят и применяется целый комплекс договоров многостороннего характера, к числу которых относятся, например, Бишкекское соглашение СНГ 1992 г. о взаимном признании прав и регулировании отношений собственности; Минская конвенция СНГ 1993 г. о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам; Московская конвенция СНГ 1997 г. о защите прав инвестора.
Несмотря на кажущуюся ясность вопроса отнесения международного договора к числу источников МЧП, сама его постановка приводит к жарким дискуссиям среди ученых по поводу места международного договора в системе источников МЧП и юридической природы норм, в нем содержащихся. Одни авторы (Л. А. Лунц, И. С. Перетерский, М. М. Богуславский) указывают на применение норм международных договоров для регулирования внутригосударственных отношений только после их «трансформации» в нормы внутреннего права, другие (С. Б. Крылов, Л. Н. Галенская, А. И. Минаков) допускают возможность непосредственного применения международных договорно-правовых норм при регулировании отношений между субъектами внутригосударственного права.
Сущность теории трансформации сводится к преобразованию между народно-правовых норм в нормы внутригосударственного права. Необходимость трансформации, по мнению ее приверженцев, обусловлена тем, что международный договор не может иметь непосредственного действия на территории государства в силу распространения на таковую суверенитета данного государства в полном объеме, что означает фактическую невозможность реализации воли иного государства или иных государств, пусть даже и согласованной, в пределах этой территории. Е. Т. Усенко выделял два способа трансформации международно-правовых норм в нормы внутригосударственные. Первый – генеральная трансформация – заключается в установлении государством в своем внутреннем праве общей нормы, придающей международно-правовым нормам силу внутригосударственного действия. Второй – специальная трансформация – состоит в придании государством конкретным нормам международного права силы внутригосударственного действия путем их воспроизведения в законе текстуально либо в виде положений, адаптированных к национальному праву, или путем законодательного выражения согласия на их применение иным способом[47].
Близкая по смыслу, но весьма специфичная по форме точка зрения была высказана Г. М. Вельяминовым. Он рассматривает трансформацию как категорию более узкую по отношению к категории рецепции, оперируя которой можно определить место международного договора в системе источников МЧП. По мнению Г. М. Вельяминова, договорная международно-правовая норма (например, из той или иной конвенции МЧП, но в принципе из любого международного договора) применяется, только будучи реципированной (а именно трансформированной (термин более узкий)) в национальном правопорядке. Норма эта становится также внутригосударственной нормой, а по своему предмету – нормой конкретной отрасли национального права, например гражданского. Однако при этом сохраняется и действенность как таковой международно-правовой нормы, идентичной по формулировке (но не по правовому значению) норме реципированной. Если, будучи реципированной в национальный правопорядок, норма регулирует отношения национальных субъектов права, то международно-правовая норма как таковая продолжает регулировать межгосударственные отношения, а именно обязательства государств друг перед другом, во-первых, реципировать данную норму в свое национальное законодательство и, во-вторых, обеспечивать соблюдение этой нормы в своем правопорядке[48].
С таким пониманием норм международного договора как источника МЧП не согласна Л. П. Ануфриева. По ее мнению, правило поведения, сформулированное в международном договоре и предназначенное для субъектов внутригосударственного права, не является правовой нормой; это так называемая «преднорма» или, другими словами, «разросшаяся часть диспозиции международной нормы-обязательства», которая станет таковой только в результате придания ей юридической силы со стороны государства, необходимой для действия во внутригосударственном праве. Таким образом, никакой трансформации нормы в норму не происходит, а происходит санкционирование государством «преднормы», содержащейся в международном договоре, в результате чего она становится нормой внутригосударственного права[49].
Теория трансформации была подвергнута серьезной критике со стороны ряда юристов-международников, полагавших, что нормы МЧП входят в состав международного права в широком смысле слова, и рассматривавших международное договорное право как основную составную часть МЧП. Как писал С. Б. Крылов, «лишь изучение международных договоров дает содержание подлинного международного частного права»[50]. По мнению А. И. Минакова, неверно считать, что согласованная воля не может быть направлена на регулирование внутригосударственных отношений. Как известно, всякая норма, чтобы быть таковой, должна обладать государственно-властным характером, т. е. исходить от государства или государств. С этой точки зрения как нормы внутригосударственные, так и нормы международных договоров выражают государственную волю: в одном случае это воля одного государства, в другом – согласованная воля. Норма международного договора сама по себе не является нормой внутригосударственного права, однако это не означает, что она не может регулировать внутригосударственные отношения[51].
Близкая к вышеизложенной точка зрения была высказана Е. В. Корчиго и Д. Б. Катковым, которые полагают, что содержание международного договора по вопросам МЧП составляет обязательство государств-участников обеспечить регулирование соответствующих отношений таким образом, как это предусмотрено в международном договоре. Ратифицируя международный договор, государство принимает на себя данное обязательство, исполнение которого осуществляется им только одним из двух способов правотворчества: путем издания внутреннего закона, содержание которого должно соответствовать международному договору (инкорпорация), либо путем создания норм, придающих правилам поведения, сформулированным в международном договоре, юридическую силу (отсылка). Отсылка, в свою очередь, может быть общей (как, например, содержащаяся в п. 4 ст. 15 Конституции РФ норма о том, что если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора, – генеральная рецепция, по терминологии Г. М. Вельяминова) и специальной, отсылающей к конкретному международному соглашению[52].
Еще более определенно по данному вопросу высказался В. Г. Храбсков: каким бы способом ни осуществлялось санкционирование материально-правовых норм государством и доведение их до национальных субъектов, они могут в результате получить лишь национальную оболочку, однако их юридическая сущность как норм международного права от этого не меняется. Их толкование, восполнение пробелов не могут происходить на основе норм национального права, сама их цивилистическая терминология, созданная на основе указанного выше процесса заимствования, отлична от национальных норм. Сама их международно-правовая сущность, выраженная в правовых предписаниях, является той основой, на которой осуществляется регулирование прав и обязанностей сторон в соответствующих отношениях. Таким образом, подлинным источником здесь выступает международно-согласованная норма, а не ее национальная оболочка, которой может вообще не быть, если по праву данной страны для вступления в силу договорных норм достаточно простого акта ратификации, поэтому суждения, что все источники в международном частном праве национальны, не соответствуют действительности[53].
Проанализировав вышеизложенные точки зрения, можно сделать следующий вывод. На наш взгляд, вряд ли возможно говорить о трансформации норм международного договора в нормы внутригосударственного права. Договорная норма остается таковой и в случае прямой отсылки к ней внутреннего права, и в случае ее прямой инкорпорации в национальную правовую систему. С этой точки зрения представляется маловероятным расценивать норму международного договора как некую «преднорму», подлежащую трансформации в действующую норму национального МЧП каждого отдельно взятого государства. Формулируя текст международного договора как источника МЧП, государства согласовывают свои воли относительно содержания входящих в его структуру норм, которое никоим образом не может быть изменено при дальнейшем их применении.
Ратифицируя международный договор как источник МЧП (или присоединяясь к нему), государства выражают свою волю на признание содержащихся в нем норм в качестве юридически обязательных, ибо соглашаются применять их к соответствующим международным частным отношениям. Таким образом, после вступления международного договора в силу его государства-участники несут юридическую обязанность применять в надлежащих случаях его нормы. Инкорпорация договорных норм во внутригосударственную правовую систему или их непосредственное применение в силу отсылки национального права, по сути, представляют собой разные пути реализации юридической обязанности государств – участников международного договора по применению содержащихся в нем норм. Подтверждение этому можно найти в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия»[54], где говорится, что положения официально опубликованных договоров РФ, не требующие издания внутригосударственных актов для применения, действуют в Российской Федерации непосредственно. В иных случаях наряду с международным договором РФ следует применять и соответствующий внутригосударственный правовой акт, принятый для осуществления положений указанного международного договора. Из данной позиции Верховного Суда прямо напрашивается вывод о том, что договорная норма совершенно самостоятельна по отношению к норме внутригосударственной, и речь может идти о применении сразу двух норм – и договорной, и национальной, причем если содержание договорной нормы отличается от содержания национальной нормы, то надлежит применять договорную норму (п. 4 ст. 15 Конституции РФ). Более того, отличие договорной нормы от норм внутреннего права Верховный Суд расценил как квалифицирующий признак непосредственного применения договорной нормы в правовой системе России.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации»[55] речь идет о том, что международные договоры, которые имеют прямое и непосредственное действие в правовой системе РФ, применимы судами при рассмотрении гражданских дел, если международным договором РФ установлены иные правила, чем законом РФ, который регулирует отношения, ставшие предметом судебного рассмотрения (абз. 1 ч. 1 п. 5). Правила действующего международного договора РФ, согласие на обязательность которого было принято в форме федерального закона, имеют приоритет в применении в отношении законов РФ. Правила действующего международного договора РФ, согласие на обязательность которого было принято не в форме федерального закона, имеют приоритет в применении в отношении подзаконных нормативных актов, изданных органом государственной власти, заключившим данный договор (п. 8). Будучи включенными в состав национальной правовой системы в силу прямого указания внутреннего законодательства (в частности, п. 4 ст. 15 Конституции РФ), договорные нормы не приобретают внутригосударственного характера и в силу этого не могут быть изменены односторонним волеизъявлением государства, их реципировавшего, оставаясь неуязвимыми для модификации по воле законодателя.
Таким образом, договорные нормы продолжают жить в составе национальной правовой системы, сохраняя свою международно-правовую природу и содержательную структуру. Источником этих норм выступают именно международный договор и согласованные воли его государств-участников, а никак не волеизъявление одного государства, которое соглашается применять указанные нормы на своей территории. В данном контексте и отсылка к международному договору, и инкорпорация его норм во внутреннее право есть форма реализации международно-правового обязательства государства – участника такого договора по имплементации его норм. Принимая обязательство применять нормы международного договора к соответствующим международным частноправовым отношениям, государство допускает тем самым функционирование в пределах его суверенной территории не только его воли, воплощенной во внутреннем праве, но и воли (пусть и согласованной) других суверенных государств. По юридическим последствиям возможность применения международных договорных норм аналогична возможности применения на территории данного государства норм иностранного права, воплощающего волеизъявление чуждой публичной власти. Обе ситуации возможны в силу прямого указания национального права, выраженного либо в форме правила о включении норм международного договора в систему внутреннего права, либо в форме наличия коллизионных норм в составе национального законодательства.
в) Международные обычаи
Международные обычаи как источник МЧП занимают особое место в иерархии источников. Совершенно очевидно, что по удельному весу и значимости обычаи уступают место внутригосударственному законодательству и международным договорам, однако в целом ряде случаев они незаменимы в качестве правового регулятора. Особенно велико значение международных обычаев при проведении международных расчетных операций, при осуществлении международных коммерческих сделок, при выполнении международных морских перевозок. Как отмечалось выше, сложившиеся в практической деятельности обычаи и обыкновения делового оборота подвергаются неофициальной систематизации в рамках Международной торговой палаты, результатом которой являются сборники унифицированных правил и обычаев. Следует отметить, что юридическую силу имеет не сам сборник как публикация МТП под определенным номером, а нормы, в нем содержащиеся. К числу таких неофициальных систематизаций относятся, например, Международные правила МТП по унифицированному толкованию торговых терминов (ИНКОТЕРМС) в ред. 2010 г.
К иным источникам МЧП можно отнести прецедентное право, складывающееся в судебно-арбитражной практике, и нормативно-правовые акты международных организаций. Прецедентное право выступает в качестве источника МЧП главным образом в странах англосаксонской правовой системы и в силу этого не имеет такого общепризнанного значения, как международные договоры, хотя справедливости ради следует отметить, что и в странах романо-германской системы права, традиционно ориентированных на внутригосударственное законодательство в широком смысле слова, наблюдается пристальное внимание к прецедентному праву и попытки сориентироваться в нормотворческой деятельности на достижения, примеры и выводы судебно-арбитражной практики.
Что касается нормативно-правовых актов международных организаций как источников МЧП, то совершенно очевидно, что они будут применяться только на территории государств – участников той международной организации, в рамках которой они приняты. В качестве примера можно привести следующие регламенты Европейского Союза по вопросам международного частного права:
• Регламент ЕС № 2201/2003 «О юрисдикции, признании и приведении в исполнение судебных решений по семейным делам и по делам об ответственности родителей» от 27 ноября 2003 г. (Брюссель II bis);
• Регламент ЕС № 1393/2007 «О вручении в государствах-членах судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам (вручение документов)» от 13 ноября 2007 г.;
• Регламент ЕС № 864/2007 «О праве, применимом к внедоговорным обязательствам» от 11 июня 2007 г. (Рим II);
• Регламент ЕС № 593/2008 «О праве, применимом к договорным обязательствам» от 17 июля 2008 г. (Рим I);
• Регламент ЕС № 4/2009 «О юрисдикции, применимом праве, признании и приведении в исполнение решений и о сотрудничестве по делам, относящимся к алиментным обязательствам» от 18 декабря 2008 г.;
• Регламент ЕС № 1259/2010 «О расширенном сотрудничестве в области права, применимого к разводу и правовому разлучению супругов» от 20 декабря 2010 г.;
• Регламент ЕС № 650/2012 «О юрисдикции, применимом праве, признании и приведении в исполнение решений, о принятии и приведении в исполнение аутентичных инструментов по делам о наследовании и о создании Европейского сертификата о наследовании» от 4 июля 2012 г.;
• Регламент ЕС № 1215/2012 «О юрисдикции, признании и приведении в исполнение судебных решений по гражданским и торговым делам» от 12 декабря 2012 г. (Брюссель I bis).