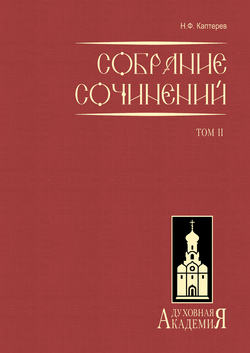Читать книгу Собрание сочинений. Том 2 - Николай Каптерев - Страница 5
Сношения иерусалимских патриархов с русским правительством с половины XVI до конца XVII столетия[1]
Глава 3
Сношения патриарха Паисия с русским правительством
Оглавление[С. 116] Первого декабря 1645 года в Москву прибыл сербский митрополит Симеон, который привез государю известительную грамоту от нового Иерусалимского патриарха Паисия, писанную 18 июля 1645 года. Эта грамота Паисия начинается так:
«Трисолнечная и светоначальная Троица, Бог наш: Отец, Сын и Святый Дух, всю тварь премудростью сотвори неизчетною своею благостью, Его же славят немолчными устнами со страхом и трепетом многоочитая Херувим и шестокрыльная Серафим и все Небесные Силы; тож и мы на земли, вкупе с ними, недостойными устами поем, и благословляем, и кланяемся, славословим, и глаголем: сей есть Бог наш, а мы людие Его, яко умножи милость Свою на нас и восприя нас неизчетными человеколюбия чудесы и показа нам путь спасению, о Нем же живем и движемся и есмы, Ему слава и держава во веки. Аминь от Бога Вседержителя и Господа нашего Иисуса Христа».
После такого вступления Паисий извещает государя о смерти Феофана, «оставившаго святейший и апостольский престол без наследника, без пастыря [С. 117] и учителя», вследствие чего, согласно древним преданиям святых отцов и церковному чину, составился Собор из преосвященных митрополитов, архиепископов и епископов, преподобных архимандритов и игуменов для выбора и поставления нового патриарха. «Святый архиерейский весь Собор, милостью всеблагаго Бога, избрали и нарекли по закону и церковному преданию меня, богомольца святаго великаго вашего царствия – инокосвященника Паисия, бывшаго игумена в божественной и государской обители у Вознесения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, пребывающаго в молдавской земле в Яссах, по повелению благочестиваго и пресветлаго государя Василия, воеводы всея молдавские земли, о Духе сына возлюбленнаго нашего смирения и вернаго друга святаго великаго вашего царствия. И благодатью Пресвятаго Духа стал есми патриархом природным на святом и апостольском престоле Святого Града Иерусалима, месяца марта в 23 день, в воскресной день, в божественной и государской обители иже во святых отец наших Василия Великаго, Григория Богослова, Иоанна Златоустаго, от экзарха преосвященного митрополита св. митрополии Ларсы господина Григория, и тутошние молдавские земли преосвященнаго митрополита господина Варлаама и от боголюбезнаго епископа господина Анастасия Роудицкаго, и господина Лаврентия Косандрейскаго, по повелению святейшаго и Вселенскаго патриарха господина Парфения, о Святом Дусе возлюбленнаго брата и сослужителя нашего смирения, – и почтили все меня, Паисия, богомольца великого вашего царствия, природным и истинным Патриархом Святого Града Иерусалима и всеа Палестины. И сего ради, благочестивый, державный и великий государь князь Михаил Феодорович всеа Руси, [С. 118] объявляем и мы, богомольцы к великому и святому вашему царствию сею нашею смиренною патриаршескою грамотою, сие наше законное восхождение и поставление ко святому и апостольскому сему престолу». Затем Паисий заявляет о своей непременной обязанности как всегдашнего царского богомольца непрестанно молить Бога о царе, царице и всей царской семье, извещает о получении царской грамоты и милостыни, что была послана государем с архимандритом Анфимом. В заключение грамоты новый патриарх пишет: «Мы, богомольцы ваши, здесь пребываем на нашем патриаршеском престоле, терпим повсядневно великие нужи и труды, и протори неизчетные имеем, и погибаем зело обидимы от безбожных еретиков, что всегда они ищут времени отнять у нас некоторые поклонные Святые Места и стоят с денежною силою и иноплеменными людьми… А мы, богомольцы великаго вашего царствия, стоим преже Божиею помощию, а потом силою и помощию вашего царскаго величества, и всяким раденьем и любовию большою, покаместа живем, да соблюдаем святые и божественные места, якоже соблюли и преж меня святейшие патриархи, имеючи надежду и упование на великое и святое ваше царствие, что всегда распространяешь благочестивую и высокую святую державу и царскую десницу ко святому и живодавному Гробу Христову, соблюдати от всякие измены сопротивных врагов. Посем не имеем, где восприбегнути и помощи получити во многих наших бедах и напастех, токмо к человеколюбию и к милосердию царствия вашего, благочестивый святый царю. Посем Господь наш Иисус Христос да воздаст победу и державу на врагов видимых и невидимых, да распространит и умножит державу [С. 119] великаго вашего царствия в сие земное временное царствие, потом сподобит небесному и безконечному царствию»[71].
Эта первая грамота Паисия вместе с тем есть и первая известительная грамота, какие с этого времени уже обычно стали посылать в Москву все новые последующие иерусалимские патриархи. Вместе с тем она показывает, что Паисий, уже ранее два раза бывший в Москве, позаботился немедленно по вступлении на патриарший престол войти в сношения с московским правительством в видах получения от него на будущее время милостыни и поддержки для Иерусалимской патриархии. Наконец, эта грамота интересна и в историческом отношении, так как в ней сам патриарх Паисий говорит о том, где, кем и при каких условиях произведены были выборы и поставление его в патриархи Иерусалимские.
Смерть царя Михаила Феодоровича и вступление на царский престол Алексея Михайловича дали повод патриарху Паисию послать в Москву с греком Феофилом Ивановым новую грамоту, писанную им от 21 сентября 1646 года, в которой он заявляет по поводу смерти Михаила Феодоровича: «Слышали есми, что весь благочестивый народ имели его (Михаила Феодоровича) единопохвальную и единодуховную славу и много неисчетное веселие, якоже да был Богом венчанный православный царь на посрамление еретиком и отпадшим; но и паки к бедным и обидимым от нечестивых – ко архиереом и к архимандритом и ко всем церковным и к мирскому житью и чину – к благочестивым греческим християном, тоже и мы и апостольский и святой наш престол Святаго [С. 120] Града Иерусалима со всем нашим святым Собором святаго и живодавнова Гроба о Христе с братнею – едино имели его великаго поборника и утверженнаго сильнаго столпа и теплаго помощника ко всякой нужде и надобью ко святому и живодавному Гробу». Нового государя патриарх Паисий просит умножить милостыню ко Святому Гробу, и за это Господь его прославит, как некогда прославил Соломона, соорудившего храм в Иерусалиме. Заявляет, что он, патриарх, пребывает в великих долгах, «и то нам чинят еретики, наиболе арменя и латыни, и те арменя учинили нам великие протори, и для тех проторей мучуся ныне в Цареграде», и в заключение пишет, что по умершем государе не только сам служит сорокоуст, но и дал приказ в Иерусалиме, чтобы там ежедневно служили не сорок дней, а целый год.
В другой грамоте от 25 сентября 1645 года Паисий благодарит государя за все те милости, какие явил Святому Гробу его отец: «Милость ваша царская богатодарная аки солнце восияет и светит во всю вселенную и к теплости его движутца и живут всячески; такожде и святое ваше царствие воскаплет едину каплю росы от милости вашей неизреченные и напоит всех». Затем говорит в грамоте о торговых людях и чернецах, что являются в Москву с подложными патриаршими грамотами, почему он указывает признаки, по которым московское правительство на будущее время всегда может отличить его подлинные грамоты от возможных поддельных[72].
Патриарх Паисий, ранее уже два раза бывший в Москве в качестве посланца патриарха Феофана, сумел понять и оценить великую важность все более [С. 121] усиливавшегося Московского царства для всего православного Востока, почему он и решился войти с московским правительством в близкие сношения не через грамоты только, но через личное посещение Москвы в сане патриарха, как это уже сделал его предшественник Феофан, причем Паисий имел в виду не одну только получку богатой милостыни в Москве, но и иные цели. Так как дело о приезде в Москву патриарха Паисия дошло до нас, то мы и опишем это важное во многих отношениях событие с возможною подробностью.
1 декабря 1648 года в Москву приехали Афонской горы зографского великомученика Георгия монастыря черные попы: Петроний, да Палладий, да Сильвестр, бить челом государю о милостыне по имеющейся у них жалованной грамоте. На допросе в Посольском приказе афонские старцы объявили, «что они из Молдавские земли поехали октября во 2 день вместе с Иерусалимским патриархом Паисием и приехали октября в 19 день в Литовскую землю до города Веницы, и в том городе патриарх остался для того, что из Молдавские земли посылал он, патриарх, к гетману Хмельницкому, а для чего посылал и кого посылал, про то они не ведают. А после того гетман Хмельницкий прислал в Молдавскую землю к патриарху Паисию полковника и он, патриарх, с тем полковником поехал из Молдавские земли в Литовскую землю и приехали в Веницу, а из Веницы полковник поехал к гетману Хмельницкому, а патриарх в том городе Венице остался, – дожидается вести от гетмана Хмельницкого, а какой вести дожидается и о чем меж ними ссылка была, про то они не ведают. И с тем Иерусалимским патриархом едут старцы и [С. 122] бельцы человек с тридцать; а слышали они от патриарха, что он будет к великому государю к Москве для милостыни, и в Путивль хотел быти вскоре».
В тот же самый день, когда афонские старцы заявили в Посольском приказе, что в Москву едет Иерусалимский патриарх Паисий, прислал в Москву государю донесение и путивльский воевода Плещеев с известием, что один приезжий грек на допросе сказал ему, «что в Киеве объехал он Иерусалимского патриарха Паисия, а едет он, патриарх, к великому государю в Москву челом ударити его царскому величеству и в Путивль-де будет он вскоре». Ввиду этого воевода спрашивал государя: «Как Иерусалимской патриарх в Путивль приедит, как его принимать и по чему ему корму давать, и из Путивля его к Москве отпускать ли, и сколько подвод и в дорогу корму дать?» Вследствие этого донесения воеводы к нему немедленно, 2 декабря, послана была в Путивль государева грамота, в которой ему приказывалось: «Как Иерусалимский патриарх в Путивль приедет, и его велено принять и поставити на добром дворе, и в разговоре с ним поговорити про цареградские и про литовские вести, и отпустить его совсем к государю к Москве с приставом, выбирая из путивльцев из лучших людей сына боярскаго добраго, а корм и подводы дать, как им мочно подняться»[73]. О времени прибытия патриарха в Путивль, о том, когда он выедет из Путивля, сколько ему дано было корму и подвод, велено было с нарочитым гонцом [С. 123] прислать немедленно отписку в Москву, а посланному с ним приставу немедленно прислать весть в Москву, лишь только патриарх приедет в Калугу, где он должен побыть до царского указа.
Сделаны были и другие предварительные распоряжения на случай приезда в Москву патриарха Паисия. Так, 10 декабря приказал государь послать в Калугу «его государева жалованья – две шубы, в чем ему, патриарху, ехать из Калуги до Москвы: одну соболью под камкою, а другую песцовую под тафтою против прежняго, каковы были посланы из Москвы в Тулу ко прежнему Иерусалимскому патриарху Феофану». Между тем в Москве 19 декабря допрашивали афонских монахов Петрония и Палладия о Иерусалимском патриархе Паисии, из которого монастыря взят он на патриаршество и в котором году и каков он собою ростом[74]. И зографского монастыря черные попы Петроний и Палладий сказали: Иерусалимский патриарх Паисий был наперед сего в молдавской земле в монастыре Успения Пречистые Богородицы архимандритом и из того монастыря взят в Иерусалим на патриаршество, а в котором году, того они подлинно не упомнят, а ростом тот патриарх Паисий средним, а в плечах широк[75]. Указом государя от 29 декабря [С. 124] велено было послать в Калугу патриарху Паисию с дворца разной рыбы и питья, что давать едучи от Калуги до Москвы патриарху «в почесть», т. е. сверх положенной ежедневной дачи корму и питий.
Между тем путивльский воевода извещал государя, что 5 января 1649 года в Путивль приехал Иерусалимский патриарх Паисий, в свите которого, кроме духовных лиц, было еще «патриарших детей боярских и слуг 25 человек», в которых воевода признал хорошо ему известных греческих купцов. Воевода спрашивал-де патриарха, чтобы он «сказал именно про торговых людей», так как-де в 1648 году состоялся царский указ, чтобы гречанам торговым людям подводы под себя и под товары нанимать на свой счет и поденного корму им в дорогу не давать. Но патриарх про сопровождавших его торговых людей заявил воеводе, что они «хотя и были прежде сево торговые люди, только-де ныне служат ему, патриарху».
Десятого января патриарх Паисий был отпущен из Путивля в Москву, и в тот же день государь отправил в Калугу для встречи там патриарха Федора Мякинина, который должен был поступить по следующему наказу: приехав в Калугу и отдав там воеводе государеву грамоту о патриаршем отпуске, Федор тотчас же должен был идти на подворье к патриарху и здесь сказать ему «от государя речь: Божиею милостию [С. 125] великий государь, царь и великий князь Алексей Михаилович, всеа Русии самодержец (следует полный царский титул)… тебе, святейшему Паисию патриарху Святаго Града Иерусалима, велел поклонитися и велел тебя о здоровьи спросить: здорово ли еси дорогою ехал? – А после того говорить: Божиею милостью великий государь и великий князь Алексей Михаилович, всеа Русии самодержец и многих государств государь и обладатель, велел мне тебя встретити в Калуге и велел мне с тобою ехати к Москве и корм тебе давати. Да к тебе ж, святейшему патриарху, великий государь, царь и великий князь Алексей Михаилович, всеа Русии самодержец, прислал для дорожнаго проезда платья: две шубы, одна соболья под камкою, другая песцовая под тафтою, да сани с полостью и санником, в чем тебе дорогою ехать. А изговоря речь, то государево жалованье ему, патриарху, дати, да ехати с патриархом и с архимандритом его и со старцы и со всеми служебники, которые с ними, к Москве». Кроме того, Мякинину наказывалось: «Дорогою береженье к патриарху и к архимандриту и к старцом и ко всем служебником держать великое, чтоб им в дороге ни от кого безчестья никакого не было, и разведывать, что и ныне он, патриарх, патриаршество Иерусалимское держит ли, нет ли кого на его место иного, и для чего он к государю едет – для милостыни или для иных каких дел, и есть ли с ним какой приказ к государю ото всех Вселенских патриархов?» Сверх того, Федору Мякинину приказано было расспросить про Хмельницкого и вообще про дела малороссийские и польские, «а проведовати Федору приказано было про то опознався с ним (патриархом) гораздо в разговорех, а не явно». В Калугу с Мякининым послано было для встречи патриарха десять стрельцов.
25 января Федор Мякинин доносил государю, что 24 января, в первом часу дня, он встретил за 50 верст от Калуги патриарха Паисия и 25 января расспрашивал его по наказу царскому, и патриарх говорил [С. 126] в расспросах, что патриаршество Иерусалимское держит он сам, а в Москву едит он «на твоих великих и преславных государствах российского царствия поздравити и благословити, а от Вселенских патриархов к тебе, государю, никакого приказу с ним нет». Вместе с этим Федор Мякинин, извещая царя, что 26 января патриарх будет ночевать уже под Москвою, в селе Семеновском, на подхожем стану, спрашивал, как поступить ему в этом случае относительно въезда в Москву.
Въезд патриарха в Москву назначен был на 27 января. По указу государя, патриарха должен был встретить за городом князь Евфимий Мышецкий и проводить его до самого Чудова монастыря, где Паисию назначено было жить во время пребывания в Москве. При встрече князю наказано было говорить патриарху: «Милостью Божиею и государское имянованье с полною титлою, а после того править от государя патриарху поклон и о здоровья спросити. А после того молвить государское имянованье и что велел государь его, патриарха, ему, князю, встретить и на двор ехать, где ему, патриарху, стоять. А как патриарх приедет к Чудову монастырю, встретить его во святых воротех чудовскому архимандриту Кириллу со всем Собором в ризах, с крестом и кандилы. И как патриарха встретят и патриарх, взем у архимандрита крест, приложится наперед ко кресту сам; потом архимандриту и всему Собору от патриарха благословитися, и пойдет патриарх в соборную церковь архистратига Михаила и ко Алексею чудотворцу, и учнет прикладываться к образам и к чудотворцов раке, и слушать ему литоргии соборные, и служить архимандриту самому, а с ними священником и диаконом, а от [С. 127] церкви патриарху идти в келью, где ему велено стоять».
Князю Мышецкому дан был затем наказ, как он должен был вести себя при отправлении им должности пристава при патриархе. Наказ говорит: «А князю Евфиму (вместе с Федором Мякининым) к патриарху береженье держать и над переводчики и над детьми боярскими надсматривать, чтоб патриарху и архимандриту его и старцем и всем его служебником корм давати сполна до росписи[76]. А чего патриарх и в запрос попросит, и им про то сказывать в Посольском приказе, и береженье им во всем к патриарху держать великое, и к нему приходить честно и его чтити потому ж, как и первопрестольника Российскаго государства, святейшаго патриарха Московскаго. Да и того князю Евфимию и Федору беречи, чтоб к патриарху никто не приходил гречан и турчан и иных никаких иноземцов, и его людей никого с монастыря не спущати; а что от патриарха [С. 128] и от митрополитов и от иных властей московских почнут приходить с кормом, – и князю Евфимию и Федору тех людей с кормом пущати велети. А хто иноземцов учнет к патриарху проситься, а патриарх их велит к себе пущати, или патриарх про которых иноземцов учнет говорити, чтоб к нему пущати, – и князю Евфимию о том патриарху говорить, что он про то скажет государевым бояром и посольскому думному дьяку, а без боярскаго ведома таких людей иноземцов пущати он не смеет, покаместа он, патриарх, у государя будет. А буде патриарх спросит о летех и возрасте великаго государя, царя и великаго князя Алексея Михаиловича всеа Ру сии, и им говорить: великий государь наш, царь и великий князь Алексей Михаилович всеа Русии самодержец, его царское величество, ныне в совершенном возрасте – двадцать лет, и дородством и разумом и красотою лица и милосердым нравом и всеми благими годностьми всемогущий Бог украсил его, великого государя нашего, его царское величество, хвалам достойнаго, паче всех людей, и ко всем людем, к подданным своим и к иноземцам, его царское величество милостив и щедр, и наукам премудрым философским многим и храброму ученью навычен, и к воинскому ратному рыцарскому строю хотение держит большое, по своему государскому чину и достоянию. А ныне Бог подаровал ему, великому государю нашему, его царскому величеству, сына, а нашего государя благовернаго царевича и великаго князя Димитрия Алексеевича, и нам всем, царскаго величества подданным, радость и веселье велие!» А если патриарх спросит, в каких отношениях государь теперь находится со всеми окрестными государями, говорить, [С. 129] что в дружбе. А если патриарх спросит о таких делах, про которые не сказано в наказе, «то ответ держати по делу и говорити посольскими речьми учтиво и остерегательно, чтоб государеву имяни было к чести»; а если приставу вовсе не следует о чем-либо говорить патриарху, то в таких случаях он должен заявлять, что был в дальной службе, возвратился недавно и тех дел не знает.
27 января совершился въезд патриарха Паисия в Москву согласно с составленным ранее церемониалом, а 29 января приказал государь послать к нему спросить его от имени государя о здоровье и поговорить с ним о делах думного дьяка Михаила Волошенинова. Последний, придя к патриарху, говорил: «Великий государь, царь и великий князь Алексей Михаилович, всеа России самодержец и многих государств государь и обладатель, его царское величество, воздаючи честь тебе, святейшему Паисию, Патриарху Святаго Града Иерусалима и всеа Палестины, прислал своего царскаго величества думного дьяка меня, Михаила Волошенинова, и велел тебя спросить о твоем здоровьи: здорово ли еси дорогою ехал, и зде во здравии ль и во спасении пребываешь?» «И патриарх говорил, что он милостью Божиего и великаго государя, царя и великаго князя Алексея Михаиловича всеа Русии, жалованьем в дороге ехал и зде в Москве живет, дал Бог, в добром здоровьи, да и в Иерусалиме-де он жил его государским милостивым заступлением и призрением». «И бил челом государю патриарх, чтоб государь его пожаловал, велел ему быть у себя, государя, и видеть свои царского величества очи». В то же время патриарх просил Волошенинова, чтобы его из Чудова монастыря, где он угорает и где ему [С. 130] со свитою тесно, перевели на Кирилловское подворье, что и было исполнено.
«Патриарх говорил разговором: приехал-де он к великому государю для того, что в Иерусалиме Гроб Господень в великом долгу, а оплатиться нечем, и он-де для искупления Гроба Господня – для милостыни приехал бить челом государю…
И он-де, патриарх, едучи в Польской земле, в Виннице и в Шаре городе и в иных городех и до Киева, поляков крестил многих (?) и им говорил, чтоб они вперед на православную христианскую веру не посягали. И как-де он, патриарх, был в Киеве и приказывал от себя гетману Хмельницкому, что он человек крестьянские веры, а сложась с бусурманы, многие христианские крови пролил, а ему-де было о том мочно сослаться с царским величеством. И гетман-де писал к нему, патриарху, что ему о помощи писать было неколи, а покаместо было им о помочи писать, и ляхи б их всех побили и веру искоренили, и он-де, по ссылке с татары сложася, против поляков за православную христианскую веру стоял. Да гетман же Хмельницкий писал к нему, патриарху, что он ко государю о помочи писал, чтоб он, государь, ему, гетману, на поляков помощь велел учинить и войною на них с своей стороны послал и свои городы, которые от Московскаго государства к ним, полякам, отошли, их поймал; и он-де, гетман, с своей стороны, с войском на поляков пойдет же и ему государю помогати учнет; а только бы-де государь на то изволил, что свои государевы городы у поляков отымать, и он бы де, гетман, все городы и до Смоленска под государеву руку подвел, и он-де, великий государь, помощи им, черкасом, [С. 131] учинити и городов у них взяти не изволил. А ныне они, гетман, и все войско запорожское велели ему, патриарху, бить челом царскому величеству, чтобы он, великий государь, изволил войско запорожское держать под своею государскою рукою, а они, черкасы, будут ему, государю, как есть каменная стена, и чтоб он, государь, им помощь учинил ратными людьми, а они, черкасы, ему, государю, вперед будут надобны. И он-де, патриарх, Хмельницкому говорил, чтоб они всегда искали царские милости. И гетман говорил, что он весь в его государеве воле; как государь велит, так он и делать рад. И о том-де у гетмана будет сейм, а с сейму пришлет ко государю послов, а что на сейме приговорит и с каким делом ко государю гетман послов пришлет, того-де он не ведает. Да он-де, патриарх, как у них, черкасов, был, и он всю их мысль видал, что они под государевою рукою быти желают». Заявил патриарх при расспросах и следующее: «На то-де он, патриарх, слышал у Хмельницкого: как они, черкасы, с поляки помирятся и им, сложась с крымскими татары, итти многими людьми на турскаго чрез волоскую и мутьянскую землю, а волоской и мутьянской будут с ними ж, а только-де волоскому и мутьянскому с ними на турскаго нейти и им самим от них, черкас, и от татар опасенье большое, потому что ныне у них малолюдно, многие побиты от венециана и меж себя междоусобие».
О себе и о делах Святого Гроба патриарх заявил: «Он учинился во Иерусалиме в патриарсех на патриархово на Феофаново место тому ныне 4 года; а как он ныне поехал из Иерусалима, и он-де приказал после себя ведать духовные дела вифлиомскому митрополиту, [С. 132] а мирские дела иным своим приказным людям. А поставляют-де Иерусалимских патриархов Вселенские патриархи – буде коли который патриарх прилунится, а коли патриарха не случитца, ино Иерусалимские патриархи поставляемы бывают от вифлиомского митрополита и от иных властей».
«А православным Христианом ко Гробу Господню приходити довольно, а кому-де у Гроба Господня случитца помолиться и с них емлют турки по 7 ефимков с человека. А на Гроб-де Господень благодать Святаго Духа небесным огнем сходит по-прежнему в Великую субботу: стоит-де у Гроба Господня 800 кандил, и турки-де те кандила все погасят в Великую пятницу, а в Великую субботу на вечерни отомкнут турки Гроб Господень, а с него, патриарха, снимут сак и коруну, и как на вечерни учнут пети литью и в то время входит патриарх ко Гробу Господню, а турки тут же входят и осматривают Гроба Господня – сшел ли на Гроб Господень огнь с небеси, и будет еще не сшел, от Гроба Господня выходят и ожидают, как на Гроб Господень огнь с небеси сойдет. А как огнь с небеси сойдет, и перво-де от того огню засветится в паникадиле христианском, которое стоит над Гробом Господним, свеча, а потом на камени, что на Гробе Господни, а потом по всему Гробу Господню рассыплется, что краплины, и от того-де огня он, патриарх, засвечает свечи и дает во весь мир. И было-де единова, что Софрония, патриарха Иерусалимского, как он из Царягорода приехал, турки в Великую субботу не хотели пустить в церковь, а просили у него за то подарков больших, и он им в том отказал и подарков ничего не дал, – и он-де то видел и вне церкви, как огнь [С. 133] с небеси в церковь на Гроб Господень сшол. Да в некое-де время прилунилось быть армянскому празднику – великому дню вместе с христианами, и они-де дали туркам 20 000 ефимков, чтоб им отпечатать Гроб Господень, чтоб огнь с небеси сшед на Гроб Господень при них – армянах. И как-де Гроб Господень отпечатали, и огнь-де с небеси при них на Гроб Господень не сшел, а сшел на руки и засветило свечи у некоторой инокини, которая прилунилась в то время в церкви Воскресения Христова[77]
71
7154 г. № 6.
72
7154 г. № 18.
73
Корму патриарху от Путивля до Москвы велено было дать по алтын на день, да питья: по 3 кружки меду, по 3 кружки пива надень; архимандриту и келарю по 10 денег на день человеку, архидьякону 9 денег, дьякону и простым старцам по 8 денег, людям патриаршим по 6 денег человеку на день.
74
Странный на первый взгляд допрос о том, из какого монастыря взят в патриархи Паисий, в каком году и какого он роста, когда Паисий ранее два раза был в Москве и ранее прислал в Москву обстоятельную грамоту о времени и обстоятельствах своего избрания в патриархи, просто объясняется тем, что эта инструкция о допросе была составлена еще при приезде в Москву патриарха Феофана и, по тогдашнему обычаю, механически воспроизведена была, когда от приказа потребовали составить инструкцию для встречи и приема патриарха Паисия.
75
Досифей говорит про патриарха Паисия, «что он ростом мал, с бородою длинною, смугл, общителен, мужественен, правдолюбив, сановат». Досифей передает ходивший про него, Паисия, рассказ, что будто бы «он один поверг на землю двадцать человек (напавших на него) разбойников и лошадей их взял» (Кн. XII, гл. 1, § 10).
76
Лично патриарху во все время пребывания его в Москве велено было выдавать на каждый день «прут белые рыбицы, прут семжины, да блюдо икры паюсные, да блюдо осетрины, да блюдо белужины, да два блюда пирогов пряженых, щука колодка, две ухи разных переменяясь, калач крупичатой». Питья лично патриарху выдавалось на день «кружка меду вишневаго или малиноваго, кружка меду боярскаго, кружка квасу медвянаго, полведра меду паточнаго, ведро меду княжего. Да из Болыпаго приходу на мелкое: на лук, на чеснок, на масло, на яйца, на крупы, на соль по 5 алтын на день». Всем лицам патриаршей свиты корм и питье выдавались каждому отдельно, причем количество их для разных лиц было различно – более получали высшие лица свиты и значительно менее низшие лица. По особым случаям как сам патриарх, так и вся его свита сверх обычной ежедневной дачи получали еще от государя особый корм и питье. Так, например, патриарху и всей его свите «на приезде» было послано «государева жалованья в почесть корму и питья: 3 кружки меду вишневаго, ведро меду обарнаго, ведро меду паточнаго, ведро меду цеженаго, ведро квасу медвянаго, калач крупичатой, три калача смесных, да людем их по калачу, на 18 блюд ествы добрые».
77
Русские сильно интересовались небесным иерусалимским огнем и его свойствами, хотя относительно последнего очевидцы и разногласили. Так, русский паломник Василий Гагара (1634–1637 гг.) говорит: «Огнь же небесный багровиден, а не как прочий огнь естествен от земнаго огня. Аз же, Василий, у митрополита зажег в едину руку двадцать свеч и нача браду свою палити тем огнем, и не един от влас брады моя погибе и не сгоре; и аз грешный токмо уверовал, что небесный огнь есть, како не сожгло брады моея от огня какова бывает от естественнаго огня, что многие вещи пожигает; такоже и в другоряд и в третий палил браду свою, и никакоже прикоснулся огнь власом моим. Аз же, Василий, прощения просил у митрополита в том, что неверованием одержим был, чаях, что греки тот огнь составляют своим умышлением, а не небесный огнь сходит с небеси» (Сахаров И.П. Сказания русского народа. Ч. 2. М., 1837. С. 120). Иона Маленький, вместе с Арсением Сухановым посетивший Иерусалим в 1652 г. и видевший весь обряд при схождении небесного огня, замечает только: «А того не ведомо, как у него (патриарха Паисия) те свещи засветятся: огнь вещественн, как есть огнь». Сам Арсений Суханов, описывая церемонию небесного огня, не говорит того, как он появляется и каковы его свойства (Белокуров С.А. Арсений Суханов Т. 1. С. 290). Когда в 1653 году живший в Москве сербский митрополит Михаил отправился на поклонение святым местам, то ему дано было поручение разведать относительно небесного иерусалимского огня все пообстоятельнее. Воротившись в Москву 16 сентября 1657 года, Михаил дал такое показание о своих разведках относительно небесного иерусалимского огня: в Великую субботу перед вечернею, как пришло время идти в самый Гроб Господень, наместник патриарший (а самого патриарха не было) и он, митрополит, ходили около палатки трижды с незажженными свечами. Наместник вошел внутрь Гроба, и хотя давал митрополит почесть немалую турчину, чтобы ему войти в Гроб вместе с наместником, но он заказал турчанам, чтобы опричь его не пускать во Гроб ни митрополита, ни кого-либо иных, и дал им за то почесть большую. Наместник, войдя внутрь Гроба один, затворил за собою двери, был там полчаса и вынес с собою свечи зажженные, говоря, что они засветились от Гроба Господня действием Святого Духа, и раздавал свечи сии митрополиту, армянскому патриарху и прочим людям. «И митрополит-де Михаил того огня испытывал, и от него-де жар и палит так же, как и от прочего вещественного огня»; а каким образом у наместника патриаршего возжегся огнь у Гроба Господня, он не ведает, потому что его, митрополита, туда не пустили, а уже только по выходе наместника входил он и прочие люди для поклонения (Греческие дела 7166 г. № 3).