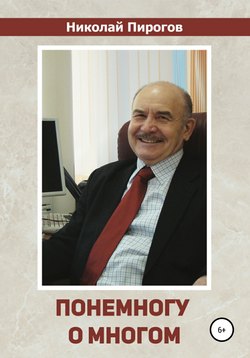Читать книгу Понемногу о многом - Николай Леонидович Пирогов - Страница 11
II. Повесть. Хорошо в деревне летом…
Володька и Сашка
ОглавлениеВолодька Афанасьев, наш непосредственный сосед, был человеком редким и по-своему уникальным. Вспомнилась методика, предложенная одним их американских университетов. Для характеристики человека в ней используются три слова: «хочу», «могу», «умею». «Хочу» – характеризует активную жизненную позицию, «могу» – умственные способности, «умею» – трудовые навыки, умение работать руками. С предлогом «не» возможны восемь комбинаций для оценки конкретного человека. Самая высокая оценка – это «хочу», «могу», «умею». Возможны такие, например, варианты: «не хочу», но: «могу» и «умею». То есть у человека активная жизненная позиция отсутствует, но способности к умственной деятельности и трудовые навыки имеются. Никуда не годные люди оцениваются как три «не»: «не хочу», «не могу», «не умею». Володька твердо занимал эту самую непрестижную позицию. Без малого двадцать лет мы прожили в Мешково и все эти годы вынуждены были с ним общаться. Сестра Володьки много времени проводила в его доме, где жил и ее сын Сашка, в конце 70-х годов пришедший из армии. Служил он в престижных воздушно-десантных войсках. Сестра вела, видимо, их хозяйство. Не раз замечали, как она обоих мужиков гоняла работать в их маленьком огородике и на картофельном поле. После ее смерти огород был заброшен, да и картошку они перестали сажать.
Володька старше племянника лет на пятнадцать, оба физически здоровые, и у обоих нежелание трудиться перехлестывало все другие их помыслы. Проходил год за годом, и мы все лучше узнавали характеры своих соседей. Если бы мы не видели их воочию, не имели бы с ними контактов, то никогда бы не поверили, что возможно само существование подобных типов. Все время, что мы их знали, они ни в какой организации не числились. Когда-то Володька работал в совхозе, как он говорил, «на чистой работе» – включал и выключал электрический насос поливочной системы и присматривал за ним: смазывал, «обеспечивал сохранность», т. е. запирал дверь насосной в конце рабочего дня. Поскольку кроме этого он делать ничего не желал, должность его сократили.
Трудно было понять, на что они жили, но потихоньку картина прояснялась. Имели они скотину: корову, быка и штук пять-шесть овец. Этим и кормились. Овцы летом не требовали особой заботы, сами уходили утром пастись и сами же возвращались вечером. Корова и бык летом особых хлопот в части кормов также не доставляли. Трудности для соседей заключались в том, что корову ведь надо доить, а помещение для скотины – очищать от навоза. Бывало, недоенная корова подолгу душераздирающе мычала, а соседей-лодырей не могли найти. Знали, что они где-то пьянствуют, а вот где конкретно – неизвестно. Не раз случалось, что с другого конца деревни приходил кто-нибудь и доил бедное животное, не в силах терпеть его и свои мучения.
Особо остро для соседей стояла «навозная проблема». Обычно крестьяне вывозят навоз на поля. А здесь никакого поля не существовало, а просто удалять навоз у мужиков не было никакого желания. Но хочешь или нет, а помещение для скота следовало очищать, поэтому выгребали навоз за пределы хлева, затрачивая минимальные усилия. У ворот со временем вырастала гора с человеческий рост, оставался лишь узкий проход, в который дважды в день, раз – утром и второй раз – вечером, с трудом протискивалась скотина.
Основная и, пожалуй, единственная работа соседей-«трудоголиков» заключалась в заготовке сена на зиму. Известно, что на одну голову крупного рогатого скота требуется три тонны сена, а для десятка овец нужно сена столько, сколько съедает одна корова. Получалось всего тонн восемь-девять, не меньше. Здесь надо было хорошо поработать, ни схитрить, ни сэкономить не удастся.
И соседи работали. Их покос был рядом с домом. Когда-то это было совхозное хорошо удобренное поле, и трава здесь росла густая и высокая. Принято считать, что косьба – духоподъемное занятие, веселое и интересное. Оно таким и было для крестьян испокон веку. Наши же «орлы» выходили косить траву как на казнь. Мы-то сначала не понимали, как трудно им переломить себя и работать как все. Спросишь, бывало, у них что-либо в это время, часто просто для вежливости, а в ответ – хамство: видите, люди работают, а вы лезете. Потом поняли, что любая работа для соседей – процесс мучительный.
Для облегчения своей трудной жизни корову они продали. Купили ее блуждающие по окрестностям цыгане-заготовители. Забили на месте, сноровисто разделали и сразу расплатились. Соседи по этому поводу гуляли с неделю, собрав у себя со всей округи с десяток выпивох. В дальнейшем, не раз случалось, забивали овцу, и пьяный пир повторялся, но в меньшем масштабе. Единственным кормильцем у них оставался бык. Крестьяне-хозяева, как правило, бычков не держали, семью кормила корова, а если у нее рождался теленок-бычок, то в конце лета его забивали на мясо. А наши соседи устроили бизнес по осеменению коров. Еженедельно, а то и чаще, из соседних деревень приводили коров для покрытия. Платили за это деньгами или водкой. Бизнес хоть и небольшой, но совершенно не утомительный. Для нас однако он создал определенные сложности. Поскольку весь процесс протекал вблизи нашей ограды, приходилось по этому поводу постоянно давать соответствующие пояснения нашим любознательным внукам.
Соседи любили просить. Причем просили все: спички, соль, хлеб, чай, выпивку, одежду и т. п. И если Сашка просил слегка униженно, отводя глаза в сторону, то Володька – совсем по-другому. Он даже и не просил, а скорее всего просто предлагал дать ему, что требовалось. И давали. Он вскоре понял, что портить с ним отношения мы просто побаиваемся, опасаясь, что он со зла сделает что-нибудь вредное. Мы же думали, что угождая ему, можно надеяться, что он не только не напакостничает, но и в наше отсутствие присмотрит за хозяйством, охранит его от воров.
Но получалось все не так, как нам бы хотелось. Видя нашу интеллигентскую нерешительность и деликатность, Володька стал наглеть. Повел себя как диктатор местного масштаба – нашего края деревни. Мы обычно приезжали в пятницу поздним вечером, а в субботу с утра, не спрашивая разрешения, он заходил на наш участок, осматривая внимательно все, что попадалось на глаза, и по ходу комментируя: «Это я видел! А это, кажись, сейчас привезли». Глядя на саженцы, изрекал: «Правильно, надо сажать, надо. Молодцы!» И продолжал болтать дальше в таком же духе. Поняв нашу слабость, держал он нас в постоянном напряжении, намекая, что дом может сгореть, дескать, в деревне это бывает нередко.
Терпели его поведение года два, не меньше. Последним его «подвигом» было вторжение в нашу избу во время завтрака, когда все собрались за столом. Вошел, не спросясь, не здороваясь, открыв дверь настежь, и начал хозяйский обход всех углов, приговаривая все так же: «Это я видел! А это сейчас привезли!» и т. д. Мое терпение слетело с предохранителя. Поскольку когда-то обучался специальным приемам и некоторые навыки сохранились, мгновенно и очень ловко заломил ему руку за спину, ухватил за штаны и, поставив его на цыпочки, выволок наружу. А там, на лужайке, подсечкой бросил его навзничь на землю, поднял и перекинул через нашу невысокую ограду. Эффект был поразительный: Володька был ошарашен, полностью потерял ориентацию и довольно долго лежал без движения за оградой. А я стоял, распаленный, и смотрел на него, лежащего. Вдруг подумал: «А я ведь мог его искалечить!» Защемило внутри: «Что же я наделал!» Наконец, он поднялся сначала на колени, потом встал в полный рост и, не оглядываясь, слегка согнувшись, посеменил к своему дому. Я облегченно вздохнул.
С этого дня у нас началась настоящая мужская дружба. Если раньше он обращался ко мне не иначе как по имени в свойственном ему нахально-пренебрежительном тоне, то теперь – коротко и уважительно по отчеству – Леонидыч. Я стал признанным лидером, а он – подчиненным, который, как и бывает в реальной жизни, позволял себе иногда немного ослушаться главаря, но поскольку хорошо помнил убедительные аргументы моего лидерства, как зверек, порычав тихонько в сторону, неизменно смирялся со своим теперешним положением.
Узнал, что я, оказывается, профессор, и понял, что нашел, наконец, достойного собеседника, затевая многочасовые выступления, охватывая ими самую широкую тематику. Вот здесь я уже был бессилен и противиться ему не мог. Происходило это каждый раз одинаково: Володька располагался поудобней снаружи ограды, повисая на ней так, что видна была одна голова да руки, и начинал выступление. Ответа он не требовал, просто высказывал мнение по разным вопросам, от балета до положения, например, в Нигерии. Фразы у него не имели логического начала, а конец их без всякой паузы переходил в сообщение, далекое от предыдущего.
Что делают люди, вырвавшиеся на дачу на два выходных дня? Как правило, интенсивно трудятся на своем участке. Вот, бывало, приедешь в Мешково и не знаешь, за что хвататься, дел невпроворот. А в это время сосед-бездельник осыпает нас многочасовой словесной шелухой. Решили совместно всей семьей: пускай болтает, будем воспринимать это как местную экзотику. Но иногда все же, когда терпения не хватало, скажешь ему: «Володь, заткнись, шел бы ты домой!» Бывало, что и послушает, а чаще заканчивал тогда, когда уставал. При этом темы у него никогда не исчерпывались, потому что ему ничего не стоило в одном и том же выступлении повторить сызнова ранее сказанное. И что интересно, Володька на грубость не обижался, чувствовалось, что он искренне считал, что речи его умные и полезные, но не все его понимают, даже эти высокообразованные москвичи.
Много лет спустя довелось слушать выступление В. Жириновского перед студентами-первокурсниками. Он говорил долго, легко перескакивая от одной проблемы к другой, не связанной с предыдущей. Между делом заявил, что говорить он может, если надо, не останавливаясь, не меньше восьми часов. Тогда же подумалось, что в партии Жириновского Володька с его ораторскими способностями был бы, вероятно, не последним человеком. И еще пришла мысль, что Володька, по сути, – Жириновский местного масштаба. В деревне он был не в чести за лень и попрошайничество, а вот за речи – уважаем: так гладко и много говорить никто из односельчан не умел. А известно, что когда сам что-то не умеешь, в других это особенно ценишь.
По мере знакомства узнали детали прошлой Володькиной жизни. Оказывается, он когда-то в молодости побывал на целине, поработал трактористом. Но не понравилось: тяжелая работа. Нам, интеллигентам с мозолистыми руками, однажды показал свои руки: «Смотрите – ни одной мозоли, не то, что у вас!» И действительно, его небольшие кисти были белые, ухоженные, ни порезов, ни мозолей, ногти чистые. Руки были его гордостью, таких не было ни у кого в деревне. Он это знал и этим очень гордился.
Любил Володька задавать загадки типа: «Что в машине лишнее?» Ему, конечно, не отвечали. Черт его знает, что там лишнее. Он, видя слабость собеседника, покровительственным тоном изрекал: «Грязь!» – и, довольный, смеялся. Особо нравилось ему смотреть, как другие работают. Подавал советы, иногда неплохие, мог толково рассказать, как у других эта работа выполнялась. Дураком он, конечно, не был.
Как-то мы с сыновьями взялись ремонтировать деревянный срубик вокруг ключа, откуда жители нашего края деревни брали воду. Только начали работу, явились Володька с Сашкой. Разместились на траве поудобней и сразу же взялись давать советы. Заметил я пыль на дороге, стал всматриваться, говорю: «Уазик едет, видно, директорский». Наши зрители метнулись сразу в ближайшие кусты и залегли, скрывшись в высокой траве. Показывали нам разными знаками, чтоб мы не выдали их. Действительно, это был директор. Подъехал, поздоровались, поговорили немного, и он отправился дальше по своим делам. Соседи наши выползли из своего укрытия и заняли прежние позиции. Спрашиваю: «А зачем прятались-то, чего испугались?» Володька молчал, а Сашка нехотя пояснил: «Работать заставляет». С трудом выяснил суть дела. Совхоз, оказывается, предоставляет разные услуги даже тем, кто не числится у него в штате. Бесплатно возит на своих машинах в Медынь, централизованно обеспечивает газовыми баллонами, дровами по льготной цене, содержит практически за свой счет фельдшерский пункт. А за все это считает справедливым привлекать жителей к страдным работам. За деньги, не бесплатно: косить траву, убирать картошку, помогать на току. Вот именно этого-то наши соседи и опасались.
Закончили мы работу часа за три. Хорошо получилось. Сруб сделали новый, на венец повыше старого, приладили сверху крышку, чтоб скотина пить не могла. Подошел Володька, работу одобрил, прутиком зачем-то замерил наше сооружение, чему мы тогда не придали никакого значения. Позже случайно узнали, что они с Сашкой в Гусевской администрации получили шесть тысяч рублей за ремонт общественного водозабора, как это было предусмотрено сметой. А к акту выполненных работ был приложен и простой чертежик с размерами.
Потребность в спиртном у соседей была постоянная. Удивил меня как-то случайно подслушанный разговор Володьки с одним из его знакомых, который занимался самогоноварением. Володька спросил того, как, дескать, у тебя самогонка-то хорошая? Тот отвечает: «А ты что, не знаешь, какая бывает самогонка?» Володька: «А у нас с Сашкой терпенья не хватает, мы брагу пьем. Самогонки и вкус забыли».
После каждой попойки, с похмелья Сашка обычно угрюмо молчал и бесцельно мотался по деревне, иногда клянчил хоть глоток водки. Володька же наоборот был преисполнен агрессии и злобы, которую срывал на скотине: мог огреть бычка подвернувшейся палкой и орал на него матом как на своего злейшего врага. Доставалось в это время и Сашке. Случались у них и драки, в которых племянник легко побеждал дядю. После чего тот нередко ходил с фингалом под глазом, скрывая его надвинутым к бровям козырьком кепки.
Свой дом соседи не строили, он им достался каким-то образом в готовом виде. По всем признакам этот просторный пятистенок был когда-то крепким и красивым сооружением с высокими потолками, фронтоном, зашитым досками в елочку, большими окнами с резными наличниками и фигурными ставнями. Но за те почти двадцать лет, что нам довелось его наблюдать, он заметно разрушался. Пришла в негодность завалинка, на которой рос бурьян и угнездились даже низкорослые деревья. Покосились окна и входная дверь, крыльцо от сезонного пучения мерзлого грунта так скособочилось, что ходить по нему стало опасно, риск был провалиться в щель между подгнившими досками, щепа на кровле местами отсутствовала, стлевшая от времени и сдутая ветром. В тех местах, где ее не было и постоянно случались протечки, в доме стояла посуда – тазы, баки, кастрюли.
Володька не любил пускать в дом посторонних. Свободный вход был только у нескольких собутыльников. Мне все же по какой-то надобности пришлось однажды зайти к соседям. Тогда я и увидел все эти сосуды для сбора воды. Ну а само внутреннее убранство их жилища лучше не описывать – нет для этого подходящих слов. Самое понятное и правильное – это была зловонная помойка, среди которой располагались две лежанки, покрытые рваньем. Как-то для проверки правильности работы электросчетчиков проходила по деревенским домам женщина из энергонадзора. Зашла к нам бледная и говорит: «Я у вас посижу немного, отдышусь, тошнит меня». Объяснила: «Была у ваших соседей, такая у них вонь, что потянуло на рвоту». Дали ей попить воды. Посидела немного и пошла дальше.
«Индикатором» заброшенности дома могла служить кирпичная дымовая труба. Я впервые в жизни видел, чтобы она была сложена из кирпичей «насухо». Насухо – это значит, что кирпичи не были скреплены раствором, там не было даже его остатков, и дым выходил не только вверх, как положено, но и вбок через многочисленные щели. Первое время, не понимая, что за люди живут рядом с нами, иногда советовал что-либо сделать по хозяйству, пытался подсказать какое-нибудь удачное решение. И о трубе говорил, выражал опасение: «Володь, ведь сгореть можете! Возьми у меня песок, цементу немного, глины. Переложи трубу». Тот в ответ махнул рукой, отстань, дескать, и сказал, что трубу делали еще прежние хозяева в тридцатые годы и с ней ничего не случится, раз столько простояла. Понятно мне стало, что раствор между кирпичами (а он мог быть только глиняным, ведь о цементе в деревне в то время и не мечтали) за многие десятилетия был просто вымыт дождями.
Иногда кто-то в насмешку, с намеком на особые интимные отношения спрашивал Володьку: «А что вам, мужикам, вдвоем хорошо, видно, жить-то?» На что он всегда реагировал агрессивно и имитировал даже желание подраться. Но, будучи трусоватым, всегда ограничивался угрозами.
Все-таки нам было небезынтересно узнать родословную соседей, да и причину их бобыльской жизни. Жители деревни объясняли, почему Володька не женатый. В молодости будто бы он любил одну деревенскую девушку, а ее убило молнией. С тех пор на женщин он не смотрит и поэтому никогда не был женат. Хорошо узнав соседа, в эту историю поверить мы не могли. Если бы она хоть частично была правдой, Володька бы все уши прожужжал, рассказывая о ней. Настоящая же причина его холостячества уж очень понятно иллюстрировалась Сашкиным примером. Он-то был молодым, в самом цветущем мужском возрасте. Отслужил в хороших войсках, ну чем не жених? Жениться пытался, мы видели и женщин, претенденток на его «руку и сердце». Таких было две. Утром они появлялись и вечером исчезали навсегда. Видно, оглядев внутренность жилища этих мужиков, они хорошо понимали, какая судьба их ждет. А что касается Володькиной романтической истории любви, то причина сказки, сочиненной деревенскими, видится мне в том, что у людей наших добрые души, поэтому, видя нагромождение многих мерзостей в одном человеке, непроизвольно ищут в нем что-то хорошее, светлое, а если не находят, то выдумывают это.
Как-то Володька, будучи в легком подпитии, сказал между делом, глядя на меня искоса и, по-моему, понимая, что гордиться этим уже не очень современно: «Отец мой был здесь комбедом». Понимать следовало – председателем комитета бедноты. Деревенские подтвердили: да, это так. Для меня после этих слов многое, что касалось наших соседей, встало как бы на свое место, стало понятней.
Попалась мне однажды на глаза книга А. И. Деникина «Путь русского офицера». Просмотрел ее и обратил внимание на строки, касающиеся характеристики комитетов бедноты. Они мне показались справедливыми: «В состав этих комитетов обыкновенно входили элементы пришлые, давно уже потерявшие связь с деревней, или безземельные, бездомные, нехозяйственные, иногда с уголовным прошлым, составлявшие подчас большую и грязную накипь деревенской жизни. Деятельность их проявлялась в формах насилия и произвола, направляясь по преимуществу к «уравнению», т. е. к ограблению зажиточных и крепких крестьян, дележу их имущества, земледельческих орудий, рабочего скота и запасов»[1].
Володька, видимо, характер унаследовал от отца, демагогия которого была востребована его временем. Отец, сам не желая и не умея трудиться, очевидно, не привил трудолюбия и своим детям. Поневоле вспомнилось о генетике: существуют, вероятно, какие-то гены лени, которые председатель комитета бедноты передал своему потомству.
Умер Володька, когда ему не было и шестидесяти. Года за два до смерти стал молчалив, явно потеряв интерес к любимой им пустопорожней болтовне. Вдруг стал заметно полнеть, ходил медленно и важно. Если и раньше почти ничего не делал, то теперь полностью прекратил любые занятия, переложив все на Сашку, который от такого нахальства родного дяди периодически заходился от возмущения матом, обещая «не давать ему жрать». Но Володька на это не реагировал.
Как-то в ясный солнечный день шел я по тропинке из Гусева к себе домой в Мешково. Начались уже первые заморозки. Шагал и весело давил ногами тонкий ледок, покрывший неглубокие лужицы. Вдруг после поворота увидел на земле человека. Он лежал на спине головой вперед по ходу моего движения. Быстро подошел ближе, вгляделся – да это Володька! Одет по-зимнему: в шапке, кирзовых сапогах, сером ратиновом пальто, которое я ему дал когда-то. Лежал как по стойке «смирно»: ноги вместе и руки по швам. Глаза открыты, лицо спокойное. Спрашиваю:
– Володька, тебе плохо?
– Да нет.
– А чего лежишь?
– Думаю.
– Ты что, серьезно? Думал бы дома.
Не ответил.
– Ну, как знаешь.
Удивленный, я пошел дальше. В тот же день уехали в Москву. Перед отъездом видели: Володька сидел на лавке около крыльца. В следующую пятницу узнали, что Володька умер, и его уже похоронили. Деревенские рассказывали, что забулдыги, которые постоянно вертелись у него в усадьбе, пока он был жив, на похороны не пришли. Хоронил его Сашка, да помог кто-то из деревенских баб. Причину смерти определили как сердечную недостаточность.
Сашка один в доме оставаться не стал, определился на работу в Медыни в городскую котельную. При ней и жил – в маленькой комнатушке, служившей ранее кладовой. Прожил недолго. Подрабатывал на разгрузке машин с продовольствием для соседнего магазина. Как-то ему с напарником повезло: разгружали огромную фуру с водкой, и удалось незаметно украсть один ящик – 20 бутылок. За всю жизнь не было у него такой удачи – пей, сколько хочешь. От передозировки умер, а его напарника еле откачали. Со смертью Сашки еще один дом в Мешкове остался бесхозным.
1
Деникин А.И. Путь русского офицера. – М.: ПРОЗА и К, 2014.