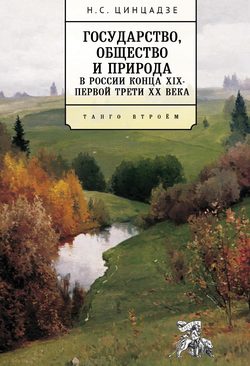Читать книгу Государство, общество и природа в России конца XIX – первой трети XX века. Танго втроём - Нина Цинцадзе - Страница 4
1.
Обзор источников и научной литературы
1.2. Историографический очерк
ОглавлениеИзучаемые нами исторический опыт и модель взаимодействия Российского государства и позднего аграрного общества в процессе осмысления и решения острых социоприродных проблем аграрной сферы не становились предметом специального изучения ни в российской, ни в зарубежной экоистории. Однако вокруг нашего поля исследования сложилась весьма обширная и разнообразная научная литература, для удобства характеристики которой, а также с целью структурирования нашего обзора мы выделили в ней четыре блока: мировую экоисторию; генезис экоистории в России; зарубежную экоисторию России; смежные научные исследования, примыкающие к проблемам экоистории России.
Мировая экоистория. Несмотря на то что мировая экологическая история конституировалась в 1960–1970-е гг. сначала в США и Западной Европе, затем в 1980-е гг. – в Австралии, Новой Зеландии, Индии, Южной Африке, еще позже – в Китае, Японии, на Ближнем Востоке, ее идейные истоки лежат в древности – в античных философских и исторических трактатах о роли природного фактора в развитии цивилизации. Географический детерминизм Нового и Новейшего времени развил эти идеи и транслировал далее. Возникнув далеко не на пустом месте, экоистория вобрала в себя оригинальные научные парадигмы разных эпох и народов. И все для того, чтобы осмыслить роль человека и природы в эволюции, изучить исторические корни экологических проблем, разработать способы их предсказания и упреждения. Столкнувшись с экокризисом в середине XX века, западная научная мысль, аккумулировав многие теории, предложила искать ответы на проблемы в прошлом. Так появилась экоистория как результат повышения общественного экосознания и экокультуры.
Впоследствии новое научное направление значительно разветвилось, установив тесные и разнообразные междисциплинарные связи с гуманитарными и естественными науками. Последние, по образному выражению Питера Берка (Peter Burke), питают экоисторию подобно тому, как притоки наполняют реки. При этом первыми ее «притоками» стали география и экономическая история40. Важную роль в становлении экоистории посредством повышения внимания государства и общественности к экологическим процессам и проблемам окружающей среды сыграли международные естественно-научные издания, такие как журналы «Nature» и «Science». На страницах этих авторитетных изданий анонсировались результаты актуальных исследований, обзоры и рецензии новейших публикаций, дискутировались различные вопросы и др.41
Количество адептов этого научного направления в мире довольно велико и постоянно расширяется. За полвека активного научного поиска в каждой стране накопился огромный пласт исследований, поэтому в рамках данной книги мы не претендуем на составление обширного и тем более исчерпывающего историографического обзора об экологической истории – это задача отдельного, самостоятельного изучения. При этом стоит упомянуть классические работы зарубежных ученых (в хронологическом порядке их появления), заложившие научно-теоретический и методологический фундамент для последующих исследований: Сэмюэла Хэйса (Samuel Hays) о природозащитном движении в США в 1890–1920-е гг.42; Рейчел Карсон (Rachel Carson) о последствиях загрязнения окружающей среды пестицидами43; Родерика Нэша (Roderick Nash) об экосознании и экологической этике в США, отношении американцев к дикой природе44; Альфреда Кросби (Alfred Crosby) о культурно-биологических последствиях открытия Америки, названного им «Колумбовым обменом», под которым понималось перемещение большого количества растений и животных, технологий и культурных достижений, а также групп населения из Старого Света в Новый и наоборот, распространение новых болезней и пр.45; Дональда Хьюза (Donald J. Hughes) об экологии в древних цивилизациях46; Ричарда Уайта (Richard White) о произошедших под влиянием хозяйственной деятельности коренных жителей Америки и прибывших переселенцев социоприродных трансформациях в одном из округов штата Вашингтон (США)47; Дональда Уорстера (Donald Worster) об антропогенном происхождении пыльных бурь на Южных равнинах в 1930-е гг. и о взглядах на использование природных ресурсов в экономике48; Каролин Мерчант (Carolyn Merchant) о восприятии природы в период НТР и женской эмансипации49; Стивена Пайна (Stephen J. Pyne) о росте лесных пожаров в дикой природе под влиянием сельскохозяйственной деятельности американцев50; Уильяма Кронона (William Cronon) об изменении природной среды обитания в Новой Англии (США) в результате жизнедеятельности коренных американцев и европейских переселенцев51; Джона МакНилла (John R. McNeill) о беспрецедентных масштабах изменения человеком природы в XX в.52; исследование Иоахима Радкау (Joachim Radkau), посвященное глобальной экоистории53. Бесспорно, экоистория за полвека своего существования «заняла равноправное место в структуре исторической науки»54.
Авторитетными центрами по изучению глобальной экологической истории являются центр «Окружающей среды и общества» имени Рэйчел Карсон (г. Мюнхен, Германия); Сент-Эндрюсский и Стерлингский университеты (Шотландия); Центр изучения мировой экологической истории в Университете Сассекса в Великобритании (директор – Винита Дамодаран (Vinita Damodaran); Ланкастерский экологический центр Ланкастерского университета в Великобритании и др. Появляются новые центры – например, Эстонский центр экоистории (KAJAK) в Таллинском университете (руководитель – Ульрика Плат (Ulrike Plath), Экологический гуманитарный форум и Междисциплинарный центр изучения окружающей среды и авторитарных режимов Университета Хельсинки, объединяющие 27 ученых из Европы, Северной Америки и Латинской Америки и др.
Наиболее крупными объединениями экологических историков являются Американское общество экологической истории (American Society for Environmental History), Европейское общество экологической истории (European Society for Environmental History), Ассоциация восточноазиатской экологической истории (Association of East Asian Environmental History), Международный консорциум историко-экологических организаций (International Consortium of Environmental History Organizations). Все они нацелены на развитие международного сотрудничества в области экологической истории.
В современной глобальной экоистории обозначились, по меньшей мере, три крупные научные направления: 1) проблемное (экоистория отдельных экосистем, природных ресурсов, промышленная, урбанистическая экоистория и т.д.), 2) территориальное (экоистория отдельных стран и континентов), зачастую состоящее из пересекающихся ответвлений, которые образуют проблемно-территориальный дискурс, 3) транснациональное с элементами сравнительного анализа. Иллюстрацией этого тезиса могут служить, например, сравнительно недавно изданные в Оксфорде сборники статей по проблемам экоистории, в которых отражены результаты исследований всех упомянутых направлений55.
За последние десятилетия появились историко-экологические исследования на стыке устной истории, этноистории, политической истории, экологической экономики, политической экологии, истории науки, экологической археологии и др.56 Активно осмысливается проблема изменения климата в рамках такого междисциплинарного направления, как экологическая гуманитаристика (Environmental Humanities)57. Очевидно одно: интерес к этому направлению растет, четче становятся запросы государства и общества на осуществление подобного рода научных практик. Так, экодвижение давно приобрело социально-политическую форму – экологические партии «зеленых», которые являются полноправными участниками политической дискуссии, членами парламентов и правительств. В России в 2017 г. – в Год экологии – успешно состоялся ряд международных и всероссийских научных конференций по экологической истории, в результате которых круг ученых, идентифицирующих себя с экоисториками, расширился58.
Генезис экоистории в России. Экоистория в России имеет давние традиции и научные корни в виде концепций С. М. Соловьева, В. О. Ключевского, С. М. Середонина, Л. Н. Гумилева, Г. В. Вернадского, Л. В. Милова и многих других. В советское время проблематика взаимодействия природы и человека разрабатывалась представителями исторической географии59. В течение последней четверти века отечественная наука влилась в международное научное направление под названием «экологическая история» и достойно представлена там видными учеными и фундаментальными исследованиями. Отмечается стабильный интерес зарубежных коллег к экоистории России и о России. Одним из актуальных трендов в указанном направлении является изучение проявления не конкретных негативных экологических проблем (что было характерно для предшествующего периода), а их рефлексии государством, обществом, влияние на ментальность.
Время появления экоистории в России наряду с обозначающим это научное направление понятием «экологическая история» относятся к числу дискуссионных. Полагаем, что институциализацию экоистории в России можно отнести к началу 1990-х гг., когда Э. С. Кульпин-Губайдуллин разработал и предложил научной общественности новое научное направление – социоестественную историю (СЕИ), обладающую мощным эвристическим потенциалом60. Эта оригинальная теория вобрала в себя блестящие научные концепции социально-психологической теории капитализма М. Вебера, учения о биосфере В. И. Вернадского, теории евразийства, французской школы «Анналов», теории коэволюции биосферы Н. Н. Моисеева и др.61. Издаваемые с 1992 г. по инициативе Э. С. Кульпина-Губайдуллина сборники статей по итогам проведения ежегодных «крымских» конференций «Природа и человек. Проблемы социоестественной истории», а с 2005 г. – выпуски журнала «История и современность», давно стали значимыми научными событиями для специалистов.
Со второй половины 1990-х гг. и в особенности в течение 2000-х гг. в отечественной науке стало активно распространяться междисциплинарное научное направление «экологическая история» (Environmental History), к которой первыми обратились историки, биологи, географы и др., увидевшие в нем перспективы поиска ответов на современные экологические проблемы. Тогда же появились сборники статей и документов, уже ставшие классическими в сфере экоистории62.
Однако в период научной рецепции возникало дежавю – идеи о влиянии природного фактора на историческое развитие ранее уже обосновывались в исследованиях по истории, исторической географии, этноэкологии и др.: в частности, в работах В. О. Ключевского, С. М. Соловьева, П. Н. Милюкова, М. К. Любавского, В. И. Вернадского, Г. В. Вернадского, А. П. Щапова, С. М. Середонина, А. Л. Чижевского, С. М. Широкогорова, Л. Н. Гумилева, Л. В. Милова, В. И. Козлова, Н. Н. Крадина и многих других, которые были современниками-единомышленниками Ф. Ратцеля, Л. Февра, Ф. Броделя, Э. Ле Руа Ладюри и иных авторитетных мыслителей-кумиров иностранных экоисториков. Долгий процесс становления этого направления в России связан с господством в отечественной науке исторического материализма, в целом признававшего роль природного фактора в историческом развитии, но не в качестве существенного. Период забвения в советский период природно-детерминированных взглядов на историю страны, однако, не означал полного игнорирования советскими учеными проблем взаимосвязи природы и общества в различные исторические периоды. Интерес к ним возрос с 1980-х гг., что было связано с обострением экопроблем63.
Известный историк И. Д. Ковальченко полагал, что история людей неотделима от истории природы, а при изучении истории необходимо учитывать весь комплекс экзогенно-эндогенных факторов, включая естественно-природные64. Не менее знаменитый историк С. О. Шмидт также писал о необходимости разработки методики изучения традиционных исторических источников с целью извлечения из них информации о взаимодействии общества и природы, а также приемов использования данных естественных наук для исторических исследований65.
Иными словами, российский поиск в историко-экологической проблематике имел как общемировые, так и свои, национальные корни. Он, так же как и зарубежный, актуализировался в условиях роста экокризиса, мировых экоугроз, дисбаланса природы и окружающей среды обитания. Особый колорит эко-истории России придает обширность территории и природно-географическое разнообразие страны. Это породило явление неснижающегося интереса зарубежных ученых к экоистории России, создав почти двухмерный уровень исследований – национальный и зарубежный, последний развивается интенсивнее. На этот «парадокс» указывает и американский историк Энди Бруно (Andy Bruno), который отметил несоответствие, с одной стороны, между громадностью территории России и ее запасами природных ресурсов, высоким статусом в глобальной окружающей среде, а с другой – количеством научных исследований по экоистории России66. Видимо, причиной этого является то, что Россия с ее богатейшими ресурсами на бескрайних территориях всегда привлекала внимание иностранцев.
Итак, в сфере экоистории России мы имеем как внутренний, так и внешний пласт научных исследований, породивший концепты «экологическая история в России» и «экологическая история о России». Думается, такая ситуация имеет много шансов обрести «третье измерение» – объединение российских и зарубежных исследований, совместное научное творчество, ведь экоистория России является частью всемирной, а экопроблемы носят глобальный характер. Однако, учитывая международное соперничество за мировые ресурсы, ученым-энвайронменталистам потребуется изрядный запас научной прозорливости и дипломатии для создания эффективной коллаборации.
Современное состояние исследований в сфере экоистории России характеризует теоретический, тематический и методологический плюрализм. Историография экоистории России настолько обширна, что требует систематического изучения и специального обобщения. Отдельные фрагменты историографии экоистории России представлены в различных авторитетных изданиях67. За прошедшие десятилетия в России появились отдельные научные центры и региональные группы по изучению экоистории: Лаборатория экологической и технологической истории Центра исторических исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге (руководитель – Ю. А. Лайус), основными направлениями исследований которой являются экологическая и технологическая история природных ресурсов (особенно водных, лесных, рыбных и минерально-сырьевых), культурная история рек, история Арктики; Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники им. Н. И. Вавилова РАН, изучающий историю науки и техники (А. А. Федотова, В. А. Куприянов и др.); Лаборатория социальной истории в Тамбовском государственном университете им. Г. Р. Державина (руководитель – В. В. Канищев); Лаборатория экологических исследований Сургутского государственного педагогического университета (заведующий – Е. И. Гололобов). Все они способствуют расширению научных исследований и популяризации экоистории в России.
Благодаря богатейшим отечественным научным традициям фундаментальные междисциплинарные социогуманитарные исследования, в т.ч. в проблематике экоистории проводятся в Московском государственного университете им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургском государственном университете, Российском государственном гуманитарном университете, Институте истории и археологии Уральского отделения РАН, Алтайском государственном университете, Набережночелнинском государственном педагогическом университете, Череповецком государственном университете и др. Значительными результатами многолетних исследований российских ученых стали разнообразные монографии по проблемам экоистории России. Среди них отметим книги, близко примыкающие к проблеме нашего исследования: об экологических аспектах аграрного развития Центральной и Европейской России68, экоистории Севера Сибири в первой трети XX в.69, экологических аспектов аграрной модернизации Сибири и др.70
В частности, в работах тамбовских историков всесторонне изучены социоприродные аспекты развития пореформенного аграрного общества Европейской России в восприятии современников; реализация Сталинского плана преобразования природы в Тамбовской области. В монографии Е. И. Гололобова исследованы проблемы взаимодействия человека и природы на Обь-Иртышском Севере в 1917–1930 гг., выделены исторические этапы этого воздействия, показана роль природы в хозяйственно-экономической деятельности человека, дана характеристика процесса формирования регионального природоохранного законодательства. Важно то, что взаимодействие человека и природы исследователь рассматривает в рамках истории природопользования как компонент экологической истории. На примере севера Западной Сибири Е. И. Гололобов показал, как его промышленное освоение «привело к расширению территории окружающей среды и сокращению пространства природы», что породило появление зон экологического бедствия и техногенных катастроф.
Интересны результаты исследования Г. В. Любимовой, выполненного в русле этноэкологии и содержащего примеры про-и контрэкологического поведения крестьян Сибири в XX веке. По ее мнению, экологическая культура сельского населения региона под влиянием перехода от традиционного аграрного к индустриальному типу общества претерпела качественные изменения. Смена ментальных систем порождала формирование новых типов экологического сознания, на основе которых возникало новое экологическое поведение, в котором переплетались экофильные (бережные) и экофобские (расточительные) черты71. Коллективизация нарушила традиционные связи крестьян с землей, вызвала утрату крестьянской психологии и инициативы, ценностного отношения к природе, что пагубно сказалось на состоянии природной среды72. Тесная привязанность крестьян Сибири к земле, особо уважительное и заботливое отношение к ней сохранялись вплоть до начала массовой коллективизации. Экологическая культура сибиряков в условиях политических и социальных пертурбаций, сопровождавшихся неурожаями, голодом и эпидемиями, сводилась к борьбе за выживание73. В народном сознании того времени укрепилось восприятие природных ресурсов как неисчерпаемых и представление о ведущей, преобразовательной роли человека, подчеркивает Г. В. Любимова. Природные ресурсы были поставлены на службу строительства социализма74.
Указанные работы демонстрируют успехи локальных, региональных исследований в сфере экоистории. Очевидно, что для России с ее территориальным и видовым экоразнообразием этот эмпирический этап в развитии экоистории является вполне закономерным, предваряющим этап обобщения и компаративизма.
Наряду с этим большое внимание в современных российских общетеоретических работах уделяется фундаментальным закономерностям влияния природы на развитие социума. Так, исследователями В. В. Бушуевым и В. С. Голубевым разработана теория социогуманизма, в основе которой лежит представление о гармоничном преодолении противоречий современного мира, в т.ч. в структуре «Природа–Общество»75. Это возможно путем перехода от диалектики (диадной парадигмы) к триалектике (триадной парадигме), в которой противостояние материализма и идеализма находит разрешение посредством «нового третьего» – социального гуманизма, т.е. гармоничного и устойчивого развития. Выход из современного глобального кризиса авторы этой теории видят в экосоциогуманитарном развитии, в построении социогуманитарного государства, в котором на основе гармоничного синтеза устраняются основные противоречия: природа-человек, тоталитаризм-демократия, богатство-бедность, права-обязанности и т.д.
Итак, российская научная школа экоистории состоялась как часть мирового научного поиска. По оценке специалистов, за последние годы отмечается поступательное расширение масштаба исследований, движение от региональной экоистории к общероссийской. При этом хорошо разработанными все еще остаются региональные историко-экологические исследования по таким направлениям, как история освоения отдельных природных ресурсов, история взаимодействия традиционных обществ и природной среды обитания, история промышленного загрязнения окружающей среды, история общественного природоохранного движения, государственной природоохранной политики, история урбанизации и городской санитарии и пр. Одновременно активно обсуждается необходимость консолидации научных усилий исследователей, работающих в проблемном поле экоистории, создания всероссийской ассоциации экоисториков. Перспективы такой траектории развития ожидаемы и реальны.
Зарубежная экоистория России. В мировой экоистории особым направлением стала экоистория России. Уже во второй половине XX в. появились многочисленные центры по ее изучению: Джорджтаунский университет, США (Джон МакНил (John McNeill)76, специалист по мировой экологической истории); Университет штата Миссисипи, США (Стивен Брэйн (Stephen Brain)77, специалист по экологической истории СССР); Университет Аризоны, США (Дуглас Винер (Douglas Weiner)78, вице-президент Американского общества по экологической истории (ASEH), специалист по социально-политической истории охраны природы в СССР); Колледж Колби в Вотервиле, штат Мэн, США (Пол Джозефсон (Paul R. Josephson)79, специалист по технологическим аспектам экоистории СССР); Колумбийский университет Нью-Йорка в США (Кэтрин Евтухова (Catherine Evtuhov), специалист по социально-экономической истории российской провинции, истории культуры и науки)80; Университет Западной Виргинии, США (Марк Таугер (Mark Tauger)81, специалист по экономической, аграрной и экологической истории СССР); Йоркский университет, Великобритания (Дэвид Мун (David Moon)82, специалист по экологической истории России-СССР); Бирмингемский университет (Дэнис Шоу (Denis Shaw)83, Джонатан Олдфилд (Jonathan Oldfield)84, которые являются специалистами по исторической географии России-СССР, истории экологической мысли в России); Исследовательский центр изучения России, Кавказа и Центральной Европы во Франции (Марк Эли (Mark Elie), изучающий природные и промышленные катастрофы в СССР, и Лоран Кумель (Laurent Coumel)85, специалист по экологической истории водного хозяйства послевоенного СССР); Киевский эколого-культурный центр в Украине (В. Е. Борейко86, специалист в области истории заповедников) и др. Как явствует из приведенного перечня, лидирующие позиции в изучении экоистории России занимают США и Великобритания.
Интерес зарубежных коллег к состоянию экологии и защите окружающей среды в Советском Союзе возник главным образом на волне активного общественного обсуждения в нашей стране проблем озера Байкал и последствий техногенной катастрофы в Чернобыле. Так, книга Чарльза Зиглера (Charles E. Ziegler) была посвящена экологической политике в СССР периода перестройки. В ней он отмечал, расширение в 1980-е гг. общественного обсуждения экопроблем и рост государственного внимания к ним. По мнению Ч. Зиглера, экополитика советской власти осложнялась громадной территорией страны, обилием разнообразных ресурсов и ведомственной неразберихой между несколькими государственными собственниками при хозяйственном использовании одних и тех же природных ресурсов87.
Разнообразие научных школ определило тематический плюрализм исследований. При этом доминирующее внимание зарубежных исследователей хронологически сосредоточено на периоде СССР и все больше «новой» России, а проблемно – на экологических аспектах индустриализации, промышленного развития, урбанизации, экологических катастроф, истории природоохраны и пр.88 Сравнительно небольшая доля зарубежных исследований посвящена экологическим и демографическим аспектам развития аграрной сферы как дореволюционной, так и советской России, теме засухи и голода 1891 г., социоприродным последствиям коллективизации и деградации окружающей среды под влиянием сельскохозяйственной деятельности. Эти аспекты, например, представлены в работах Теодора Шани-на (Teodor Shanin)89, Стивена Хока (Steven Hoch)90, Дэвида Муна (David Moon)91, Дженни Смит (Jenny Smith)92, Эрика Джонсона (Eric M. Johnson)93 и др.
Актуальным трендом исследований стали работы по истории освоения СССР-Россией Арктики, о развитии энергетики и газовой промышленности94. Среди новейших работ отметим недавно вышедшую монографию американо-российского коллектива авторов, преимущественно сфокусированную на проблемах экоистории СССР95, книгу Энди Бруно (Andy Bruno) из Университета Северного Иллинойса, США, в которой изучены экологические последствия освоения Арктики в период СССР96, книгу Юлии Обертрайс (Julia Obertreis) из немецкого Университета Эрлангена, посвященную сравнительному изучению экологических последствий государственной водной политики в Германии и Центральной Азии в середине XIX–XX в.97 Вообще, в последнее время фокус внимания иностранных ученых все больше смещается с вопросов деградации окружающей среды в СССР, характерных для исследований начального этапа развития эко-истории России за рубежом, в сторону разнообразных аспектов сотрудничества природы и общества в России, попыток сохранения баланса между окружающей средой и природой, рефлексии ученых и деятелей искусства над взаимодействием природы и человека98. Благодаря столь пристальному и заинтересованному вниманию зарубежных ученых к экологическим процессам в России они изучены ими всесторонне и подробнее, чем российскими специалистами.
Смежные научные исследования, примыкающие к проблемам экоистории России. Учитывая проблематику нашего исследования, важнейшими смежными для нас научными направлениями явились политическая история России, социальная история России, аграрная история России, крестьяноведение, историческая демография, историческая география, интеллектуальная история России, клиометрика и количественные методы исторических исследований, история науки, социология и др. Указанные междисциплинарные взаимосвязи теоретико-методологически и фактологически обогатили наш научный поиск и помогли прийти к научно обоснованным выводам. Перечень смежных научных работ огромен, поэтому мы упомянем лишь фундаментальные и самые близкие к нашему вопросу исследования.
Во-первых, для нас были интересны работы, посвященные дореволюционной государственной аграрной и лесной политике периода поздней империи99. Во-вторых, мы обратились к непродолжительному, но важному, на наш взгляд, периоду деятельности Временного правительства. Особенно пристальное внимание неоконченным реформам того периода уделяла зарубежная историография100. Последовательным «адвокатом» деятельности Временного правительства выступил глава трех его коалиционных составов – А. Ф. Керенский101. В отечественной историографии большое внимание уделялось внутренней, в особенности экономической, а также внешней политике Временного правительства. Советская историческая наука фокусировалась на проблеме крестьянских движений в 1917 г. и неудачах внутренней политики Временного правительства, в особенности аграрной. В поле зрения советских историков находилась деятельность Главного земельного комитета и региональных земельных комитетов. В постсоветский период начался новый этап в систематическом исследовании аграрной политики Временного правительства102. Однако интерес к этой проблематике заметно упал по сравнению с предшествовавшим периодом103.
Одним из современных обобщающих исследований об аграрной политике Временного правительства является монография Н. Е. Хитриной, в которой она размышляет над неудавшимся опытом данной политики всех его составов104. Неудачи аграрной политики, по мнению историка, были обусловлены отсутствием реальной коалиции политических сил внутри правительства, невниманием к сложившимся на территории страны разнообразным формам землепользования, бюрократической запутанностью в системе государственных органов, определявших аграрную политику России105. Она отметила заметное влияние на аграрную политику Временного правительства межпартийной Лиги аграрных реформ, выразившееся в том, что ее лидеры стремились преодолеть политические разногласия и повести страну путем реформ, руководствуясь народно-хозяйственными и государственными интересами, а также опытом развития мирового хозяйства. Цель подготовительного этапа земельной реформы лидеры этого объединения видели в комплексной характеристике потенциала аграрной сферы экономики и подготовке на ее основе рекомендаций для Временного правительства и Учредительного собрания106. Интересны и фактологически насыщены новейшие исследования деятельности региональных земельных комитетов107. При этом экологические сюжеты во внутренней политике Временного правительства специально не рассматривались ни в обобщающих, ни в региональных работах.
В-третьих, мы опирались на обширную историографию аграрной истории России-СССР. Нами были востребованы ставшие уже классическими исследования, включая «Ежегодники по аграрной истории Восточной Европы», сборники статей, издаваемые по итогам очередных сессий Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы108, а также новые и новейшие публикации, в т.ч. подготовленные на стыке аграрной и экономической истории109.
В контексте изучаемой нами проблемы привлекают внимание исследования о неурожаях и голодных годах в стране, в особенности самых разрушительных, повлекших значительные людские и материальные потери: 1891/92 гг., 1921 г. и 1924 г. Самыми изученными из них являются неурожай и голод 1891/92 гг. и 1921 г., историография которых насчитывает сотни работ в России и за рубежом110. Земцы-либералы и оппозиционеры-социалисты рубежа XIX–XX вв. приняли энергичное участие в ликвидации последствий голода, помощи голодавшим, обсуждении причин недорода 1891 г., или, как тогда его назвали, «Царь-голода». Они же первыми заложили традицию политизации проблемы, связывая голод с кризисом самодержавия вообще и огрехами царской аграрной политики в частности. Современники-ученые, прежде всего В. В. Докучаев, указывали на социоестественные факторы неурожая: истощение почв под влиянием интенсивной распашки степей, лесов в Европейской России. Большинство исследователей рассматривают генезис неурожаев и голода, в т.ч. и на региональном уровне, как социально-экономическое явление, в меньшей степени – как проявление социоприродногого и экологического кризиса конца XIX – первой четверти XX в. (учащение засух как следствие лесоистребления, изменения режима рек, почвенного покрова и пр.).
Особый блок в аграрной истории страны советского довоенного периода составляют исследования о коллективизации в СССР, взаимоотношениях власти и крестьянства в 1910– 1930-е гг.111, о голоде 1932–1933 гг. Подавляющая часть историков выделяют политические и экономические факторы, определившие причины, масштаб и последствия последнего112. Среди причин голода указывались искусственные, специально организованные И. В. Сталиным и его окружением против украинских националистов (голод-геноцид, голодомор)113, естественно-природного характера (засуха 1932 г.)114, а также последствия противостояния власти и крестьянства в период коллективизации как комплекс причин компромиссного и объективного характера115. В центре дискутируемых последствий голода 1932–1933 гг. с подачи В. П. Данилова стоят, как правило, демографические потери, что вполне объяснимо стремлением провести объективный подсчет числа жертв. Многомиллионные людские потери, понесенные в результате голода и сопутствовавших болезней, по мнению ряда исследователей, были следствием сталинской антикрестьянской политики раскулачивания и коллективизации с целью материального обеспечения индустриализации. Важнейшим событием для всестороннего и взвешенного осмысления причин и последствий голода 1932–1933 гг. стала публикация серии сборников архивных документов, рассекреченных и введенных в широкий оборот в конце 1990-х – 2010-е гг.: «Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД»116, «Трагедия советской деревни: коллективизация и раскулачивание. 1927–1939»117, «Крестьянская революция в России. 1902–1922»118.
Богатейший фонд исследований в сфере аграрной истории России стал для нас важнейшей отправной точкой и концептуальной сокровищницей и в изучении особенностей крестьянской экоментальности, т.к. в контексте экоистории России. В частности, в материалах международной конференции «Менталитет и аграрное развитие России (XIX–XX вв.)», организованной в 1994 г. видными историками-аграрниками И. Д. Ковальченко, Л. В. Миловым, В. П. Даниловым и др., нам были интересны различные точки зрения ученых на системообразующие факторы менталитета российского крестьянства, которые также влияли на природовосприятие и хозяйственное поведение крестьян119. При выявлении и анализе особенностей восприятия крестьянством экопроблем села, значительную помощь оказала теория Л. В. Милова о природно-географическом факторе в истории страны120.
Следующим блоком смежных исследований выступили работы по проблемам социальной истории, исторической памяти, исторической социологии. Прежде всего отметим, что определенную роль в общем понимании эпохи как таковой сыграли исследования В. П. Булдакова121. Более конкретное значение в процессе изучения крестьянского опыта взаимодействия с природной средой обитания для нас имела коллективная монография «Традиционный опыт природопользования в России», ответственными редакторами которой выступили Л. В. Данилова и А. К. Соколов122. Важные концептуальные рассуждения о крестьянской памяти как составной части социальной памяти мы почерпнули в книге И. Е. Козновой, которая изучила особенности крестьянского восприятия насыщенных событий XX в.123 Ею справедливо замечено, что «крестьянская память выступает духовным ресурсом современных аграрных преобразований, ведь социальная память вообще сохраняет в общественном сознании модели прошлого поведения»124.
В рамках исследования И. Е. Козновой нас заинтересовало выявленное ею отношение крестьян к важнейшему природному ресурсу – земле, главному маркеру крестьянского мировосприятия. По материалам этнографических обследований сел Европейской России исследовательница отмечает то, что в 1920-е гг. в крестьянской среде было заметно «стремление к стабилизации и интенсификации землепользования», в т.ч. к использованию практики многополья125.
Особенно насыщена память о заботливом отношении к земле у поколений, родившихся в первой четверти XXв. Оно выражалось распространенной в крестьянских рассказах фразой: «Берегли – это ужас как!».126 Социальное отношение к земле у представителей старшего поколения было более острым и глубоким, т.к. они еще помнили малоземелье, трудности землеустройства. При этом И. Е. Кознова обращает внимание на произошедшую в первой трети XX века трансформацию крестьянского отношения к земле: от бережного восприятия ее как «ничьей», «Божьей», до безразличного как к государственной127.
Уникальное социологическое исследование российской деревни XX в. было проведено в 1990–1993 гг. в рамках российско-британского проекта «Изучение социальной структуры советского и постсоветского села» под руководством Т. Шанина. По его итогам был собран богатейший материал, который послужил для последовавших социологических, исторических, этнологических, культуральных исследований. Истории селений и отдельных крестьянских семей были записаны со слов селян Севера, Центра, Юга, Сибири РСФСР, Белоруссии и Прибалтики. Отдельным сюжетом в этом исследовании стали экологические вопросы128. Экологическую историю российских сел участники проекта делят на три периода: «старый» или «общинно-единоличный» до начала коллективизации, «новый» – с начала коллективизации до конца 1950-х – начала 1960-х гг., «современный» – с 1960-х гг. Основное направление экологической истории села исследователи видят в постепенном разрушении экологического равновесия между крестьянством и природой. «Отлучение» от природной среды обитания было долговременной и целенаправленной государственной политикой. Побочным последствием стало углубление экокризиса в деревне. Социологи подметили то, что эта политика была подчинена «внешним» для крестьянского мира задачам и не контролировалась на уровне села. Крестьяне воспринимали ее как разновидность стихийного бедствия, ниспосланного свыше129.
После коллективизации жизнь села стала жестко управляться сверху. Отдельные аспекты природопользования попали в руки разных ведомств. Исчезла некогда единая экологическая политика, осуществляемая общиной. Смена моделей природопользования проходила постепенно, традиции существовали параллельно с новым. Убыстрила процесс смены моделей Великая Отечественная война, оправдывавшая пренебрежительное и мобилизационное отношение к природным ресурсам. Как полагают исследователи, в 1930-е гг. были заложены важнейшие идеологические и организационно-хозяйственные предпосылки экологического кризиса XX в.130
Определенное научно-теоретическое значение для нашего изыскания имели рассуждения Н. Г. Кедрова о крестьянских «письмах во власть» как феномене выражения их представлений о происходившем в стране в форме политической репрезентации131. В частности, ученый выделил три уровня крестьянской репрезентации в данных источниках: формальный (собственно содержание обращения к власти), прагматический (цели обращения), надпрагматический (представления, не выраженные прямо в формальной части, но «выводящиеся» из анализа прагматической части коммуникационного акта). Опираясь на данный подход, Н. Г. Кедров опроверг устоявшееся в науке мнение о социальном протесте крестьянства в 1930-е гг., указав на конформистский подход крестьянства к власти в рамках допустимой меры ее критики. Важным является вывод историка о том, что крестьяне не предполагали своего участия во власти, рассматривая последнюю в качестве надсоциальной силы, призванной решить все проблемы. Таким образом, заключал исследователь, крестьяне сознательно ставили себя в пассивное положение по отношению к власти, что отвечало ее интересам и обеспечивало устойчивость советского политического режима. Данные выводы оказались нами востребованными при обобщении результатов анализа выявленной фактологии.
Среди работ по политической истории и истории государства и права России укажем исследования, посвященные созданию советского государства и его законодательной деятельности, востребованные нами при контент-анализе декретов советской власти132; анализу программатики политических партий России133, взаимоотношениям советской власти и интеллигенции134 и иные.
Большое научное подспорье оказали исследования в области исторической демографии: объективные демографические данные позволили определить степень антропогенного воздействия традиционного общества на природные ресурсы на различных этапах изучаемого периода, а значит, и остроту экологических проблем135.
В сфере истории науки мы опирались как на обобщающие работы о государственной политике в отношении науки в изучаемый период, развитии отдельных отраслей естественной науки, в особенности аграрной136, так и на тематические, зачастую узкоспециализированные исследования, например, в области почвоведения, сельскохозяйственной метеорологии, климатологии, геоботаники, агролесомелиорации и др.137 Полезны были также издания по экономической географии и районированию138. Многочисленные библиографические указатели и справочные издания наравне с иными оказали помощь в поиске необходимой информации139.
* * *
Стоит признать, что современная мировая наука тяготеет к тому, как заметил еще В. И. Вернадский, чтобы ученые специализировались не по наукам, а по проблемам, т.е. имели совокупное представление, накопленное разными науками по интересующим их проблематикам. Зарубежные исследователи в сфере экоистории небезосновательно призывают российских коллег расширить фокус исследовательского внимания, чаще и смелее применять междисциплинарные методы. Подобные тенденции уже существуют и активно развиваются, однако в довольно замкнутых региональных пределах, причем как научно-предметных, так и географических. Одним из перспективных направлений в экоистории является т.н. культуральный подход – концентрация внимания не на разрушающейся окружающей среде, а на человеке в меняющемся природном окружении и его восприятии происходящих социоприродных трансформаций.
Большие перспективы, как справедливо заметил Й. Радкау, открывают региональные исследования в сфере экоистории, ведь «подлинный прорыв экологическая история сможет совершить только через региональные полевые исследования»140.
Ясно одно: экоистория является актуальным и динамично развивающимся направлением научных исследований на стыке гуманитарных и естественных наук с поистине неисчерпаемым научным потенциалом, который определяется не только проблемно-тематическими лакунами, но и важнейшими практическими задачами сохранения экологического разнообразия, необходимого жизненного обеспечения людей и живых существ, в конечном итоге – поддержания сбалансированной жизни на Земле.
40
Nature’s End. History and the Environment / eds. S. Sörlin & P. Warde. London, 2009. P. 350 (Afterword).
41
См., напр.: McTaggart-Cowen I. Conservation and Man’s Environment // Nature. 1965, December 18. No. 5016. P. 1145–1151; Jones C. J. Environmental History. The Architecture of the Well-Tempered Environment. By R. Benham. London: Architectural Press, 1969. 295 p. // Nature. 1969, July 19. Vol. 223. P. 325– 326; Clapham A. R. Balanced Environment. The Environmental Revolution: A Guide for New Masters of the World. By M. Nicholson. London: Hodder and Stounghton, 1970. 366 p. // Nature. 1970, January 24. Vol. 225. P. 389–390; Environmental Postgraduates // Nature. 1970, February 14. Vol. 225. P. 580; Knystautas A. Steppes for Conservation. Environmental Policy in the USSR. By C. E. Ziegler. London: University of Massachusetts Press, 1987. 195 p. // Nature. 1987, December 10. Vol. 330. P. 527.
42
Hays S. P. Conservation and the Gospel of Efifciency: The Progressive Conservation Movement, 1890–1920. Cambridge, 1959.
43
Carson R. Silent Spring. Boston, 1962.
44
Nash R. Wilderness and the American Mind. New Haven, 1967; Nash R. The Rights of Nature. A History of Environmental Ethics. Madison, 1988.
45
Crosby A. The Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492. Westport, 1972.
46
Hughes D. J. Ecology in Ancient Civilizations. Albuquerque, 1975.
47
White R. Land Use, Environment, and Social Change: The Shaping of Island County Washington. Seattle, 1979.
48
Worster D. Nature’s Economy: A History of Ecological Ideas. Cambridge, 1977 / Worster D. Dust Bowl: The Southern Plains in the 1930s. New York, 1979.
49
Merchant C. Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution. New York, 1980.
50
Pyne S. J. Fire in America: A Cultural History of Wildland and Rural Fire. Princeton, 1982.
51
Cronon W. Changes in the Land: Indians, Colonists, and the Ecology of New England. New York, 1983.
52
McNeill J. R. Something new under the Sun. An environmental history of the 20th century world. New York, 2000.
53
Radkau J. Nature and Power: A Global History of the Environment / trans. Dunlap, Thomas. New York, 2008 (книга впервые вышла в Германии, в 2000 г.)
54
Дурновцев В. И. «Environmental History» как «экологическая история» (историографические заметки) // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2017. № 6. С. 11, 13.
55
A Companion to Global Environmental History / eds. J. R. McNeill and E. S. Maudlin. Oxford, 2012; The Oxford Handbook of Environmental History / eds. A. Isenberg. Oxford, 2013.
56
Telling Environmental Histories. Intersections of Memory, Narrative and Environment / eds. K. Holmes & H. Goodall. London, 2017; Endres D. Environmental Oral History. Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture. 2011. Vol. 5. No. 4. P. 485–498; Paavola J., Evan D. G. Fraser Ecological Economics and Environmental History // Ecological Economics.2011. Vol. 70. Is. 7. 1266–1268; Wolloch N. Nature in the History of Economic Thought: How Natural Resources became an Economic Concept. Abingdon, 2016; Thinking through the Environment: Green Approaches to Global History / ed. T. Myllyntaus. Cambridge, 2011; Anker P. Environmental History versus History of Science // Reviews in Anthropology. 2002. Vol. 31. No. 4. P. 301–322; Cohen B. R. New Natures: Joining Environmental History with Science and Technology Studies // Environmental History. 2014. Vol. 19. Is. 3. P. 575–576; Deagan K. A. Environmental Archaeology and Historical Archaeology. In: Case Studies in Environmental Archaeology. Interdisciplinary Contributions to Archaeology / eds. E. J. Reitz, S. J. Scudder, C. M. Scarry. New York, 2008. P. 21–42.
57
Climate Change and Humanities. Historical, Philosophical and Interdisciplinary Approaches to the Contemporary Environmental Crisis / eds. A. Elliott, J. Cullis, V. Damodaran. London, 2017.
58
Виноградов А. В., Гололобов Е. И. Экологическая история в России и о России в 2017 году // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2017. № 6. С. 104–107.
59
Аверьянов К. А. Историческая география: между историей и географией // Человек и природа: История взаимодействия, источники и информационные ресурсы, визуальные образы и исследовательские практики: мат-лы XXX Междунар. науч. конф. Москва, 25-26 апреля 2017 г. / отв. ред. В. И. Дурновцев. М., 2017. С. 11–21.
60
Кульпин Э. С. Социоестественая история. От метода – к теории, от теории – к практике. Волгоград, 2014.
61
Олех Г. Л. Источники и составные части концепции СЕИ // Человек и природа: мат-лы XXVII Международной междисциплинарной конференции «Проблемы социоестественных исследований» и Международной междисциплинарной молодежной школы «Стратегии экологической безопасности» / под ред. Н. О. Ковалевой, С. К. Костовска, А. С. Некрич, О. А. Салимгареевой. М., 2017. С. 106.
62
Экология и власть. 1917–1990. Документы / под ред. акад. А. Н. Яковлева; сост. В. И. Пономарева и др.; вступ. ст. акад. Н. Н. Моисеева; консульт. О. Р. Лацис. М., 1999; Историческая экология и историческая демография: сб. науч. ст. / под ред. Ю. А. Полякова. М., 2003; Человек и природа: экологическая история / под общ. ред. Д. Александрова, Ф.-Й. Брюггемейера, Ю. Лайус. СПб., 2008.
63
Альтшулер И. А., Мнацаканян Р. А. К вопросу об экологической истории СССР // Русский космизм и ноосфера: Тезисы докладов Всесоюзной конференции, Москва, 1989 / ред.-сост. О. Д. Куракина. Ч. I. М., 1989. С. 99–101; Тихонова Н. Е. Решение экологических проблем в СССР: история и современность. М., 1989; Лисина Л. Ю. Экологический компонент исторического процесса: автореф. дис… к. филос. н. Волгоград, 1988 и др.
64
Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 1987. С. 303.
65
Шмидт С. О. Проблема взаимодействия общества и природы и некоторые вопросы источниковедения // Общество и природа. Исторические этапы и формы взаимодействия / отв. ред. М. П. Ким. М. 1981. С. 275.
66
Bruno A. Russian Environmental History: Directions and Potentials // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2007. Vol. 8. No. 3. P. 636.
67
См., например: Калимуллин А. М. Историческое исследование региональных экологических проблем. М., 2006; Человек и природа: экологическая история / под общ. ред. Д. Александрова, Ф.-Й. Брюггемейера, Ю. Лайус. СПб., 2008; Дурновцев В. И. Человек и природа: взаимодействие в истории в глобальном, региональном, локальном измерении // Человек и природа: История взаимодействия, источники и информационные ресурсы, визуальные образы и исследовательские практики: мат-лы XXX Междунар. науч. конф. Москва, 25–26 апреля 2017 г. / отв. ред. В. И. Дурновцев. М., 2017. С. 57–68; White R. Environmental History: The Development of a New Historical Field // Pacific Historical Review. 1985. Vol. 54. No. 3. P. 297–335; McNeill J. R. Observations on the Nature and Culture of Environmental History // History and Theory. 2003. Vol. 42. No. 1. P. 5–43; Bruno A. Russian Environmental History: Directions and Potentials // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2007. Vol. 8. No. 3. P. 635–650.
68
Аврех А. Л., Канищев В. В. «Зеленая революция» или напасть? Очерки по истории Сталинского плана преобразования природы в Тамбовской области, Тамбов, 2011; Цинцадзе Н. С. Демографические и экологические проблемы развития аграрного общества России во второй половине XIX – начале XX века в восприятии современников / отв. ред. В. В. Канищев. Тамбов, 2012.
69
Гололобов Е. И. Человек и природа на Обь-Иртышском Севере (1917– 1930 гг.): исторические корни современных экологических проблем / отв. ред. В. П. Зиновьев. 2-е изд., перераб. и доп. Ханты-Мансийск, 2012.
70
Любимова Г. В. Очерки истории взаимодействия сельского населения Сибири с природной средой (на материалах русской земледельческой традиции) / отв. ред. И. В. Октябрьская. Новосибирск, 2012.
71
Там же. С. 90–91.
72
Там же. С. 96, 102.
73
Там же. С. 156.
74
Там же. С. 157.
75
См., напр.: Бушуев В. В., Голубев В. С. Эргодинамика. Экоразвитие. Социогуманизм. М., 2014.
76
A Companion to Global Environmental History / ed. J. R. McNeill & E. S. Mauldin. Malden, 2012.
77
Brain S. Song of the Forest: Russian Forestry and Stalin’s Environmentalism. Pittsburgh, 2011.
78
Weiner D. Models of Nature: Ecology Conservation and Cultural Revolution in Soviet Russia. Pittsburgh, 2000.
79
Josephson P. The Conquest of the Russian Arctic. Cambridge, 2014.
80
Evtuhov C. The Roots of Dokuchaev’s Scientific Contributions: Cadastral Soil Mapping and AgroEnvironmental Issues. In Footprints in the Soil: People and Ideas in Soil History. Boston, Mass, 2006. P. 125–148; Evtuhov C. Portrait of a Russian province: economy, society, and civilization in nineteenth-century Nizhnii Novgorod. Pittsburgh, 2011.
81
Tauger M. Agriculture in World History. London, New York, 2011.
82
Moon D. The Plough that Broke the Steppes: Agriculture and Environment on Russia’s Grasslands, 1700–1914. Oxford: Oxford University Press, 2013.
83
Shaw D., Pallot J. Landscape and Settlement in Romanov Russia, 1613–1917. Oxford, 1990; Shaw D. Mastering nature trough science: Soviet Geographers and the Great Stalin Plan for the transformation of nature Slavonic and European Review. 2015. Vol. 93. No. 1. P. 120–146.
84
Oldfield J. D. Russian Nature: Exploring the Environmental Consequences of Societal Change. Burlington, VT, 2005; Oldfield J., Lajus J., Shaw D. Conceptualizing and utilizing the natural environment: critical reflections from Imperial and Soviet Russia // Slavonic and East European Review. 2015. Vol. 93. No. 1. P. 1–15; Oldfield J., Lajus J., Shaw D. Conceptualizing and utilizing the natural environment: critical reflections from Imperial and Soviet Russia // Slavonic and East European Review. 2015. Vol. 93. No. 1. P. 1–15.
85
Coumel L., Elie M. A Belated and Tragic Ecological Revolution: Nature, Disasters, and Green Activists in the Soviet Union and the Post-Soviet States, 1960– 2010 // The Soviet and Post-Soviet Review. 2013. Vol. 40. Is. 2. P. 157–165.
86
Борейко В. Е. Белые пятна природоохраны. Киев, 2003.
87
Ziegler C. E. Environmental Policy in the USSR. London, 1987.
88
Josephson P., Coumel L., Elie M., Weiner D. и др. Указ. соч.
89
Рефлексивное крестьяноведение: Десятилетие исследований сельской России / под ред. Т. Шанина и др. М., 2002.
90
Hoch S. L. Serfdom and Social Control in Russia: Petrovskoe, a Village in Tambov. Chicago, London, 1986.
91
Moon D. The Abolition of Serfdom in Russia, 1762–1907. Harlow, 2002; Moon D. The Environmental history of the Russian steppes: Vasilii Dokuchaev and the Harvest Failure of 1891 // Transactions of the Royal Historical Society. 2005. Vol. 15. P. 149–174; Moon D. Agriculture and the Environment on the Steppes in the nineteenth century // Peopling the Russian periphery: Borderland Colonization in Eurasian history / ed. by N. Breyfogle [et al.]. Abingdon, New York, 2007. P. 81–105; Moon D. The debate over Climate Change in the Steppe region in nineteenth century Russia // Russian Review. 2010. Vol. 69. P. 251–275; Moon D. The Grasslands of North America and Russia // A Companion to Global Environmental History / eds. J. R. McNeill & E. S. Maudlin. Oxford, 2012. P. 247–262; Moon D. The Steppe as Fertile Ground for Innovation in Conceptualizing Human-Nature Relationships Slavonic and East // Slavonic and European Review. 2015. Vol. 93. No. 1. P. 16–38.
92
Smith J. Improving Socialist Animals: American Farming Experts on the Soviet Collectivization // Историко-биологические исследования. 2012. Т. 4. № 3. С. 101–115; Smith J. L. Works in Progress: Plans and Realities on Soviet Farms, 1930–1963. New Haven, 2014.
93
Johnson E. Demographics, Inequality and Entitlements in the Russian Famine of 1891 // Slavonic and European Review. 2015. Vol. 93. No. 1. P. 96–119.
94
Stolberg E. M. From Icy Backwater to Nuclear Waste Ground: The Russian Arctic Ocean in the Twentieth Century. In: Sea Narratives: Cultural Responses to the Sea, 1600–Present / ed. C. Mathieson. Cham, 2016. P. 111–137; Kaganovsky L. The Negative Space in the National Imagination: Russia and the Arctic. In: Arctic Environmental Modernities / eds. L. A. Körber, S. MacKenzie, A. Westerståhl Stenport. Cham: Palgrave Macmillan, 2017. P. 169–182; Hоnneland G. The Russian Factor. In: Arctic Euphoria and International High North Politics. Singapore, 2017. P. 43–59; Peroviс J. The Soviet Union’s Rise as an International Energy Power: A Short History. In: Cold War Energy / ed. J. Peroviс. Cham, 2017. P. 1–43; Högselius P. Before Siberia: The Rise of the Soviet Natural Gas Industry. In: Red Gas and the Origins of European Energy Dependence. New York, 2013. P. 13–29.
95
An Environmental History of Russia / eds. P. Josephson, N. Dronin, R. Mnatsakanian, A. Cherp, D. Efremenko, V. Larin. Cambridge, 2013.
96
Bruno A. The Nature of Soviet Power: An Arctic Environmental History. New York, 2016.
97
Obertreis J. Imperial Desert Dreams: Cotton Growing and Irrigation in Central Asia, 1860–1991. Göttingen, 2017.
98
Мун Д. Российская и советская экологическая история в современной западной науке // Российская провинция как социокультурное поле формирования гражданской и национальной идентичности: сб. науч. ст.: мат-лы VIII Международных Стахеевских чтений, г. Елабуга, 16–17 ноября 2017 г. / сост. И. В. Маслова, И. Е. Крапоткина, Г. В. Бурдина. Елабуга, 2017. С. 14–21.
99
Истомина Э. Г. Леса России: экологическая и социоэкономическая история (XVIII – начало ХХ в.). М., 2019; Плаксин В. Н. Организация агрономической помощи крестьянству как важная составляющая в деятельности Главного управления землеустройства и земледелия в период Столыпинской реформы // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2014. № 3. С. 284–289; Воронов И. И. Министерство земледелия в царствование Николая II (1894–1917 гг.) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 12. Ч. 1. С. 51–54; Книга М. Д. Первые шаги Министерства земледелия и государственных имуществ в сфере сельскохозяйственного просвещения в Российской империи в 90-х гг. XIX века // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2015. № 4. С. 308–313 и др.
100
Elkin B. The Kerensky Government and its Fate // Slavic Review. 1964. Vol. 23. No. 4. P. 718–736; Mosse W. E. Interlude: The Russian Provisional Government 1917 // Soviet Studies. 1964. Vol. 15. No. 4. P. 408–419; Schlesinger R. Kerensky and the Russian Provisional Government // Science and Society. An Independent Journal of Marxism. 1964. Vol. 28. No. 3. P. 305–315; Elkin B. Further Notes on the Policies of the Kerensky Government // Slavic Review. 1966. Vol. 25. No. 2. P. 324–332; Gill G. J. The Failure of Rural Policy in Russia, February-October 1917 // Slavic Review. 1978. Vol. 37. No. 2. P. 241–258; Gill G. J. Peasants and Government in the Russian Revolution. L., Basingstocke, 1979; Orlovsky D. T. Reform during Revolution: Governing the Provinces in 1917 // Reform in Russia and the USSR: Past and Prospects / ed. R. O. Crummey. Urbana, Chicago, 1989. P. 100–125; Orlovsky D. T. Corporatism or Democracy: the Russian Provisional Government of 1917 // Soviet and Post Soviet Review. 1997. Vol. 24. No. 1. P. 15–25; Thatcher I. D. Memoirs of the Russian Provisional Government 1917 // Revolutionary Russia. 2014. Vol. 27. No. 1. P. 1–21.
101
The Russian Provisional Government, 1917: Documents selected and edited by R. P. Browder and A. F. Kerensky. Vol. 1–3. Stanford, 1961.
102
См., напр.: Сельцер Д. Г. Главный земельный комитет: из истории подготовки аграрной реформы в 1917 г. // Крестьяне и власть: материалы конференции. М.-Тамбов: МШСЭН, ТГТУ, 1996. С. 89–98.
103
Малышева С. Ю. Российское Временное правительство 1917 года: отечественная историография: дис… докт. ист. наук. Казань, 2000.
104
Хитрина Н. Е. Аграрная политика Временного правительства в 1917 г. Н. Новгород, 2001.
105
Там же. С. 373.
106
Там же. С. 57.
107
Погорелый Д. Н. Земельные комитеты Тамбовской губернии, 1917– 1918 гг.: автореф. дис… канд. ист. наук. Тамбов, 2002; Диндаров А. И. Земельные комитеты Среднего Поволжья в 1917–1918 гг.: автореф. дис… канд. ист. наук. Казань, 2002; Артемов С. Н. Земельные комитеты на Юге России в 1917 – первой половине 1918 года: автореф. дис… докт. ист. наук. Пятигорск, 2008; Пивоваров Н. Ю. Земельные комитеты в Сибири (апрель-декабрь 1917 г.) // Сибирская деревня: проблемы истории. Новосибирск: Сибпринт, 2014. С. 42–66; Саблин В. А. Земельные органы в северной деревне в период аграрной революции 1917–1918 гг. // Вестник Вологодского государственного университета. Серия: Гуманитарные, общественные, педагогические науки. 2016. № 1. С. 18–24.
108
Егиазарова Н. А. Аграрный кризис конца XIX века в России. М., 1959; Першин П. Н. Аграрная революция в России. Историко-экономическое исследование: в 2 кн. М., 1966; Данилов В. П. Советская доколхозная деревня. М., 1977; Анфимов А. М. Крестьянское хозяйство Европейской России. 1881–1904. М., 1980; Зеленин И. Е. Совхозы СССР в годы довоенных пятилеток. 1928– 1941 гг. М., 1982; Кабанов В. В. Крестьянское хозяйство в условиях «военного коммунизма» / отв. ред. В. П. Данилов. М., 1988; Ковальченко И. Д., Моисеенко Т. А., Селунская Н. Б. Социально-экономический строй крестьянского хозяйства Европейской России в эпоху капитализма: источники и методы исследования. М., 1988 и др.
109
Шмелёв Г. И. Аграрная политика и аграрные отношения в России в XX в. М., 2000; Перепелицын А. В., Фурсов В. Н. Крестьянское хозяйство центрально-черноземных губерний России в пореформенный период. Воронеж, 2005; Бабашкин В. В. Россия в 1902–1935 гг. как аграрное общество: закономерности и особенности отечественной модернизации. М., 2007; Есиков С. А. Крестьянское землевладение и землепользование в Тамбовской губернии в пореформенное время (1861–1905 гг.): историко-правовое исследование. СПб., 2007; Козлов С. А. Аграрная рационализация в Центрально-Нечерноземной России в пореформенный период (по материалам экономической печати). М., 2008; Есиков С. А. Российская деревня в годы НЭПа. К вопросу об альтернативах сталинской коллективизации (по материалам Центрального Черноземья). М., 2010; Надькин Т. Д. Сталинская аграрная политика и крестьянство Мордовии. М., 2010; Нефёдов С. А. О предпосылках сталинской коллективизации // Россия XXI. 2012. № 6. С. 100–109; Современное крестьяноведение и аграрная история России в ХХ веке / под ред. В. В. Бабашкина. М., 2015; Нефёдов С. А. Уровень жизни населения и аграрное развитие России в 1900–1940 годах. М., 2017 и др.
110
Поляков Ю. А. Недород 1924 г. и борьба с его последствиями // История СССР. 1958. № 1. С. 52–82; Книга М. Д. История голода 1891–1892 гг. в России: автореф. дис… канд. ист. наук. Воронеж, 1997; Поляков В. А. Поволожский голод начала 1920-х гг.: к историографии проблемы // Новый исторический вестник. 2005. № 12. С. 36–50; С. 44–55; Мун Д. Экологическая история российских степей: Василий Докучаев и неурожай 1891 г. // Вопросы истории естествознания и техники. 2009. № 3. С. 48–71; Урядова А. В. Голод 1920-х гг. и Русское зарубежье. СПб., 2010; Пьянков С. А., Михалев Н. А. Голод 1891–1892 гг. в России в советской и современной отечественной историографии // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2015. №. 1. С. 44–55 и др.
111
Судьбы российского крестьянства: сб. ст. / под. общ. ред. Ю. Н. Афанасьева. М., 1996; Крестьянство и власть в истории России XX века: сб. науч. ст. участн. Международ. круглого стола (Журнал «Власть», Институт социологии РАН, Москва, 12 ноября 2010 г.) / под ред. П. П. Марченя, С. Ю. Разина. М., 2011; Сталинизм и крестьянство: сб. науч. ст. и мат-лов кругл. столов и засед. теорет. семин. «Крестьянский вопрос в отечественной и мировой истории» / под ред. П. П. Марченя, С. Ю. Разина. М., 2014 и др.
112
Осокина Е. А. Иерархия потребления. О жизни людей в условиях сталинского снабжения. 1928–1935. М., 1993; Кондрашин В. В. Голод 1932–1933 годов: трагедия советской деревни. М., 2008; Ивницкий Н. А. Голод 1932–1933 годов в СССР: Украина, Казахстан, Северный Кавказ. Поволжье, Центрально-Черноземная область, Западная Сибирь, Урал. М., 2009; Надькин Т. Д. Сталинская аграрная политика и крестьянство Мордовии. М., 2010 и др.
113
Conquest R. The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror-Famine. London, 1986; Mace J. E. The Famine of 1933: A Survey of the Sources. Famine in Ukraine 1932–1933 / eds. R. Serbyn and B. Krawchenko. Edmonton, 1986. P. 45–65; Кульчицкий С. В. Почему он нас уничтожил? Киев, 2007 и др.
114
Tauger М. B. The 1932 Harvest and the Famine of 1933 // Slavic Review. 1991. Vol. 50. No. 1. P. 70–89; Таугер М. Б. Урожай 1932 г. и голод 1933 г. // Судьбы российского крестьянства: сб. ст. / под. общ. ред. Ю. Н. Афанасьева. М., 1996. С. 298–332; Tauger М. B. Natural Disaster and Human Actions in the Soviet Famine of 1931–1933 // Carl Beck Papers. No. 15 006. Pittsburg, 2001; Tauger М. B. Soviet Peasants and Collectivization, 1930–1939: Resistance and Adaptation // Rural Adaptation in Russia / ed. S. K. Wergen. London, New York, 2005. P. 65–94.
115
Fitzpatrick S. Stalin’s Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village after Collectivization. New York; Oxford, 1994; Viola L. Peasant Rebels under Stalin: Collectivization and the Culture of Peasant Resistance. New York, 1996; Graziozi A. The great Soviet peasant war. Bolsheviks and Peasants, 1917–1933. Cambridge, 1996; Дэвис Р., Уиткрофт С. Годы голода: Сельское хозяйство СССР, 1931–1933 / пер. с англ. О. Ю. Вздорик; под ред. Л. Ю. Пантиной. М., 2011 и др.
116
Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918–1939. Документы и материалы: в 4 т. / под ред. А. Береловича, В. Данилова. М., 1998–2012.
117
Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927– 1939: Документы и материалы: в 5 т. / гл. ред. совет: В. Данилов и др. М., 1999– 2006.
118
Крестьянское движение в Поволжье. 1919–1922. Документы и материалы / под ред. В. Данилова, Т. Шанина. М., 2002; Крестьянское движение в Тамбовской губернии. 1917–1918: документы и материалы / сост. В. Данилов, В. Канищев, Г. Ходякова. М., 2003; Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине, 1918–1921: документы и материалы / сост. В. П. Данилов и др. М., 2006.
119
Менталитет и аграрное развитие России (XIX–XX вв.): мат-лы Междунар. конф. М., 1996.
120
Милов Л. В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М., 2001.
121
Булдаков В. П. Утопия, агрессия, власть. Психосоциальная динамика постреволюционного времени. Россия, 1920–1930 гг. М., 2012.
122
Традиционный опыт природопользования в России. М., 1998.
123
Кознова И. Е. XX век в социальной памяти российского крестьянства. М., 2000.
124
Там же. С. 35, 52.
125
Там же. С. 45.
126
Там же. С. 188.
127
Там же. С. 89.
128
Денисова Л. Н. Экологическая память российской деревни XX в. (по материалам социологических обследований 1990-х годов) // Историческая экология и историческая демография: сб. науч. ст. / под ред. Ю. А. Полякова. М., 2003. С. 211–238.
129
Там же. С. 212–213.
130
Там же. С. 216–217.
131
Кедров Н. Г. Крестьянские «письма во власть» как форма политической репрезентации (на материалах северной деревни 1930-х гг.) // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 2011. № 1. С. 337–343.
132
См., напр.: Городецкий Е. Н. Рождение Советского государства. М., 1965; Керимов А. Д. Законодательная деятельность Советского государства. М., 1955; Морозова Е. Н., Раскин Д. И. Становление советской государственности: использование имперского наследия в сфере центрального управления // Новейшая история России. 2017. № 3. С. 7–23 и др.
133
См., напр.: Протасов Л. Г. Вопросы экологии в программатике политических партий России начала XX века // Экологические проблемы модернизации российского общества в XIX – первой половине XX вв.: мат-лы межрегион. конф. Тамбов, 5–6 окт. 2005 г. / отв. ред. В. В. Канищев. Тамбов, 2005. С. 20–29.
134
См., напр.: Казанин И. Е. Советская власть и русская интеллигенция: политико-правовые аспекты отношений // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2000. № 5. С. 198–214.
135
См., напр.: Волков Е. З. Динамика народонаселения СССР за 80 лет. М.-Л., 1930; Прокопович С. Н. Народное хозяйство СССР: в 2 т. Нью-Йорк, 1952. Т. 1; Рашин А. Г. Население России за 100 лет (1811–1913 гг.). М., 1956; Данилов В. П. Динамика населения СССР за 1917–1929 гг. // Археографический ежегодник за 1968 г. М., 1970. С. 242–254; Денисенко М. Б. Демографический кризис 1914– 1922 // Вестник Московского ун-та. Серия Социология и политология. 1998. № 2. С. 78–96; Морозов С. Д. Демографическое поведение сельского населения Европейской России (конец XIX – начало XX в.) // Социологические исследования. 1999. № 7. С. 99–106; Население России в XX веке: исторические очерки: в 3 т. / отв. ред. Ю. А. Поляков. М., 2000. Т. 1. 1900–1939 гг.; Жиромская В. Б. Основные тенденции демографического развития России в XX веке. М., 2012; Нефёдов С. А. Аграрные и демографические итоги сталинской коллективизации. Тамбов, 2013.
136
См., напр.: Никонов А. А. Спираль многовековой драмы: аграрная наука и политика России (XVIII–XX вв.). М., 1995; Елина О. Ю. Наука для сельского хозяйства в Российской империи: формы патронажа // Вопросы истории естествознания и техники. 1995. № 1. С. 40–63; Елина О. Ю. Сельскохозяйственные опытные станции в начале 1920-х гг.: Советский вариант реформы // На переломе: советская биология в 20–30-х годах / под ред. Э. И. Колчинского. СПб., 1997. С. 27–85; Елина О. Ю. Ученые, агрономы и задача «подъема сельского хозяйства»: социально-экономический контекст развития прикладной науки (конец XIX – 1920-е гг.) // Годичная научная конференция ИИЕиТ им. С. И. Вавилова РАН – 1998. М., 1999. С. 289–292; Зонн С. В. История почвоведения России в XX веке (неизвестные и забытые страницы): в 2 ч. М., 1999. Ч. 2; Елина О. Ю. Сельскохозяйственная наука в 1920-е гг.: первая советская реформа // За «Железным занавесом»: мифы и реалии советской науки / под ред. М. Хайнеманна и Э. И. Колчинского. СПб., 2002. С. 245–264; Елина О. Ю. От царских садов до советских полей. История сельскохозяйственных опытных учреждений, XVIII – 20-е годы XX века: в 2 т. М., 2008; Елина О. Ю. Сельскохозяйственные общества России, 1765–1920-е гг.: вклад в развитие агрономии // Российская история. 2011. № 1. С. 27–44; Гончаров Н. П. Государственная организация аграрной науки в России (к 175-летию РАСХН) // Историко-биологические исследования. 2012. Т. 4. № 3. С. 10–33; Лоскутова М. В., Федотова А. А. Становление прикладных биологических исследований в России: взаимодействие науки и практики в XIX – начале ХХ вв. Исторические очерки / отв. ред. Э. И. Колчинский. СПб., 2014; De Winter H. L. Down to Earth: historians and historiography of soil knowledge (1975–2011). Историко-биологические исследования. 2012. Т. 4. № 1. С. 73–91.
137
См., например: Берг Л. С. Климат и жизнь. М., 1947; Соболев С. С. Эрозия почв и борьба с нею. М., 1950; Мильков Ф. Н. Лесостепь Русской равнины. Опыт ландшафтной характеристики. М., 1950; Венцкевич Г. З. Сельскохозяйственная метеорология. Л., 1952; Цветков М. А. Динамика лесистости Европейской России в XVIII, XIX начале XX столетий: автореф. дис… докт. сельскохоз. наук. М., 1954; Эйтинген Г. Р. Лес в степи. М., 1954; Молчанов А. А. Лес и климат. М., 1961; Афанасьева Е. А. Черноземы Средне-Русской возвышенности. М., 1966; Тарасенко В. П. Динамика лесистости и породного состава лесов Европейской части СССР и лесовосстановление. М., 1972; Рубцов М. В. Защитноводоохранные леса. М., 1972; Трасс Х. Х. Геоботаника. История и современные тенденции развития. Л., 1976; Долгиевич М. И. Пыльные бури и агролесомелиоративные мероприятия. М., 1978; Сухова Н. Г. Развитие представлений о природном территориальном комплексе в русской географии. Л., 1981; Русский чернозем – 100 лет после Докучаева / отв. ред. В. А. Ковда, Е. М. Самойлова. М., 1983; Крестовский О. И. Влияние вырубок и восстановления лесов на водность рек. Л., 1986; Зеленин И. Е. Невостребованная наука (аграрная наука и социалистическая практика конца 1920 – начала 1930-х гг.) // Аграрные технологии в России. IX–XX вв.: мат-лы XXV сес. Симп. по аграр. истории Восточ. Европы. Арзамас, 1999. С. 276–288; Крупенников И. А. Черноземы. Возникновение, совершенство, трагедия деградации, пути охраны и возрождения. М., 2008; Носкова О. Л. Деятельность Комиссии по изучению естественных производительных сил России под руководством В. И. Вернадского // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2013. Т. 15. № 3. С. 33–37; Мордкович В. Г. Степные экосистемы / отв. ред. И. Э. Смелянский. 2-е изд. испр. и доп. Новосибирск, 2014; Буянкин В. И. Первопроходец степного землепользования в Поволжье (к 150-летию со дня рождения В. С. Богдана) // Вавиловские чтения-2015: сб. ст. Международной науч.-практ. конф., посвящен. 128-й годовщине со дня рождения акад. Н. И. Вавилова. Саратов, 2015. С. 3–8.
138
См., напр.: Покшишевский В. В. Центрально-Черноземная область. М.-Л., 1929; Тутыхин Б. А. Центрально-Черноземная область. М., 1929 и др.
139
Советское общество в воспоминаниях и дневниках. Аннотированный библиографический указатель книг, публикаций в сборниках и журналах: в 8 т. Т. 1. 1917–1941 гг. / науч. ред. В. З. Дробижев. М., 1987; Россия 1913 год: статистико-документальный справочник / отв. ред. А. П. Корелин. СПб., 1995; Библиография русской библиографии: указ. библиогр. пособий. Ч. 1. 1917–1921 гг. / сост.: С. Н. Котломанова (отв. сост.), В. Н. Горбалы, Е. Л. Кокорина, Е. С. Ронина; авт. предисл. и науч. ред. Г. В. Михеева. СПб., 2000; Библиография русской библиографии: указ. библиогр. пособий. Ч. 2. 1922–1927 гг. / сост.: С. Н. Котломанова; авт. предисл. и науч. ред. Г. В. Михеева. СПб., 2005 и др.
140
Радкау Й. Природа и власть. Всемирная история окружающей среды / пер. с нем., сост. указ. Н. Ф. Штильмарк. М., 2014. С. 13.