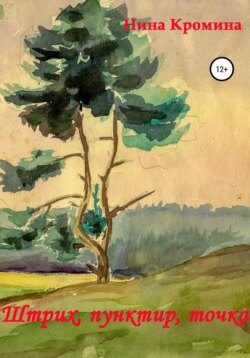Читать книгу Штрих, пунктир, точка - Нина Кромина - Страница 9
Мемуары
Мемуар 9. От Новослободской до Сущёвского тупика и дальше.
ОглавлениеДед, Георгий Константин (да, два имени, правда, этого второго имени мы, его внуки, долго не знали) Гофман, пенсию, как и все советские пенсионеры, получал нищенскую. Но это никак не отражалось на его самодостаточности. Бодр. Уверен в себе. Если же надевал френч с барского плеча – подарок жены именитого сановника, то уж и говорить нечего. И лишь довоенное драповое пальто, которое он носил в ненастные осенние дни, сутулило его и старило.
Под вечер дед переходил Новослободскую, направляясь на прогулку. Так он озвучивал свое скорбное сидение в сквере у пожарной каланчи в Сущёвском тупике, где когда-то познакомился со своей будущей супругой, моей бабушкой Еленой Николаевной. Иногда к нему подходил маленький старичок: бородка острым клинышком, пенсне; иногда мужчина среднего роста, тоже пожилой, с палочкой и хлюпающим протезом. Все они когда-то были женаты на сёстрах, проживающих в доме Овчинниковой…1
Помню и я, болтая ногами, сидела на этой же скамейке и наблюдала, как выскакивали из ворот пожарные, разматывали и сматывали упругие резиновые шланги, повторяя эти упражнения бесконечное количества раз, пока главный, взмахнув рукой, не давал отбой. Иногда пожарные, запрыгнув в машины, срываясь, уносились куда-то.
Рядом с пожарной частью находилось сущёвское полицейское отделение. В нём, как в пересыльной тюрьме, в 1909 году содержался В.В. Маяковский, проживающий в то время на Божедомке (на этой улице в детстве жил и Ф.М. Достоевский), в это учреждение отправляли в молодости свои прошения моя бабушка и её сестры с весьма странным содержанием: сменить подданство. Дело в том, что среди их предков по мужской линии затесался никому неизвестный великобританский подданный, и этого оказалось достаточным, чтобы в документах всех последующих поколений сохранялась эта чудна̀я приписка, создавая массу неудобств, например, при трудоустройстве. Потому-то леди и писали свои бумажонки. Судя по всему, их просьбу уважили, как и просьбу В.В. Маяковского о дозволении ему прогулок, как прочим заключённым. Сейчас в этом здании – музей МВД. Минутах в пяти – музей Достоевского, Антроповы Ямы2, где когда-то мама с Жориком ловили циклопов для аквариумных рыбок, и много прочих достопримечательностей.
Пока мы жили на Новослободской, вся округа от Тверской до проспекта Мира ложилась мне и моим близким под ноги, и мы частенько совершали прогулки, чаще всего за Садовое кольцо.
До Каретного ряда, где рядом с Эрмитажем жила со своим семейством мамина сестра, тётя Зина, добирались либо на троллейбусе, либо пешком через Краснопролетарскую. За многоэтажным домом, на первом этаже которого впоследствии разместилась кинобиблиотека, сворачивали во двор. В двухэтажном доме, почти примыкавшем к эрмитажной стене, на втором этаже они и жили.
Позже их переселили в Воротниковский переулок, бывший усадебный дом3, туда добирались переулками через Миусы, если хотели прогуляться подольше, а если лентяйничали – через Каляевскую (ныне Долгоруковскую). Многолетие близкой жизни расплескалось позже, когда москвичей расселили по спальным районам. А до этого шастали друг к другу почти ежевечерне, завершая моционом трудовой день.
Подумалось, что не всегда наши визиты были кстати. Иногда приходили, а в доме готовились ко сну, расставляя посреди большой комнаты, разделённой старинными шкафами на зоны, раскладушки. Пироги же на дубовом столе, стоявшем под бронзовой дамой с обнажённой правой грудью, дожидались гостей, приходивших к вечернему чаю, часов до десяти. Ватрушки, лимонники, пироги с вареньем, разносортные, непохожие друг на друга чашки, серебряные гнутые ложки. Хозяйка дома – наша тётушка, тётя Зина, в каком-нибудь лёгком халатике, с уже отпущенной из пучка косицей, пробиралась на крошечную четырёхметровую без окон кухню, где на газовой плите разогревала чайник. Удивительно, как она ухитрялась в столь стеснённых условиях готовить, мыть посуду, стирать. А готовила, или как теперь говорят, стряпала, она не только пироги: её многочисленное семейство отличалось привередливостью: кто-то отдавал предпочтение бульонам, кто-то овощным супам, кто-то лапше. Но сдобу любили все. Никто, как тётушка, не мог испечь или нажарить груды пирожков с начинкой из капусты или мяса, никто не подавал к столу таких полупрозрачных блинов, ожидавших на масленицу под подушками и одеялами задержавшихся визитёров. Никто, как она, не снабжал расходившихся по домам после обильной трапезы гостей пирогами и блинами. Вот оно – московское хлебосольство.
Хотя в других семьях наших родственников, подобного я не встречала. Везде пребывала умеренность и скуповатость. Пожалуй, только бабушка мужа пекла по праздникам такое количество сдобы, но то – в праздники, а у тёти Зины мы могли за ежевечернимб чаем испробовать много всякой всячины.
Конечно, приходили мы не ради чая, в их доме нас всегда принимали с лаской, одобряли улыбками, объятиями, но как сказать, как сказать… Приходили, целовались, присаживались к столу, выпивали по чашечке и посидев немного у черно-белого телевизора, у которого наша тётушка, как правило, клевала носом, перекинувшись с обитателями дежурными фразами, собирались в обратный путь.
А дома – в койку, где после вечернего променада по московским закоулкам, спалось легко и сладко. Но не всем. Мама притаскивала на обеденный стол чертёжную доску, тушь, линейку, циркуль, рейсфедер, бумаги, кальки и работала часов до двух-трёх. Иногда, если это были так называемые обтяжки, она приносила низкие и широкие «ванночки», хорошо знакомые фотографам и, приготовив нужные растворы, «купала» чертежи, использовав для просушки все возможные стеклянные и зеркальные поверхности.
Долго бодрствовал и дед. Он часто сидел в своём закутке за письменным столом и писал что-то, но обычно, полулёжа на высоких подушках, слушал радио. Перед дедушкиной кроватью на стене висели фотографии его родителей и распятие, поскольку крестили его в протестантском храме Петра и Павла…
Перед смертью, с лёгкой руки Никиты Сергеевича, пенсию деду повысили, и он успел сделать мне царский подарок: светло-бежевая «Ласточка» c радужной сеткой на заднем колесе, фонарём и лёгким ручным тормозом, надолго стала мне верным конём, уносившим за леса, поля и горы…
Мне бы хотелось, перебирая пазлы, кружить и кружить в детском, лелеющем душу мире, но пора и честь знать, перейдя к описаниям более позднего времени.
Часть 2.
Мемуар 10. Приуготовление
Оставив позади пионерские костры и горны, я перехожу ко времени более осмысленному, в котором мой школьный приятель Витя уже не искал сокола в небе, а бродил с понуро опущенной головой, не смешил себя и других прибаутками, пребывая в молчаливо-отрешённом состоянии. Другой мой одноклассник, Коля, которому, как и другим, сунули комсомольский билет через узкое оконце, долго выглядел нахмуренным, и даже написал возмущённое сочинение об этом.
В школьной системе произошли изменения, и от нашего класса осталась только буква и цифра.
В СССР ввели профессиональная подготовку для школ, и одиннадцатилетка докатилась до нас. Это означало, что десятилетняя школа становилась одиннадцатилетней, и одновременно ученики получали какую-то начальную производственную ориентацию. Поскольку наша школа находилась рядом с Менделеевским институтом, класс «А», в котором я училась, объявили химическим. Вот тут-то и образовался в моей жизни изгиб, как у реки Истры, где я когда-то училась плавать. Только спасательного мяча не подвернулось. ..
В те годы химию объявили надеждой и опорой нашей страны. В школу рванули новенькие. А многие мои одноклассники ушли из школы, найдя себе по душе что-то иное. Оля перешла в Гнесинку, Валера в художку, Таня перешла в «В», где учили на библиотекарей, Катя и другой Витя – в техникум. Полина – в ШРМ (Школу рабочей молодёжи). Позже к ней примкнула и я.
Среди новичков сразу выделились дети из состоятельных семей, как сказали бы сейчас, мажорики. Мне представлялось, что они умнее, симпатичнее и смелее нас, и я впервые почувствовала себя… изгоем!
Приведу только один пример. Я понравилась одному мальчику. Из вновь прибывших. Он то провожал меня из школы, то дарил какие-нибудь милые пустячки, которые, как теперь понимаю, привозили его родители из-за границы. Однажды он подарил мне шариковую ручку, о которой я тогда и знать не знала. Подарок не оценила и продолжала писать красной авторучкой с плавающей золотой рыбкой, наверно, китайской, которую за год до этого мне подарил дед. Позже мальчик (увы, его имени я не помню) пригласил меня и других одноклассников к себе домой на день рождения. Дом, в котором он жил, отличался новизной, крепостью, большими окнами, широкой лестницей и бесшумным лифтом. Квартира – холлом, начинавшимся от входной двери, просторными комнатами и неожиданным видом из окна, за которым виднелся сад «Аквариум», Концертный зал Чайковского, «Сатира», в те времена известная как «Оперетта»4, и многое другое.
В одной из центральных комнат нас ждал накрытый стол. Хрусталь переливался. Из свисающей люстры свет брызгал искрами в бокалы и фужеры на тонких ножках, в салатницы и менажницы. Блестел на блюдах с забугорными сервелатами, отражался на бутылках с иностранными этикетками. И никого из родителей! Просто сказка! Вечер прошёл пристойно, в рамках лучших советских традиций: мы вели себя на удивление тихо. Никаких тебе буги-вуги, танго и фокстрота! Часов в десять вечера пришли родители моего кавалера. Среднего роста и среднего возраста мама и высокий, красиво-безучастный папа с копной седых волос. Мама разглядывала гостей, словно в лорнет, а папа, едва перешагнув порог, подошёл к окну и что-то за ним пристально рассматривал.
Неожиданно мама посмотрела на сына повелительно и строго, обвела всех взглядом, и, повинуясь, сын подвёл к маме меня. Не помню, спросила ли она моё имя, но поинтересовалась, кто мои родители, и где я живу. Потом медленно, внимательно вглядываясь, посмотрела на лиф, на воротничок, на оборки моего платья, потом перевела взгляд на юбку и почему-то весьма долго рассматривала отечественные туфли у меня на ногах (раньше, приходя в гости, надевали не тапочки, а туфли, которые приносили с собой). Потом окликнула мужа, и тот, на миг повернув голову в мою сторону, отвернулся, не озаботившись даже подобием улыбки. Этот мальчик -подросток, имени которого я так и не вспомнила, больше не провожал меня из школы и, помнится, даже не подходил.
Другие мальчики вели себя ещё более непредсказуемо. Один из них на школьных переменах не раз вываливал на пол содержимое моего портфеля, другой, из «старичков» выручал, запихивая всё обратно.
Время от времени рядом со мной за партой оказывался кто-то из бывшего «А», потом благополучно перемещаясь в другой конец класса. Никто из них не пел ни Каховку, ни что-либо другое.
Девочки тоже отличались от тех, которые учились со мной раньше. Староста перед учителями вела себя подобострастно, присматривая за нами взрослым взглядом; несколько девочек, учившихся раньше вместе в какой-то другой школе, эдакие шелапутки, царили на задних партах, не интересуясь прочими.
С учителями тоже не складывалось. Правда, работавшая в химическом вузе Екатерина Ивановна, которую язык не поворачивается назвать химозой, вела уроки так интересно, что невольно все охимичивались. С увлечением работали над проектами, связанными с практическими занятиями в Менделеевке, куда мы ходили каждую неделю.
До сих пор помню свой проект по производству портландцемента. На большом ватманском листе тушью я начертила схему производства (обратите внимание – без чьей-либо помощи), притащила пробирки с образцами. Доклад прошёл блестяще! Екатерина Ивановна похвалила и добавила, что не только в школе, но и в институте за такую работу следует поставить «Отлично». Почему-то особенной радости я не ощутила. Сделала то, что требовалось. А вот отец сиял! Я это видела по его глазам. Он работал в научном институте, который занимался проектированием предприятий по производству строительных материалов. И, фантазирую я теперь, сопрягал наши устремления воедино. Но… не получилось! …
Главным школьным уроком в девятом классе, думаю не только для меня, стала литература. Гуревич Семён Абрамович. Невысокий, плотного телосложения; стремительная походка, расстёгнутый синий плащ, под ним синий костюм; голова вперёд, нижняя губа выпячена; в руках потрёпанный портфель, в нём груда книг. Для всех и каждого. Налетай! А если этого мало, милости прошу на мансарду улицы 25 Октября (нынешняя Никольская). Две крошечные комнатки. Одна – побольше, книжная. Стеллажи и вдоль, и поперёк, и у окна, и навалом около стола. Вдоль одной из стен небольшая кушетка с небрежно наброшенным пледом. На вешалке, зацепленной за полку, расправив плечи, синий пиджак, под ним голубоватая рубашка. Другая комната, совсем уж крохотная, жилая. Здесь чайник, дежурные чашки. И разговоры, разговоры, разговоры. Судя по всему, Семён Абрамович был знаком со многими известными москвичами. Помнится, в один из наших визитов, у него пил чай директор Ленинки (нынче Российская государственная библиотека). А однажды к нам на урок он привёл Сергея Михалкова, что в те времена казалось запредельным. Ещё бы, сам дядя Стёпа! Но пришёл он, сопровождающим своего сына. Никита, примерно наш ровесник, только что снялся в фильме «Я иду, шагаю по Москве». Его интересовало общение, обмен мнениями. Оттепель. Заговорили о новом и по-новому.
Ходили и в «Известия», где тоже обсуждали фильмы. Так мы стали говорунами. Школьные задания удивляли новизной! Литературные проекты, которые предлагал Семён Абрамович, заинтересовали всех! Помню свой доклад по пьесам А.Н. Островского и, что очевидно сегодня звучит нелепо, «Сравнительный анализ четвёртого сна Веры Павловны и Программы КПСС». Думается мне, что Гуревич не сам придумал тему, но она нас увлекла. Особенно в части стекла: многие тогда мечтали о воздушных пространствах зданий и помещений из стекла и металла. Хорошо помню экскурсии в литературные музеи к Толстому в Хамовники, Ясную поляну, к Достоевскому на Божедомку. И театр! Семён Абрамович, интересуясь театром, увлёк и нас (не удивительно, что одна из его дочерей, Анна Каменькова, стала актрисой.)
Недавно из интернета я узнала, что жена Семёна Абрамовича рано умерла, и в те годы, когда мы учились у него, он жил вдвоём с Анной.
Вспоминаю Семёна Абрамовича с благодарностью и теплом.
В тот трудный для меня год (болезнь отца, смерть дедушки) он не раз поддерживал и одобрял. То доброй улыбкой, то книгами…
***
Отец пролежал в больнице несколько месяцев. (Конечно же, бесплатно и не по блату!) Операция состарила его, и десятилетняя разница между ним и мамой стала особенно заметна. Из бодрого, крепкого, когда-то спортивного мужчины он превратился в старика со всклокоченными седыми волосами и тонкими желтовато-серыми ногами. Я часто навещала его в больнице. Иногда, подходя к палате, у меня так колотилось сердце, а ноги становились такими ватными, что еле шла.
Мама ездила к папе каждый день, иногда оставалась на ночь. Мне без неё приходилось трудно, а брат дурачился, хватал за косы, затевал возню, используя меня вместо груши для боксёрской тренировки.
Если я просила помыть посуду, его лицо выражало крайнюю степень брезгливости, если вынести помойку, смотрел с негодованием:
– Будешь приставать, пойду гулять, к тётке перееду.
Этого допустить я никак не могла! Мама, и без того, чуть живая. А брат? Ну, что с него взять – поздний ребёнок. Иногда звонила мама:
– Ну, как у вас?
– А папа?
– Плохо. Температура опять за сорок. Я на ночь останусь.
Брат разговора не слушал, стоял рядом, пинал меня кулачками. Ему хотелось резвиться, а сестра взрослую из себя строит.
– Портфель собери!
А он:
– Хи-хи! Ха-ха!
– Дурак, дурак! У нас отец умирает, а ты…
Тут уж брат в слёзы. И я его обнимать:
– Не плачь, не плачь, миленький! …
Утром мама приехала из больницы и потащила его к отцу. Проститься.
Мальчишка (ему чуть больше восьми) как увидел коридоры, палаты, больных в обвисших пижамах, отца немощного, чуть живого, отвернулся к окну. А сосед по палате вышел.
Вскоре после выписки из больницы отец стал пенсионером. Теперь после завтрака он тщательно вытирал клеёнку, расстилал газету, надевал очки и читал.
Сейчас трудно сказать, откуда у него появился журнал с первой публикацией повести А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Но она произвела на него такое сильное впечатление, что будто бы открыла глаза на то, что он видел и знал раньше, но ни видеть, ни знать не хотел. Неужели сомневался? Странно. Тётка, сестра отца, рассказывала, что их старшего брата за продажу часов англичанину, арестовали и сослали на строительство Беломорско-Балтийского канала, где он, по словам заключённых, погиб под оползнем. Мне удалось узнать, что мой дядя, Белавин Владимир Алексеевич, действительно был репрессирован по политическим мотивам в 1933году…
Теперь, когда о тех временах известно достаточно много, трудно представить, что ощущали те, кто узнали правду о ГУЛАГе, прочитав повесть А. И. Солженицына. Особенно, если близким выпала сходная судьба. Думаю, что отец не только усомнился в социализме и разочаровался в нём, но почувствовал ложь, в которой жил, ощутил себя обманутым. Я помню, как он говорил, что теперь (после «Ивана Денисовича» и Хрущёвских съездов и Пленумов) для него осталась в жизни единственная ценность – это семья и дети (а ведь ещё недавно он был правоверным коммунистом! И общественное значило не меньше, чем частное!)
Для меня же образ человека в робе, с нагруженной тачкой среди неразличимых в своей массе фигур, всегда связан с картиной к стихам Н.А. Некрасова «Железная дорога» и ассоциируется с незнакомым мне, но близким родственником, братом отца.
***
Я ощущаю родственную связь и со своим дедом со стороны отца, Алексеем Александровичем Белавиным, ненадолго пережившим гибель любимого первенца. В последние годы жизни он искал утешения в своей первой любви, любви к математике, сочиняя задачи для учебника, который никогда не будет издан. А до этого он учился в Петербургском университете, Императорском техническом училище (нынешняя Бауманка), на фабрике Морозова в Орехово-Зуеве, по приглашению С. Морозова, работал инженером по прядению; открыл частные общедоступные гимназии, сначала женскую, потом мужскую. Бюрократия в то время препятствие почти непреодолимое и открыть вторую (мужскую), оказалось не просто. Но создание Попечительского совета помогло, и гимназию открыли. Знаменательно, что в 1918 году после многочасового совещания, приняли решение о продолжении изучения Закона Божьего, что, очевидно, послужило поводом к тому, что власти гимназию закрыли.
Удивительно то, что здание мужской гимназии сохранилось до наших дней, и в нём с 1992 года располагается Гуманитарный лицей, которым руководит Вадим Юрьевич Прилуцкий. На фронтоне здания в год столетия гимназии (2008 г) установлена мемориальная доска с именем Алексея Александровича Белавина. Для меня было большим счастьем побывать в этом лицее, сохранившем не только стены, но парадную лестницу, зал, увидеть фотографию Алексея Александровича. Люди живы, пока жива память о них.
Но если дедушку со стороны отца я никогда не видела, и его образ навеян фотографиями и рассказами его дочери, Татьяны, то дед со стороны матери жил вместе с нашей семьёй до смерти в 1962 году. Он прожил бы и дольше, если бы не спрыгнул на ходу со ступеньки троллейбуса. Ударился о бордюр и ночью умер от разрыва застарелой каверны.
1
Овчинникова – владелица доходного дома
2
Антроповы Ямы – название местности в Москве в XIX – начале XX века в районе современной Селезнёвской улицы. В настоящее время имя местности сохранилось в названии природного комплекса № 102 ЦАО – сквер «Антропова яма». Местность была названа по фамилии первого арендатора и вначале состояла из пустыря и прудов, используемых для разведения рыбы. Кроме того, воду из этих прудов использовали для парных на Селезнёвской улице
3
Одноэтажный деревянный дом с трёхоконным мезонином находится по адресу Воротниковский переулок, дом №10, строение 2
4
История возникновения здания театра Сатиры берется еще с далеких дореволюционных лет, когда существовал цирк братьев Никитиных. Потом, когда цирк из-за недостатка пищи для животных выехал, сюда въехал Московский мюзик-холл, потом, из мюзик-хольного цирка образовался Театр оперетты, а уже потом – театр Сатиры