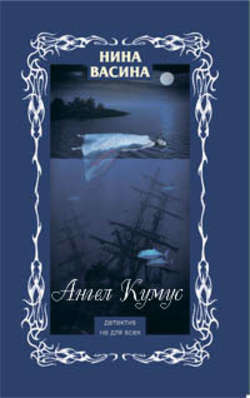Читать книгу Ангел Кумус - Нина Васина - Страница 1
Глава первая. Как Кукольник сделал чучело
ОглавлениеВ то утро мы шли по берегу моря, и я спросил Кукольника, что он думает о любви. Кукольник молча смотрел на воду, потом выдавил из себя, что о любви нельзя думать. Ее только можно иметь или не иметь. Было жарко, его сандалии оставляли на мокром песке след. И след этот жил ровно столько времени, сколько было нужно волне, чтобы кувыркнуться. Кукольник в какой-то момент повернулся, ткнул в меня, идущего сзади него, пальцем и сказал: «В бессмысленности соответствовать времени нет логики – только печаль». Я тащил за собой куклу – не самое лучшее его творение, – и кукла оставляла на песке свой след: две унылых полосы от мертвых ног. Я спросил его, следует ли понимать так, что весел и счастлив только тот, кто живет вне времени? Кукольник сказал, что со мной становится скучно: я слишком легко обучаем. Кукла мешала, тормозя по мокрому песку застывшими ступнями, я подбросил ее и уложил под мышкой. Я шел босиком, обходя ракушки. Одну не заметил и поранил ступню. Кукольник забрал куклу, я сел и протянул ступню волне. Капля крови в соленой воде не успела раствориться – Кукольник ступил в воду и шлепнул по ней ладонью. Капля превратилась в яркую рыбку. Я вздохнул, толкнул рыбку ступней, она округлилась и, уплывая, меняла цвет светящейся разбавленной крови – от красного до ярко-оранжевого, пока не превратилась в огромный шар, заполнивший свечением горизонт. Шар тонул, булькая, расцветив все море красками заката.
– Неплохо, – кивнул Кукольник, – совсем неплохо, но слишком торопливо. И это бульканье, знаешь…
Шар утонул в воде. Стемнело. Мы молча смотрели на уплывающую куклу. Кукольник уронил ее, когда делал рыбку. На потемневшей поверхности воды тело куклы нежно белело и очень походило на тело. И волосы повторяли каждый изгиб воды, как волосы. Я вдруг взволновался и бросился за ней. Вблизи это была все та же кукла, я разозлился и стал бить по воде и по кукле. Я ни о чем не думал, просто стучал ладонью, пока под рукой не взбилась пена. Кукла исчезла. Все это меня так утомило, что я еле добрался до песка. Ветер погнал пену, взбитую мною, к берегу, Кукольник, конечно, тут же побежал, крича, что ничего не исчезает просто так и не появляется из ничего. Я лег на живот, наблюдая, как он хлопочет у пены. Он вернул куклу. Он взял ее на руки, бережно прижав к груди. Мне всегда очень интересно наблюдать, что получается из уничтоженных мною кукол: то же самое, но чуть-чуть иное. У этой, например, ступни были ́уже и пальцы на ногах слишком длинные. Бедра удлинились, и голова стала поворачиваться. Мне даже показалось, что ей неприятен запах Кукольника, и она отвернула голову в сторону. Но руки!..
– Кукольник, ты только посмотри на эти руки!
– А зачем взбивал?! Никогда не знаешь, что получится после твоих шалостей. – Кукольник поставил куклу, отдышался и вытер лицо накидкой, промокшей снизу. Кукла стояла, отвернувшись. – Для ребенка ты слишком злой. – Он уходил, не оглядываясь, я осмотрел ранку на ступне, надавил, но крови уже не было.
Мне было стыдно, но я оторвал эти невозможные руки и закинул их в воду. Руки тут же ожили, уплывая, они были белее и нежнее пены и сами по себе просто восхитительны.
Кукольник обернулся уже у камней, я бежал к нему так, чтобы закрыть собой оставленную на берегу безрукую куклу, но Кукольник заметил ее. Превратился в краба. Я ушел в песок. Пробираясь между увеличившимися до огромного размера песчинками, я обдирал свое уменьшившееся тело, а когда вышел на поверхность, то угодил прямо во влажное месиво полусгнившей медузы. Краб подбирался к медузе, шевеля отростками у рта, и каждое движение его по песку сопровождалось ужасающим скребущим звуком, от которого у меня лопались мозги. Я уполз от дохлой медузы в воду, мне было грустно и стыдно до слез: я опять испортил куклу. Я даже, наверное, заплакал от своей вредности, но вода, как и кровь, была соленой, поэтому слезы остались незамеченными.
– Ни одного следа от уколов. Нанюхался? – Голос надо мной густой и могучий, как контрабас. Неприятная влажная ладонь трогает ступню. – И на ногах – ничего!
Я открываю глаза. Бородатый неопрятный старик исступленно вглядывается в меня, приоткрыв рот, словно в ожидании чуда.
– Мальчик, – спрашивает он почему-то шепотом, – мальчик, как тебя зовут?
Я сглатываю обдирающее горло напряжение и пытаюсь улыбнуться. Я вздыхаю и говорю:
– Кукольник, сбрей бороду, она меня смешит.
Хотя, если честно, его одежда – этот пиджак с засаленными концами рукавов, эта рубашка не в тон, помятые свободные брюки и растоптанные ботинки смешат меня еще больше.
– Мальчик, – осуждающе качает головой старик, – ты можешь встать?
– Зачем? – Покосившись, я обнаруживаю еще троих мужчин рядом с диваном, на котором лежу.
– Ты должен объяснить. Посмотреть и объяснить, – старик показывает рукой куда-то в угол.
Я медленно сажусь. Голова кружится. Трое у дивана расступаются, я смотрю на непонятную кучу на полу. Кто-то включает верхний свет.
– А, – я облегченно вздыхаю, – это руки от куклы.
Теперь все в комнате смотрят на руки, отломанные почти у плеч. Руки лежат крест-накрест в темнеющей застывшей сукровице. Рядом с ними, ко мне в профиль, – женская голова. Светлые вьющиеся волосы разбросаны по полу, несколько прядей попали в застывшую красную лужу.
– А голова? – почти ласково спрашивает старик. – Голова? Где ты взял эту голову?!
– Тоже отломал. – Я опускаю глаза. Мне стыдно. – Прости, Кукольник.
– А где все остальное? – не унимается старик. – Куда ты дел тело?
– Тело? – Я не понимаю.
– Ну да, тело! Тело без рук и головы?!
– Кукольник, ты что?
– А позвольте спросить вас, милейший, – ехидно скалится старик, – откуда у вас эти царапины на руках и на лице?
Я смотрю на свои руки. Кое-где кожа содрана, как будто по ней провели куском сахара.
– Это от песка. Я не рассчитал и слишком уменьшился, трудно было пробираться в песке.
Кто-то сзади помогает подняться и заводит мои руки назад, защелкнув на них наручники. Смешно.
– А может, обойдемся без наручников? – суетится старик. – Вы гляньте, какие запястья тонкие! Ему их снять – раз плюнуть, и перед соседями в подъезде стыдно: четверо мужиков ведут ребенка, да в наручниках!
Я легко вынимаю кисти рук из металлических захватов и протягиваю наручники человеку сзади. Он отшатывается.
На лестничной клетке стоят люди, жадно обшаривая меня глазами.
– Да чем же он голову отрезал? – шепотом спрашивает женщина. – Маленький такой?!
– Да что голову, что голову! – объясняет ей мужчина с лестницы вверх. – Ты попробуй руки так отсеки, не у суставов!
Некоторые крестятся. Этот жест… Мне опять становится смешно. Они автоматически прикладывают к некоторым частям своего тела пальцы щепоткой, вряд ли понимая, что это означает. Я не хочу выходить на улицу, поэтому, пройдя несколько пролетов лестницы, прыгаю на старика, который идет впереди, мы падаем, катимся по ступенькам. Не стоило бы так делать. Я слышу, как вскрикивает Кукольник от каждого удара, но мне так хочется отомстить!
Мы сидим у огня. Аспасия следит за лепешками внутри круглой глиняной печи.
– Злоба отвратительна, – говорит Кукольник, прикладывая примочки к лицу.
– Видел бы ты себя в костюме. В брюках, рубашке, в растоптанных туфлях! С бородой!
– Все там будем, – вздыхает Кукольник. – Ты один имеешь право выбора. И что, сразу мордой о ступеньки?!
– А я думаю… – поворачивается к нам лицом присевшая у печи Аспасия, но Кукольник перебивает:
– Молчи, женщина! Никто не сравнится с тобой в мудрости. Поэтому закрой рот. Иди к Сократу, ему дари свои мысли. А мальчику рано еще слушать тебя. Он должен все узнать сам.
– Лепешки готовы, – говорит Аспасия.
– Вот это дело, – кивает Кукольник. – Говори о лепешках, о травах, смени мне, кстати, настой. – Он бросает на пол мокрую тряпочку, которой делал примочки, вытирает руку о подол и поудобней укладывается, растопырив пальцы на ногах. Аспасия подмигивает мне и щекочет между расставленными пальцами перышком. Кукольник стонет от удовольствия.
– Ребенок ни при чем, – подгадывает момент Аспасия, проводя ноготком по пятке Кукольника, – это Фрина отломала кукле голову.
– Не ври, женщина, – шепчет Кукольник. – С чего ей так делать? Эта кукла сделана полностью с нее, она ей нравилась.
– Ты сказал Праксителю, что кукла слишком идеальна, совсем не живая, он сделал кукле улыбку! Но это не улыбка Фрины! – успевает быстро проговорить Аспасия и отбежать на безопасное расстояние, куда не долетит брошенная Кукольником сандалия. – Это моя улыбка, моя! – Она улыбается из-за огромной корзины, Кукольник бросает вторую сандалию. – Хватит валяться! – встает Аспасия. – Если ты так предан Фрине…
– Она – моя лучшая кукла! – перебивает Кукольник.
– Не богохульствуй, Фрина живая! Так вот, если ты ей так предан, похлопочи. Ее собираются судить. Ей нужен адвокат.
– Ну, – сел и выпятил грудь Кукольник, – мой ум и красноречие…
– Не петушись. Иди и попроси Евтихия. Пусть он ее защищает. Что ты так смотришь? Иди и попроси, а то засудят! – Она садится на скамеечку, надевает ему и завязывает подобранные сандалии.
Кукольник сердится недолго. Он понимает, что Аспасия права. И уходит к Евтихию.
– Спасибо, – говорю я.
– Не за что, – пожимает плечами женщина, потом медленно и плавно, как кошка перед броском, взбирается ко мне и приближает свое лицо вплотную. – Отломал кукле голову, ну что за несносный ребенок! – Ее язык щекочет мои губы. Я отворачиваюсь. Аспасия смеется. – Ладно, не грусти. – Она сдергивает меня с ложа и тащит за собой к двери. – Эта статуя ни мне, ни Фрине не давала покоя! Фрина ревновала, что Пракситель оживил моей улыбкой ее лицо, я ревновала, что мой рот живет на лице чужой женщины. Кто-нибудь из нас двоих все равно бы разбил статую. А тебе-то что не понравилось?! Ты почему ей голову отломал?
Я молчу. И, к своему стыду, краснею.
– А-а-а! – кричит Аспасия. – Ну-ка мы посмотрим, что маленький мальчик прячет в сундучке!
Она передумала тащить меня на солнце во двор, она бросает мою руку и с быстротой ящерицы оказывается возле моего ложа, она спешит и просто опрокидывает сундучок, вывалив все из него на пол.
– Так я и думала! – Теперь она бегает от меня по комнате, уворачиваясь. – Порнография!! «Свод сладострастия»!
Запыхавшись, она сдается, падает на ложе Кукольника, а я падаю на нее и отнимаю книгу, она обхватывает меня ногами, прижав к себе, и серьезно смотрит в мое вспыхнувшее лицо.
– Ты думаешь, это написал Эпикур? Нет, мальчик мой, это написала женщина. Женщина Эпикура.
– Нет! – Я вырываюсь.
– Да! Это написала Леонтия!
Я освобождаюсь и иду прятать книгу.
– Ну хоть не все? – Я не могу поверить.
– Конечно, не все, дурачок. Но почти все.
Я смотрю в окно на яркую лазурь.
– Почему ты сказала, чтобы Евтихий был адвокатом в суде? Чем он поможет Фрине?
– Евтихий умный. Поэтому, если он придет ко мне за советом, – Аспасия сползает на пол и идет ко мне на четвереньках, плавно скользя томной кошкой, – если у него хватит мозгов прийти ко мне за советом, ну ты же понимаешь, что они приходят как бы к Сократу, – она подобралась совсем близко, я слышу ее сдерживаемое дыхание, – то я посоветую ему раздеть на суде Фрину наголо.
– И все? – Я удивлен, молчание затянулось.
– Все.
– А если он не захочет, чтобы на нее все смотрели?
– У него с Фриной все в прошлом. Все уже было. Он знает, что ее не вернуть. Вот Кукольник ни за что не позволит посмотреть на голое тело Фрины! А Евтихий позволит. Он будет в этот момент гордый и грустный. Гордый, потому что был любовником Фрины, грустный, потому что этого не вернуть.
– Она разденется, и…
– И суд будет закончен. Ты же знаешь, это была самая прекрасная Венера Кукольника. Никто из гелиастов не посмеет потревожить такую красоту.
– Да Фрина уже купалась в море голая! И выходила из него при всех, прикрывшись только волосами!
– Какой же ты маленький и глупый, – смеется Аспасия. – Запомни, театр и суд – вещи разные. Адвокат, в котором побеждает актер, не всегда выигрывает. А уж актер, который поучает зрителя как адвокат, всегда будет осмеян!
На металлическом столе патологоанатома голова женщины с открытым ртом. До пола свешиваются вьющиеся волосы цвета закатного солнца – смесь золота и огня, расплавленных в морской воде. Санитар неуверенно примеряется ножницами и вдруг отшатывается: голова пошевелилась. Он вытирает тыльной стороной ладони вспотевший лоб и смотрит на пол: оказывается, его башмак наступил на волосы на полу. Он поднимает ногу осторожно, словно боясь потревожить уснувшую птицу. Режущий звук, от которого санитар морщится: волосы тяжелые, жесткие, и вот на пол рядом с его башмаками падают пряди, похожие на крылья.
– Дурак, – назидательно заявляет врач, склонившись к голове, – можно было бы сдать в парикмахерскую. Если бы остриг правильно и поближе к черепу. Что это у нас тут? – Он укладывает голову поудобней и светит фонариком в рот. – Та-а-ак… Очень интересно… – Пинцетом врач вытаскивает изо рта крошечную куколку.
– Я знаю такую, – склоняется к нему санитар. – У моей мамы есть в ее старых игрушках. Пластмассовая дюймовочка. В закрывшемся цветке сидит куколка, нужно нажать на рычажок, цветок раскрывается, а там – куколка.
– Нет, – шепчет врач, бережно укладывая крошечное тельце цвета слоновой кости на лоток, – это не дюймовочка. Дюймовочка сидит, и в платьице, а эта совсем голая. И обрати внимание, какая тонкая работа!
Врач берет лупу и восторженно сдерживает дыхание: пальчики на руках и ногах куклы так восхитительно изящны!
– Не пойму, – он осторожно тычет пинцетом в животик, – что за резина такая…
На месте укола выступает красная капля. Врач отшатывается, столкнувшись с застывшим позади него санитаром. Санитар отскакивает, сшибает стол с инструментами.
– Спирту, – выдыхает шепотом врач.
Санитар, не отводя взгляда от лотка с куколкой, идет к шкафам, открывает один и на ощупь достает пузырек. Врач делает большой глоток из горлышка. Резиновая пробка сопротивляется, когда он пытается вставить ее на место, выскальзывает и теряется среди инструментов на полу. Врач пинцетом выдергивает маленький кусочек ватки, не дыша, склоняется к куколке и промокает ваткой красную каплю. Ватку он укладывает в пробирку, пробирку ставит в стойку с другими анализами крови и включает магнитофон.
– Вскрытие головы неопознанной женщины начинаю в четыре сорок. При поверхностном осмотре, – врач смотрит, как санитар закрепляет голову на столе и готовит электропилу, – в полости рта обнаружен посторонний предмет, которой при извлечении оказался резиновой… нет, игрушкой в виде куклы, размером не более пяти сантиметров, сделанной, предположительно, из резины. Лицо у женской головы не повреждено, роговица глаз…
Санитар взял лоток с куколкой и бережно отнес его в шкаф. Потом присел, отыскивая резиновую пробку.
– Руки нести? – спросил он.
– Руки? – Врач провел по лицу ладонью и уставился на резиновую перчатку на ней. – Да, пожалуй…
Когда санитар ушел, врач взял пробирку с ваткой и прошел в соседнее помещение лаборатории. Пока он готовил индикаторы и микроскоп, прошло минут пять-шесть. Врач взял пробирку и обнаружил, что в ней вместо ватки лежит мерзейшая личинка неизвестного ему насекомого, а ватка уже не ватка, а тонкий налет паутины. Личинка через равномерные промежутки времени судорожно дергалась.
– Это не ее руки, – объявил санитар, войдя в лабораторию. Он подошел к столу, склонился к пробирке и рассмотрел личинку.
– Не ее?..
– Ну да. Это руки не от той женщины, от которой голова.
– П-почему? – врач крепко зажмурился, потом открыл глаза, но личинка в пробирке не исчезла.
– Потому что руки от брюнетки, а голова от блондинки.
– В темное место в открытом виде, – пробормотал врач, протягивая санитару пробирку с личинкой. – Не трясти, не мочить, не трогать.
Я плачу. Я сижу на песке у моря и плачу. Кукольник суетится рядом, с видом фокусника подхватывая на лету половинками ракушек слезы, сорвавшиеся с моих щек. Мне становится противен его практицизм, я злорадно размазываю слезы по лицу и показываю язык. Кукольник укоризненно качает головой, закрывает на мгновение половинку ракушки с моей слезой другой половинкой, трясет, открывает. На перламутре слеза потеряла прозрачность и застыла твердой жемчужиной. Я беру жемчужину и глотаю ее. Кукольник отходит подальше и получившуюся у него другую жемчужину бросает в море.
– Это все равно – я проглотил или море!
Мое заявление его не впечатляет.
– Почему мне все время стыдно и горько?
– Ты растешь.
– Почему нет таких, как я? Других?
– Ты имеешь в виду детей? – задумывается Кукольник.
– Да. Только мы с тобой и куклы. Почему ты не делаешь детей?
– Это опасно.
– С чего бы?
– Никогда не знаешь, что вырастет из куклы-ребенка.
Я ложусь на спину и смотрю в небо. Я двигаю мышцами живота, потом напрягаю и расслабляю гортань, и жемчужина выталкивается в горло, а потом в рот с судорогой рвоты. Собрав побольше слюны, я выплевываю жемчужину в небо, она взмывает и начинает быстро увеличиваться в размерах, превращаясь в огромный, раскаленный добела шар. Где-то далеко-далеко вверху шар застывает, дополнив пространство камней у воды тенями.
– Неправильно, – заявляет Кукольник, – при удалении тело уменьшается! А при приближении увеличивается.
Я молчу.
– Ладно, – говорит Кукольник решительно. – Будет тебе ребенок. Но при одном условии.
– Ребенок девочка! – Я сажусь.
– Ладно.
– Самая красивая на свете!
– Ладно.
– Какое условие? – Я на все готов.
– Ты мне не перечишь и разрешаешь сделать все, что я захочу. И еще… – Кукольник поднимает руку, успокаивая меня, вскочившего и прыгающего на месте. – Это будет единственный такой красивый ребенок. Ни до нее, ни после такой девочки никогда не родится!
Мы идем вдоль воды, я нетерпеливо выбегаю вперед Кукольника.
– Чтобы родилась такая прекрасная девочка, нужно, чтобы у нее были прекрасные родители!
– Необязательно, – Кукольник размахивается и закидывает в море еще одну ракушку с моей слезой. – Достаточно, чтобы ее мать была восхитительна.
– Ты уже знаешь, кто она? Да? – Холодок восторга схватывает мое тело, я бегу в теплую воду.
– Была у меня сделка с одной куклой, – бормочет задумчиво Кукольник. – Она поставила условие…
– Что?! – Я выныриваю и бегу к нему, так и не согревшись.
– Я говорю, что кукла поставила такое условие. Она должна быть невозможно и единолично красива. То есть ни до нее, ни после не должно быть такой красоты. Тогда я тоже поставил свое условие. Она не должна нигде эту красоту отобразить. Она будет красива до самой смерти, но и только. После смерти ее должны будут постепенно забыть. Тогда эта женщина сказала, что согласится, но с условием: она сама будет выбирать мужчин и иметь всех тех, которых выберет.
– Это что, так важно для ку… женщины? – Я останавливаюсь.
– Это самое важное для женщины. – Кукольник достает из мешочка на поясе круглую коробочку, осторожно открывает ее. Там мельчайший белый порошок приятного запаха.
– Дунь, – сказал Кукольник.
Я дунул.
– Да не так! – топнула ножкой Нинон. – Дурак! На парик дуй, и так пудрой все лицо засыпал!
Я смотрю, не отрываясь, на ее лицо. Я удивлен. У Кукольника, вероятно, свое представление о красоте. Ну да, она, конечно, хороша, глаз не отвести, но…
Нинон замечает мою растерянность и застывший взгляд, она успокаивается и разрешает себе легкую улыбку.
– Не нужна мне пудра на лице, паж. Не нужна! Такие краски грешно замазывать, мой паж. Перестань смотреть на меня, ослепнешь!
Я отвожу взгляд и тут же натыкаюсь на себя, размноженного дюжиной зеркал. На мне шитый золотом камзольчик, обтягивающие ноги плотные чулки с подвязками, узконосые туфли на каблуках и с пряжками. Я умею отставить назад ногу и, поклонившись, развести руки в стороны, и все зеркала повторяют мое порхание среди тяжелого бархата портьер.
– А ведь ей пятьдесят пять лет! – гордо заявляет Кукольник, поправляя перед зеркалом букли парика.
Мне это ни о чем не говорит, но Нинон шикает на него и испуганно выглядывает за портьеры:
– Это тайна!
– Так уж и тайна, – фыркает Кукольник. – Правда, что ты отказала королю?
– Я отказалась стать фрейлиной ее величества, всего-то. Я сказала, что нужно иметь раздвоенный язык, чтобы прижиться при дворе.
Я не понимаю, о чем они говорят.
– Людовик Четырнадцатый – бабник и лицемер, – поясняет Кукольник. – А чем тебе не понравился кардинал Ришелье? – спрашивает он Нинон.
– Он хотел меня купить. Просто взял и прислал деньги. Да! Не смотри так на меня, я не всех мужчин укладываю к себе в постель, а только тех, которых…
– Помню, – перебивает Кукольник, – я все помню.
– Мольер, к примеру, мне просто друг!
– Друг! – насмешливо фыркает Кукольник. – Да он потихоньку записывает твои анекдоты, чтобы потом выдать за свои. Ладно, пора ехать! Опоздаем. Где телефон? – Кукольник проходит за ширму. – Алло, пожалуйста, пришлите такси, а лучше экипаж к дому Нинон Ланкро. Что? Улица Турнелль.
– С кем ты разговариваешь? – Нинон, подхватив юбки тяжелого шелка, отодвигает ширму.
– Я?.. – Кукольник растерянно смотрит на свои пустые руки. – Не знаю, что это со мной… Нервничаю.
– Я тоже последние дни не в себе. То в жар бросает, то в холод. Вдруг среди танца сердце ударит так сильно-сильно! – Она прижала руку в перчатке к груди. – А потом замрет и не бьется. Я знаю, что у женщин наступает такой период, когда они… они…
– Климакс, – кивает головой Кукольник, – тебе это не грозит. Не беспокойся, это от беременности. Ты беременна.
Не вскрикнув, не взмахнув руками, Нинон падает в обморок. В раскинувшемся шелке юбок ее тонкий стан, запрокинутая голова и ч́удная, идеально сделанная шея завораживают. Кукольник тащит меня за руку, а я не могу оторвать глаз от женщины на полу. Мы бежим длинным коридором.
– Не могу представить, что она покажется кому-нибудь беременной! – Я еле поспеваю за Кукольником, он сдернул огромную шляпу и бежит, прижав ее к груди. Сзади мне видны колышущиеся у его плеча перья.
– До пяти месяцев будет затягиваться, потом спрячется в деревне. – Кукольник резко останавливается, долгим вздохом устанавливает дыхание, думает несколько секунд и решается: осторожно отодвигает портьеру и приоткрывает дверь. Я становлюсь на четвереньки и выглядываю снизу, просунув голову между его колен, обтянутых чулками.
Нинон лежит на канапе, томно прикрыв глаза. Ее опущенную вниз руку ласкает сидящий на полу у канапе мальчик. Он в красном камзольчике с широкими обшлагами рукавов и в моих туфлях! Я возмущенно шевелю пальцами на ногах в одних чулках и ощупываю пышное жабо на груди на шелке рубашки. И камзол у него мой!
– Ты говорил, что это будет девочка! – шепчу я, ущипнув Кукольника за ногу. Кукольник отступает назад и бесшумно прикрывает дверь.
– Немного лишнего пробежали, – говорит он, задумчиво оглядывая другие двери. – Ей уже восемьдесят девять.
– А она все такая же, как только что! – я показываю рукой в конец коридора на комнату, где Нинон упала в обморок. – А мальчик? Это сын?
– Да нет же, это Вольтер!
– Вольтер был вчера, на революции после ужина!
– Вчера он был взрослый Вольтер, а сейчас ему десять лет! Подожди, не путай меня. Сюда?.. – Кукольник осторожно открывает еще одну дверь. Я хватаю его сзади за камзол и не пускаю:
– Если ему сейчас десять, если он сейчас ребенок…
– Это совсем другое, как тебе объяснить, – поворачивается и шепчет Кукольник. – Это от обратного. Если есть взрослая кукла, можно ведь представить, что когда-то эта кукла была ребенком, так? А живорожденный ребенок – это!.. Это ни с чем не сравнить. Будем открывать дверь?
– Эту! – капризно заявляю я и открываю соседнюю.
Теперь Кукольник стоит сзади, возвышаясь надо мной. Я слышу его дыхание, становится жарко. Кукольник стаскивает парик и вытирает им лицо.
В комнате молодой человек с возбужденным красным лицом кричит что-то усталому старику в кресле у камина. Старик сидит понурившись. Юноша меряет шагами комнату. Потом я замечаю у окна Нинон, она стоит, отвернувшись. Никакого ребенка в комнате нет. Я тащу тяжелую дверь на себя, закрывая.
– Это ее внук и старик-любовник. Здесь ей восемьдесят, надо отойти подальше. – Кукольник обмахивается париком.
– Внук?
– Ну да, внук. Он влюблен в свою бабушку и от этого скоро свихнется окончательно. А в кресле аббат, который сейчас занимает место официального любовника Нинон.
– Но внук – это же!.. Это же сын сына? – Я начинаю уставать от вечной красоты Нинон.
– Дуэли не будет, – не слушает меня Кукольник, – но ты сам видишь, к чему приводят необдуманные обещания!
– Ты обещал девочку.
– А ты непослушно себя ведешь. Иди за мной. Шесть, семь, восемь. – Кукольник шепотом считает двери.
Возле девятой по счету двери стоит заплаканная служанка.
– Брысь! – фыркает на нее Кукольник, и служанка убегает с выражением ужаса на лице.
Мы приоткрываем дверь.
У окна, у занавешенной кружевным пологом небольшой кроватки стоит грустный седой мужчина. Не обращая на него внимания, Кукольник на цыпочках подходит к кроватке и приподнимает кружева.
– Только что заснула, – тихо говорит мужчина. – Ты за ней пришел?
Кукольник подзывает меня, я подхожу и теряю дыхание: такой восторг со мной случился только раз. Я тогда сидел всю ночь у цветка кутирэллы, потому что Кукольник сказал, что она цветет раз в жизни и умирает. Она должна была расцвести на рассвете. Я проткнул себе ногу шипом и накапал в море шесть или семь солнц, они всходили одно за другим, но кутирэлла начала раскрывать бутон только тогда, когда сочла нужным. И вот, в сумерках между одним закатившимся солнцем и другим, которое капнуло в воду из моей ноги, бутон приоткрылся, словно подсвеченный изнутри невидимым огнем. Медленно выползая, из него появился толстый пестик, похожий на пятнистую змейку, лепестки, выворачиваясь, давали возможность выйти наружу следующим, те, выворачиваясь наружу, следующим…
У девочки, лежащей под вышитым цветами шелковым покрывалом, были такие пушистые длинные ресницы, что, когда она стала приоткрывать глаза, шевельнув желтым мохером, я тут же вспомнил припорошенные пыльцой тычинки кутирэллы. Она посмотрела на меня еще заблудившимися во сне глазами и улыбнулась. Она протянула крошечную ручку и вцепилась пальчиками в жабо.
– Поиграем? – спросила, приподнявшись и обдав мое лицо нежнейшим дыханием.
Мужчина у окна застыл, приоткрыв рот, потом бросился к двери, крича:
– Нинон, где же вы, ей лучше, она пришла в себя!
– Пап́! – крикнула девочка ему вслед, спуская изумительные ступни с розовыми пяточками.
Кукольник не умел делать животных, птиц и растения. Иногда, правда, из капель моей крови у него получались рыбки или бабочки. Девочка просила собачку, тут же в дом были доставлены несколько псов, от утонченно-благодушного пуделя до крошечного голого мопса, но она твердила, что это все не то. Я стал на четвереньки, я лаял и носился кругами, пока она не захлопала в ладоши и не влезла мне на спину
– А эта собака откуда? – спросила Нинон подозрительно. – Кто притащил дворнягу? Она не бешеная?
Кукольник только укоризненно качал головой.
Я хотел сам укладывать ее спать, я закинул тряпичную куклу, расшитую золотыми нитками и жемчугом, и по ночам девочка доверчиво прижималась ко мне. Я хотел сам будить ее, подстерегая первое движение пушистых тычинок, это было в сто раз волнительней распускавшегося цветка. Я хотел быть ее едой, ее одеждой, и – странно и трудно выговорить – я хотел быть содержимым ее горшка! Я столько всего хотел, но она умерла на следующий день.
Я уговорил Кукольника, и мы начали открывать двери в этом проклятом коридоре! Одну за другой, от комнаты, где ее украшали мертвую, к той, где упала в обморок Нинон, узнав о беременности. Я держал девочку только рожденной, потом она шла ко мне по комнате, неуверенно нащупывая пол ножками. Я очнулся и выздоровел, когда обнаружил себя большой и мягкой женщиной, кормящей ее собственной грудью. Меня вырвало.
– Тебе еще не надоело? – спросил Кукольник. – Ничего же не изменить.
Я кивнул и пошел смотреть на нее мертвую.
Врач-патологоанатом и санитар склонились над лотком с куклой.
– Могу поклясться, – пробормотал врач, рассматривая в лупу рану на животе куклы, – что рана воспалилась.
– Да гангрена натуральная, – зевнул санитар. – Смотрите, какие пятна пошли к лобку и вверх по груди.
– Где личинка?
Санитар принес пробирку.
Вдвоем они рассмотрели пульсирующую личинку и пришли к выводу, что в ней мало что изменилось.
– Сегодня должен прийти инспектор из криминальной полиции, – врач уставил указательный палец в грудь санитара.
– Звонил, – кивнул санитар, – я сказал, что вы будете вечером.
Врач кивнул, опять склонился с лупой над крошечной куклой, пожал плечами:
– Она умирает. Факт.
– Она – вещественное доказательство, – заметил санитар.
– Как ты сказал? – поднял голову врач.
– Я сказал, что этот инспектор прослушал вашу запись по вскрытию. И потребовал предоставить ему вещественное доказательство, которое вы достали изо рта неопознанной головы женщины. Сами же надиктовали, – пожал плечами санитар, видя растерянность врача.
– Дай мне это сделать, – попросил Кукольник.
Я в полной растерянности. Я не могу понять, хорошо это или плохо.
– Ты обещал выполнить мою любую просьбу, – настаивает Кукольник.
– Мне это кажется странным, я не понимаю, но что-то в этом неправильно!
– Что тут неправильного? Представь, что я просто делаю еще одну куклу, но делаю по-другому!
– Делать и создавать – это разные вещи, – я еще сопротивляюсь.
– Да ты только представь, – шепчет Кукольник, положив мою голову себе на колени и ласково проводя по волосам, – в любой момент ты сможешь открыть эту дверь и увидеть ее!
– Я лучше открою ту дверь, где она просыпается!
– Глупо. Глупо и недальновидно. Самоистязание ничем нельзя оправдать, разве что убожеством воображения. Каждый раз, когда она при тебе проснется, ты будешь думать, что она завтра умрет! ТЫ ЭТО ЗНАЕШЬ!
– А ты хочешь сделать!.. – Я резко сел, освободившись от его рук.
– Я хочу сделать так, чтобы ты смотрел на нее торжественно. С восторгом. С нежностью. Но не со страхом и сожалением. Представь только, в любой момент, когда ты ее увидишь, она будет одинакова! Ни хуже, ни лучше, всегда одна!
– Я не знаю, что я буду чувствовать, когда увижу ЭТО!
– Так давай же наконец выясним! – обрадовался Кукольник.
Кукольник сказал, что не допустит помощников. Только он и я. Мы не спали день и две ночи. Я предупредил, что, если на теле у мертвой девочки будет хоть один разрез или повреждение, я тут же уйду и прокляну Кукольника. Он вводил ей через рот и отверстия между ног растворитель, шепча ласковые слова. От этих слов, от тусклого света и запахов бальзама мне становилось нестерпимо грустно. Я плакал. Когда он наполнял ее оболочку, я отвернулся.
К рассвету все было готово. Мы открыли двери комнаты. Отец девочки и прислужницы, повар, поварята, истопник, кучера и конюшенные, горничные и столовые девушки, кормилица и садовник в полнейшей тишине и благоговении стали у стола, на котором светилось нежное тельце. Потом каждый подошел и поцеловал ножки девочки, а отец – ее лоб. Не было Нинон, она лежала в беспамятстве. Отец взял девочку под мышки и поставил. Девочка стоит. Он оглянулся и подмигнул безумным глазом. Опять взял ее на руки и посадил. Девочка сидит. Тут все собравшиеся не выдержали, кто на колени упал, кто бросился вон.
– Куда же вы, – удивился он, – ее так удобней одевать. Одевайте, украшайте! Никаких похорон. Она будет всегда с нами.
Поздно ночью Нинон Ланкло пришла в кабинет мужа. Она стояла у двери, уцепившись за притолоку и тяжело дыша.
– Вы не посмеете, – еле слышно сказала она, – моя девочка, вы не посмеете! Где она? Мне сказали… Мне сказали, что вы сделали… – Она отдышалась, набрала воздуха и прокричала: – Мне сказали, что вы сделали чучело из моей девочки!
Я и Кукольник подошли к подставке со стеклянным колпаком в углу кабинета. Девочка стояла, чуть расставив ножки в украшенных драгоценными камнями башмачках. Она смотрела на меня спокойными глазами и чуть улыбалась.
– Ну и как? – прошептал Кукольник восторженно. – Как тебе она? Что ты чувствуешь?
– Ничего, – устало сказал я. – Ничего не чувствую, хотя…
– Да! – повернулся ко мне Кукольник, оторвав взгляд от девочки. Мне стало его жалко.
– Скучно.
– Что?!
– Мне скучно. Это все, что я чувствую. И еще.. Я чувствую себя обманутым.
– Посмотри на эти локоны, на эти глаза! Глаза! Они настоящие! Волосы пахнут, кожа нежней шелка!
– Скучно.
К сидящему в оцепенении перед девочкой мужчине бросилась растрепанная женщина, обхватила его ноги:
– Вас попутал дьявол, ее нужно похоронить, похоронить мою девочку! Как же можно не похоронить, это же грех! – Женщина кричит и плачет, цепляясь за руки мужчины. – Будьте вы прокляты!
На тельце куклы, лежащей в лотке, проступили пятна.
– Это точно трупные пятна, – прошептал врач, он теперь не расставался с лупой, подходя к лотку каждые полчаса. – Ну что ж, – врач пожал плечами и взял скальпель.
Он не рассчитал свои силы и первым же нажимом лезвия глубоко рассек грудь куклы. Поднял руки вверх, потряс ими, не выпуская скальпель, и уже очень осторожно сделал разрез вниз до выступающего лобка. Пинцетом раскрыл кожу, тонкую, как лепестки увядшей розы, несколько секунд смотрел на белеющие кости грудины и внутренности. Закрыл глаза. Открыл глаза и сложил лепестки, закрывая. Отложил скальпель. Прошел по кабинету, разводя руки и бормоча что-то сам себе.
Санитар, уже собравшийся уходить, заглянул к врачу, посмотрел в лоток.
– Да-а-а, – протянул он. – Это как же понимать? Если бы вы не ткнули ее случайно пинцетом в живот, она бы сейчас бегала по столу?
– Я думал, она резиновая! – с отчаянием крикнул доктор.
– Что будете делать?
– Что тут поделаешь. Похоронить ее надо. Помоги. – Врач покопался в портфеле, достал пластмассовый со стеклянным верхом футляр от подарочного набора авторучек. Пыхтя, сломал перегородку, выложил дно ватой. – Положи ее сюда, – подвинул он футляр по столу санитару.
Санитар протянул руку к лотку, потом подумал и взял куклу пинцетом. Осторожно уложил на вату. Врач сложил в несколько слоев бинт, отрезал и укрыл тельце. Щелкнул, закрывая стеклянную крышку. Положил футляр в карман.
– А как же инспектор? – вспомнил санитар.
Врач, обхватив голову руками, застонал. В дверь постучали. Инспектор оказался молодым мужчиной, энергичным и многословным. Санитар, улучив момент, когда инспектор замер и замолчал у инструментов для вскрытия, достал из шкафа пробирку и пузырек со спиртом. Предложил всем принять по сто граммов. Инспектор отказался. Он ведет правильный образ жизни, по утрам бегает, по вечерам пьет кефир или сок, что позволяет ему всегда быть в форме, что крайне необходимо для выполнения служебных обязанностей…
В этом месте инспектор вспомнил, зачем пришел, и потребовал выдать ему вещественное доказательство. Санитар, недолго думая, положил на стол пробирку. Инспектор заинтересованно склонился к ней.
– Что это за гадость? – спросил он, не поднимая головы. Он не видел, как врач и санитар переглянулись.
– Куколка, – доложил санитар.
– Как же так? В отчете сказано, что это резиновая куколка пяти сантиметров в длину.
– Трех, пяти – какая разница, – пожал плечами санитар. Врач молчал.
– Но я думал, что куколка…
Он замолчал, и врач с санитаром тоже уставились на пробирку. Жесткий панцирь лопнул, показалась головка насекомого, расправляющего усики.
– Что это? – шепотом спросил инспектор.
– Бабочка, – тоже шепотом ответил доктор. – Нужно ее вытряхнуть из пробирки, а то она не сможет расправить крылья.
Следующие двадцать минут трое мужчин в полнейшей тишине наблюдали процесс рождения большой бабочки. Когда она расправила смятые крылья и неуверенно их опробовала, раздался общий вздох облегчения.
– Так, – подвел итог инспектор, – допустим, но… Если подойти к этому логично… – он напрочь утратил свое многословие.
Бабочка уже уверенней взмахнула крыльями, на их бархатной поверхности, словно присыпанной пыльцой диковинного цветка, обнаружился завораживающий неожиданным сочетанием красок рисунок. Она взлетела, и запрокинутые лица мужчин снизу испугали ее: бабочка сначала метнулась к обманному свету ламп, но потом нашла раскрытое окно.
Я избегал Кукольника несколько дней. Я не был зол или обижен, просто видеть его было неприятно. Я чувствовал себя обманутым, а как-то утром на меня обрушилось страшным грузом понимание: Кукольник меня использовал. Он давно мечтал сделать именно чучело, но не мог без моего разрешения. Я не представлял себя без него, все, что я знал, дал мне он, может быть, именно в этом дело? Я должен сам принять определенное решение, сам это решение осуществить, сам за все отвечать. Совершенно не думал о девочке. Как только я увидел чучело, я стал равнодушен к ней.
Вопрос с ребенком по-прежнему не был решен. Ночью я сидел на окне и смотрел, как Аспасия любит Перикла. Я замаскировался, но Аспасия вгляделась, прищурившись, в мерцание желтых кошачьих глаз в темноте и запустила в меня кувшином. Через несколько минут она вышла на улицу.
– Я пришел поговорить, – предупредил я ее гнев.
– Говори, – Аспасия глубоко вздохнула. – Говори, пока можешь говорить.
– Что значит – пока можешь?
– Пока куклы не поняли, кто ты. Пока они ничего у тебя не просят, пока их мало, пока они глупы и не испуганы.
– Не путай меня, Аспасия. Я пришел поговорить о детях. Как они получаются?
– А что говорит на эту тему Кукольник?
– Я пришел к тебе.
– Это сложно. Давай определимся. Ты говоришь о конкретном ребенке?
– Да. Я хочу ребенка. Я попросил Кукольника, он дал мне девочку…
– При чем здесь Кукольник? Нашел, у кого просить. Он что, умеет рожать? Попроси того, кто умеет рожать. – Аспасия зевнула. – Он знает, о чем мы сейчас говорим?
– Рожают только женщины. – Я задумался.
– Попроси женщину. Она тебе родит ребенка. Это если ты хочешь ребенка себе.
– Это будет мой ребенок? – уточнил я.
– Конечно, твой! Твой и этой женщины, это важно, – кивнула Аспасия.
– Отлично. Роди мне ребенка, Аспасия.
– Я не могу, – отвечает Аспасия просто.
– Приказываю тебе немедленно родить мне ребенка!
– Не кричи. – Аспасия обнимает меня и прижимает голову к груди. – Ты еще многого не понимаешь. Постепенно поймешь. Чтобы я родила тебе ребенка, ты должен мне этого ребенка сделать.
– Я скажу Кукольнику, он сделает любого!
– Тогда это будет ребенок Кукольника, а не твой.
– Говори немедленно, что мне нужно делать! – Я вырвался из ее рук и топнул ногой.
– Ладно. Ты знаешь, что есть куклы, а есть люди. Знаешь?
– Знаю.
– Тогда ты должен знать, что куклы не рожают. Рожают только женщины. Начнем с того, что ты пойдешь к Кукольнику и спросишь, как его куклы становятся людьми, и наоборот.
– Я спрашивал уже. Он не говорит! Или говорит, что это получается само собой – из смерти в жизнь, из жизни – в смерть!
– Если он не говорит, а он твой наставник, то и мне этого тебе не объяснить. Давай сделаем так. Ты можешь отличить куклу от женщины?
– Могу.
– Тогда иди найди женщину, которая заставит тебя покраснеть, и сделай ей ребенка. Ты видел, как это делается. Ты еще маленький, у тебя не получится именно так, как у людей. Но ты же можешь превратиться в любого. Воспользуйся этим! Подсмотри, что из живого больше всего нравится твоей избраннице, и стань им! – Аспасия потягивается и вдруг легко перепрыгивает через перила балкона. – Бежим купаться! – кричит она, уже невидимая в темноте, и несется к морю.
– А если, – я еле поспеваю за ней, – а если я стану оленем, она не родит мне олененка?
– Нет, дурачок, все дело в душе!
– А при чем здесь душа? – Мне пришлось оторваться от земли и лететь над нею птицей.
– Это главное! Кукольник перед тобой ничтожество, потому что ты управляешь душами, а он только оболочками!
Аспасия сбрасывает на берегу тунику и голая бросается в море. Я шлепаю возле ее лица промокшими крыльями, потом вспоминаю и ныряю под нее уже самим собой. Аспасия отбивается ногами от моих рук.
Когда мы вышли на песок и упали, обессилев, я спросил:
– Ты точно не хочешь родить мне ребенка? Но почему?
– Какой же ты смешной… Потому что ты сам ребенок.
– Но я же все могу!
– Подрасти – поговорим. Подожди, не уходи. Обиделся? – Аспасия вскакивает и догоняет меня. – Посмотри, я голая. Ну?
– Что – ну?
– Дух захватывает? Сознание мутится?
– Зачем это?..
– То-то же. Прощай. Не забудь, это должна быть именно женщина. Ни в коем случае не кукла, смотри не обманись! Не то она все расскажет Кукольнику, он узнает про твои намерения и не даст ничего сделать.
Дело в том, что у меня захватывало дух и мутилось сознание от девочки, которая теперь стояла чучелом в кабинете мужа Нинон. Аспасия, не зная того, напомнила про эти чувства, я тут же бросился в тот кабинет, но заблудился. Этот коридор со множеством дверей! Открыв одну из них, я подсмотрел тайну: Нинон в восемьдесят девять лет имела свежее личико красавицы, она была подвижна и бодра, ее плечи и грудь светились молодой кожей, но вот то, что обычно закрыто платьем, изрядно сморщилось и обвисло. Этим можно было объяснить, что с возрастом она выбирала преимущественно сверстников, или мужчин в достаточно преклонном возрасте, игнорируя молодые тела и лицемерно объясняя это склонностью молодых к глупости и непостоянству. Вот и кабинет, наконец-то, а то от вида Нинон, которую обмывают губками старухи, мне стало не по себе.
Девочка стоит под стеклом, куда было так спешить, она же не убежит. Ну и скука!
Пока я возвращался, понял, что подсматривать за женщинами мне не интересно. Я прошел сквозь несколько городов. В высокой башне Константинопольского дворца сидела девушка, прикованная цепью к стене и плакала, уставившись прекрасными глазами в окошко.
– Господи, помоги, – стонала она.
Я стал цепью и разметал себя в песчинки. И что? Она тут же бросилась к окну и даже в воздухе, когда уже падала вниз, все шевелила ногами. Как будто бежала.
Я видел в залах для развлечений ярко освещенные колпаки, вроде тех, под которым стояла в кабинете чучелом моя красавица, только больше размером, и женщины в них были живые, они двигались под музыку, обнажаясь. И на улицах, в мертвом свете реклам, и на старинных парусниках, под черным флагом, в жарких виноградниках, и на санях, запряженных собаками…
Заболела голова.
Я даже не запомнил этот город. Девушка под накидкой дала мне напиться воды. Я не видел ее лица, только руки с тонкими пальцами, а потом родинку на щиколотке, у самой перевязи сандалий. Пошел за ней как привязанный. В хлеву она сбросила покрывало, тогда я увидел ее лицо. Она играла с ягненком, потом кормила корову, и вдруг меня обожгло: проходя мимо бычка она легким привычным жестом провела у него под животом и стыдно засмеялась. На закате она пошла в город на стену и там гоняла с мальчишками голубей, свистя через два пальца, засунутых в рот. Пойманного голубка поила губами. Она любит голубей.
Ночью я сел на ее окно. Взмахнул крыльями. Она открыла глаза, не поверила. Подкрадывалась, ступая осторожно, ощупала меня и засмеялась счастливо.
– Какой ты белый! – это с придыханием восторга. И руки у нее маленькие, но сильные!
– Где ты был?! – орал как безумный Кукольник утром.
Впервые у меня была тайна от Кукольника. Я продержался почти девять месяцев. Потом не выдержал. Не знаю, что там дарят взрослые мужчины своим женщинам, собирающимся рожать, но мой подарок должны были увидеть все. Пришлось заняться науками. Почти все ночи я проводил у Звездочета, днем спал, подслушивая дыхание вулканов, и однажды у меня произошло извержение.
– Рановато, вроде, – задумчиво почесал затылок Кукольник.
– Много ты понимаешь!
– Я понимаю, как ты выразился, слишком много, чтобы не удивляться. С чего это ты ударился в науки?
– Я хочу сделать сюрприз.
– А, может, не надо?
– Хочу.
Кукольник только пожал плечами, но вечером, чтобы отвадить меня от Звездочета, попросил сопровождать его.
В этом городе было трудно дышать. Кукольник вел разговоры с подозрительными людьми, я исхитрился проникнуть в здание, где они рассматривают звезды. Посмотрел в телескоп. Люблю я звезды.
– Это потому, что ты любишь вечность.
– Вечность нельзя любить, – поддел я Кукольника, – ее только можно иметь или не иметь! – я даже не смотрел на него, потому что разглядывал странное сооружение, летающее в небе вокруг Земли. Яркий свет ослепил меня. И тут я понял, что нужно подарить!
Мы уходили, а люди на улицах под нами восторженно таращились в небо, на невозможно яркий свет звезды.
– В какой год вы ходили? – Звездочет вытащил свой астрологический круг. – Сейчас посмотрим… Соединение Сатурна и Юпитера в созвездии Рыб. Но не только это, а еще и синхронное приближение к ним Марса. Вот так... Вычислим период.
– Период?
– Спиральные повороты повторений. Если поделить на отрезки время между подобными сближениями и соотнести с годом твоего вчерашнего посещения будущего, то оно будет равняться семисот девяносто пяти годам. Допустим, мы приблизим звезды на днях… Для этого чуть повернем вот этот круг относительно пространственной зависимости от условной вероятности.
– Кукольник меня попросил, чтобы ты не пересекал по возможности параллельные миры, а то в прошлый раз, когда мы с тобой играли в прятки, у него потерялась кукла…
– Пусть не лезет не в свое дело. Приближаем звезды, или нет?
– Приближаем!
– А какой тогда у нас сейчас в этом приближении будет год?
Я удивлен.
– Если ты будешь играть в эту подстроенную игру с куклами, то для них, конечно, все равно, какой год. Но люди привязаны ко времени, они отсчитывают временем свою жизнь.
– И в следующей спирали, – задумался я, – все повторится?
– Нет, – Звездочет терпелив. – Повторяются только души. Не события, а души в первообразе своем, понимаешь?
– А никакой. Первый год… Год соединения в одну линию Сатурна и Юпитера с приближением к ним Марса. Год номер один. Когда это случится?
– Дня через два.
– Давай…– я быстро посчитал, загибая пальцы, – давай через четыре?
– Давай. Чем больше у меня времени, тем удобней.
Через четыре дня в свете яркой вспышки звезды на небе я сказал Кукольнику, что теперь у меня есть свой ребенок. Сначала Кукольник смеялся, потом сердился и топал ногами, потом просил и чуть не плакал, потом угрожал, что наделает чучел из всех родившихся в этот день младенцев, но я ничего не сказал ему про девушку, которая любит голубей.
– Да ты все выдумал, – – притих и затравлено посмотрел Кукольник, – ты еще ребенок, ты не можешь иметь детей!
– Ты от злости поглупел. Я умею отдавать тому, кому хочу, немного своей души.
– Чванливый эгоист! Всему, что ты умеешь, ты обязан мне! Мне! Только мне! Тебе невыгодно со мной ссориться, потому что ты еще многого не знаешь.
– Я вырасту. Узнаю. Научусь! А ты не смеешь больше мной командовать.
Кукольник сменил тактику. В полдень, когда я дремал в винограднике, сомлев от жары, он пришел повинившимся. Чтобы укрепить свой авторитет, он решил открыть мне самую важную тайну. Он сказал, что жизнь и смерть едины. Я уже раньше думал об этом, поэтому не особенно удивился. Но потом он сказал, что все созданное когда-то живет одним телом и душой. Все растения, звери и люди – один организм. И этот организм был вполне самодостаточен. Пока… Пока один самоуверенный мальчик не натворил глупостей.
– Или ты все придумал про ребенка? – с надеждой поинтересовался Кукольник.
– Нет. Это правда. Я его уже видел. Он родился. Я не отдам его тебе.
В наступившем молчании я видел, как судорогой, сильными пальцами с длинными отполированными ногтями, Кукольник зарывается в землю. Он так долго не дышал, что я стал думать, кем он нападет на меня? Но Кукольник не стал насекомым или змеей, он повернул ко мне безумное лицо и прошипел:
– Даже обладая жестокостью и глупостью подростка, ты не смел нарушать замкнутую систему жизни. Всех, кого можно было сделать, уже сделаны. Все, кто должен был у них родиться, уже рождены! Спираль запущена, все существующее учтено и посчитано. Глупость совершать можно, если ее можно исправить. Твое нежелание исправлять глупость эгоистично и бессмысленно. Я все равно найду твоего ребенка. Когда-нибудь я его найду. А чтобы ты больше не шалил… – он задумался, и я уже решил, что гнев его прошел, но тут он сказал громко и твердо: – я говорю тебе, ты никогда не вырастешь и не повзрослеешь, потому что никогда не познать тебе моих тайн! Отныне и вовеки я не скажу тебе ни слова, не напишу рукописи, не разъясню рисунком, пока твоя детская наглость не сменится унижением и робостью передо мной, повелителем тел!
Я встал и осмотрелся. Если задержать дыхание, то слышно, как самец земляной жабы под водой обливает молоком икру самки, а звук такой же, как хруст раскрывающейся розы. Честное слово, провалиться мне вот тут же в землю и растянуться там длинным дождевым червем, но мне нравится этот мир! Я потянулся, вбирая в себя глазами небо, и сказал:
– Убирайся. Никогда больше не попадайся мне на глаза, учитель.
То, что он начал войну, я понял уже на другой день. В винограднике, в том месте, где я обычно любил отдыхать, стояла большая корзина, над которой роились мухи. Я задержал дыхание, но смрад плыл у лица и чувствовался глазами. В корзине лежали две ноги, две руки и голова Звездочета. Я облазил виноградник, сбегал к морю, осмотрел свои любимые пещеры, но тела нигде не было. Если Кукольник убил его, значит, Звездочет ничего не сказал. Или сказал все, что мог.
Ночью в башне Звездочета горела свеча, вырезая окно полукругом в длинной темной махине, протыкающей небо. Я долго смотрел в окно на человека, вычерчивающего что-то при тусклом свете. Он тоже посмотрел на меня. Со смертельной печалью.
– Звездочет, – я вздохнул и не дал себе расплакаться, пробираясь в комнату, – Кукольник тебя убил.
– Знаю, – кивнул старик, склоняясь над своими схемами.
– Что ты сказал ему?
– Ничего. Но я не знал, кем он меня потом сделает, и вот… Сам посмотри. Прости меня, – Звездочет кивнул на стену, – Если бы он меня бросил, и я стал деревом или собакой, я бы не умел говорить, поэтому решил написать на всякий случай.
Я взял свечу, пространство вокруг тут же изменилось, преломленное тенями. На стене кровью были выведены три цифры: 795.
– Я хотел оставить тебе знак. Чтобы ты знал, что именно Кукольник ищет. Период соединения в одну линию Сатурна с Юпитером… С приближением Марса. Через 795 лет… Мы бы могли повторить это.
– Он видел?
Звездочет вздохнул и кивнул.
– Он вернулся, увидел и убил меня.
– Ты не знаешь, куда он дел твое тело?
Звездочет качает головой.
– Мне пора, – я обнимаю твердое прохладное тело.
– Ты будешь искать? – все понял Звездочет. – Ты будешь искать эту женщину? Не ошибись с годами – период! – вот что важно.
Кукла Звездочета – темный силуэт в остроконечном колпаке – замирает в подсвеченном окне. Пока я лечу в семьсот девяносто пятый год, я цепляюсь за нее глазами и прощаюсь, как с маяком. Мне показалось вдруг, что чернота неба так сгустилась, что я растворяюсь в ней, лицо заволокло душным бархатом бесконечного пустого пространства, но даже сквозь мрак, заложивший ватой уши, звук капающей в воду капли был оглушительным. Я открыл глаза пошире и увидел…
– Это водяные часы, – женщина стояла рядом со мной в небольшом дворике. Я сразу почувствовал, что это она. Я не поворачивал голову, чтобы рассмотреть ее лицо, я просто приблизился пчелой к капле воды, в которой оно отражалось. Для нее это было мгновение, в котором яркая пчела мелькнула у изящного сооружения из камней и золотых сосудов. Для меня – несколько секунд остановленного времени, за которые мозаичные глаза насекомого поделили ее лицо на части и впечатали в память навсегда. Она была такая …
– Это ты – новый друг повелителя? – женщина изогнулась, заглядывая мне в лицо. Душной пахучей волной всколыхнулись черные вьющиеся волосы с вплетенными в них бусинами.
– Это ты – его сказочница? – я решился и посмотрел. – Помнишь меня? – спросил я шепотом прямо в удивленные зрачки.
Причудливо вычерченный яркий рот приоткрылся, тело ее напряглось, она отставила ногу, готовая в любой момент сорваться и убежать, но вместо этого плавным движением руки закрыла лицо прозрачной тканью. Я улыбнулась: она уже не смотрела на меня, как на забавного мальчика, она испугалась власти мужчины!
Этой ночью калиф Гарун аль Рашид не пошел со мной бродить по Багдаду, переодевшись в нищенские одежды. Мы так гуляли уже несколько ночей, это я предложил калифу новое развлечение, и он, после изрядно заплесневевших утех с женщинами в гареме, кормления животных своего зоопарка провинившейся свитой, курения дымка горящей травы и потной бешеной гонки на любимом скакуне, обрадовался новому развлечению больше, чем я. Дележ милостыни нищими – со сверканием ножей и громкими ругательствами, выброшенный в канаву из окна, почти что к нам под ноги, трупик только что рожденного младенца, утехи воинов из ночной охраны с женщинами-уродами, тайная игра в камушки на жизнь в доме горшечника – все это наполняло Гаруна странной возбуждающей силой, и он не мог спать, хотя к рассвету еле волочил ноги.
Этой ночью калиф со сказочницей рассматривали небо в трубу, и у меня тоскливо сжалось сердце: я вспомнил Звездочета. Потом женщина рассказывала сказку, лежа на ковре в подушках. Гарун слушал ее напряженно, потягивая из длинного кувшина дымок. В особо напряженных моментах, когда в ее сказке дрались или любили, женщина вставала и начинала танцевать. Голые узкие ступни из-под блестящих шаровар, быстрое мелькание гибкого тела и медленное, волнами – не успевающих за телом тяжелых волос, дурманили меня головокружением как молодое вино. Я тогда вставал и подходил к окну глотнуть душной ночи. Где-то за стенами дворца по городу ходил человек, стучал в колотушку и кричал: «Спать! Спать!» Он так странно волновал меня, что иногда я не выдерживал и уходил к нему, задержав время и плетясь сзади истощенной собакой. В лабиринтах каменных улиц он был одинок, колотушка стучала, он кричал, напрягая горло, и шел с закрытыми глазами.
Гарун встал, когда женщина, дойдя в своей сказке до самого напряженного момента, заявила, что остальное он узнает завтра, и подошел к окну. Она всегда обрывала сказку на рассвете, когда небо только-только начинало подсвечиваться новым днем. Гарун показал мне прекрасную, похожую на застывшую музыку, картинку на куске шелка и спросил, не знаю ли я, где живут такие уроды?
На картинке толстый мужчина с напомаженными и искусно уложенными длинными волосами, стоял в боевой стойке с мечом в руке. Его длинные многослойные одежды развевались, на круглом личике узкие глаза едва намечались полукружьями щелочек, а рот был вырисован тщательно и ярко. Я вдохновенно рассказывал ему про народ, который по древности может сравниться с династией Аббасидов (если бы я сказал, что этот народ древнее династии Гаруна, он бы прирезал меня на месте своим дорогим кинжалом, а я хотел еще любоваться женщиной, которую бы выбрал, точно бы выбрал! если бы не та родинка на щиколотке семьсот девяносто пять лет назад). Я сказал, что народ этот умен и искусен в ремеслах, что именно этими смешными коротышками изобретен порох. Гарун не верил, что кучка сыпучего черного песка может повредить дому и убить лошадь, я устал, мы прилегли в подушки на ковре, и Гарун спросил, задумчиво отслеживая глазами гаснущие звезды в окне, живет ли кто там, далеко в небе?
– Нет, – сказал я, засыпая, – там никого нет.
– Мой звездочет говорит, что построит такую трубу, в которую можно будет увидеть яркие огоньки еще ближе, на них должны жить говорящие змеи и летающие кони, – возразил Гарун.
– Там никто не живет. Эти звезды огромны, но на них никого нет.
– Откуда ты знаешь?
– Я там был.
– Ты слишком самоуверен, но почему-то я верю в твои выдумки, – калиф не рассердился. – А кто тогда сделал звезды, и зачем?
– Звезды у нас делает Звездочет.
– Из чего твой звездочет делает звезды? – подался ко мне Гарун.
– Это всплески энергии, из которых не получилось живой клетки. Как бы это объяснить.. Из правильных и хороших икринок рыбы получаются головастики, а плохие так и остаются не ожившими.
– Кто наметал столько икры?! И кто это вылупливается из хорошей звезды?
– Не из звезды, – я зевнул, с трудом борясь со сном, – из всплеска энергии. Это маленький взрыв огромной силы, из которого может образоваться клетка, а может – застывшая масса отвердевшего пространства. Клетка начинает жить, размножаться, пока не выстроит свою вселенную – человека, животное или растение. Ты весь состоишь из крошечных клеток, они размножаются – ты живешь. Представь, что на какой-то твоей клетке внутри твоего тела сидит маленькое существо и смотрит в трубу на другие клетки.
– А мой гнедой жеребец покрыл гнедую кобылу, и у них родился жеребенок пятнами! Как такое может быть? Я не понимаю, что ты говоришь. Откуда ты пришел? Куда ты идешь? Что ты делаешь в моем дворце? Я вспоминал, вспоминал, но так и не смог вспомнить, когда ты появился! Почему мне кажется, что я тебя знаю всегда?
– Потому что я – это ты, а ты – это я.
– А если я тебе отрублю голову, я умру? – хитро прищуривается калиф.
– Нет. Тебе будет очень стыдно. Ты никогда себе этого не простишь.
– Если ты все знаешь, скажи, кого я собираюсь наградить, а кого убить?
– Ты считаешь Карла Великого своим другом и хочешь наградить его, подарив ключи от Гроба Господня. Ты будешь дарить ключи в Ерусалиме, на тебе будет надета самая длинная твоя чалма и рубин у лба. Ты подаришь ему еще и слона, Карл будет знать, что ему в подарок привезут животное, он представит себе леопарда, но ты привезешь слона.
– Великий Арабский калифат распался, – вздохнул Гарун. – Карл отличный воин, он мне как воин – ровня. Он провел франков через Альпы и разбил лонгобардов! Все знают, что я его хочу наградить. Мне уже подбирают слона, об этом ты тоже мог узнать. Моя самая длинная чалма всегда на мне, когда я в торжестве, а рубин – мой любимый камень! Ты ничего нового не сказал. Может, ты меня удивишь, если скажешь, кого я захочу убить?
– Ты захочешь убить свою сказочницу.
– Ложь! – калиф вскочил и схватился за кинжал. – Она мне дороже моего коня! Я могу жениться на ней, но убить – никогда!
Мне стало скучно. Что я делаю? Что я могу изменить? Сон прошел окончательно. Пора уходить. Прощай, сказочница!
– Ты убьешь ее, если дашь Кукольнику победить себя. Как только ты почувствуешь беспричинную ярость, как только ее недосказанная сказка почудится тебе оскорблением, как только запах крови станет самым желанным, значит, в тебя вселился Кукольник, а Кукольник всегда побеждает.
– Молчи, подстрекатель! Меня изводят все ее недосказанные сказки, запах от ее волос, ее ум и невинность! Вчера мне захотелось прокусить ее шею и попробовать кровь на вкус!
– Значит, Кукольник уже здесь. Прощай.
Калиф кричит и топает ногами, он зовет стражу, стража бегает за мной по дворцу, шум разбудил сказочницу, она подходит к двери и выглядывает – голая, я невесомо падаю сверху прямо на ее вьющиеся волосы белым перышком, она ловит перышко в ладонь и идет спать дальше, прижав кулачок со мной к груди.
Когда я вернулся, чтобы посмотреть на моего выросшего ребенка, я попал на его казнь.
Он стал мужчиной, крупным и красивым, а любительница голубей с родинкой на щиколотке почти не изменилась: она не утратила детского удивления в лице и порывистости движений. Я забрал его в себя, чтобы мой ребенок не достался Кукольнику, а она плакала, потому что смерть была, а похорон не было. Я ничего не чувствовал, только досаду. Меня не радовали даже судорожные и бесполезные поиски Кукольником моего сына. Он метался смерчем по всей земле, он завывал ночным ветром в трубах тех домов, где люди скорбели и плакали, потеряв сыновей, но он не нашел его.
– Он все-таки убил твоего ребенка? – спросит меня Аспасия.
Я скажу, что его убили люди. Она спросит, не жалею ли я о сыне? Я скажу, что мне скучно. Люди мне противны, а куклы раздражают. Она скажет, что я захотел попасть в конец лабиринта, а сперва нужно было найти начало. Я скажу, что у лабиринтов не бывает конца и начала, есть вход и выход. Она скажет, что я вошел через выход, а вышел через вход. Я скажу, что вход и выход – это одно место, как жизнь и смерть. Она скажет, что я бесчувственен, как и полагается ребенку, но что я вырасту, несмотря на угрозы Кукольника, если только смогу узнать что-то, чего не знает он. Думай, скажет она, думай же, мой бедный, мой грустный, мой прекрасный, мой нежный мальчик. Я скажу… Я ничего больше не скажу. Я заплачу, и не будет никого, кто захочет собрать мои слезы в выброшенные морем ракушки.
Молодой инспектор криминальной полиции и пожилой неопрятный следователь уныло разглядывали голый торс мужчины. Этот обрубок без головы, рук и ног был обнаружен в мусорном контейнере спального района на окраине Москвы. Сначала тело отвезли в ближайший морг, сотрудники местной милиции составили описание. Они подробно указали все имеющиеся на торсе родинки, седой волосяной покров, слаборазвитость грудных мышц и мышц живота, что указывало на спокойную, без излишних физических усилий жизнь обладателя этого торса, мужчины, приблизительно от шестидесяти до семидесяти лет.
Следователь раз десять подумал, прежде чем решиться и приказать доставить торс ему. Инспектор же настаивал на доставке, горячо призывая следователя осознать очевидное: кто-то раскидывает по городу расчлененку, и это может быть делом рук одного человека.
Следователь устал в который раз объяснять, что руки, найденные ими на днях, принадлежат одной женщине, голова – другой, а тело – старику. Инспектор с неохотой соглашался признать фактор наличия в их профессии совершенно не связанных друг с другом случайностей или закономерностей, но почему-то был точно уверен, что в данном случае эти разрозненные останки людей как-то связаны друг с другом.
Вечером старик позвонил в квартиру, в которой были обнаружены голова и руки. Трубку взял мальчик. Старик попросил встретиться, мальчик согласился на зоопарк. Инспектор доложил, что мальчик сирота, родителей нет, находится на попечении дядюшки, который в данный момент в отъезде и к найденным останкам навряд ли имеет отношение.
– Только не обезьянник! – старик протестующе выставил руки перед собой и остановился, как только у них проверили входные билеты в зоопарк.
– Именно что обезьянник, – настоял мальчик.
Под вопли и визги словно обезумевших обезьян старик пытался говорить, но потом замолчал, уставившись в разделительную сетку и то и дело вытирая лоб платком. Поговорить, похоже, придется разве что у слона. Или у бегемота, хорошо бы он не вылезал подольше из своей вонючей лужи.
– Почему тебе не нравятся обезьяны? – мальчик оторвался взглядом от мелькающих за сеткой темно-коричневых тел и посмотрел на старика.
– Мне кажется, что они – карикатура на людей! – прокричал старик. – Мне становится стыдно, – тут старик отвернулся от занимающегося онанизмом шимпанзе. Слишком резко отвернулся, это привлекло внимание мальчика, он нашел глазами шимпанзе.
– Они действительно были сделаны в насмешку над людьми, – совершенно серьезно заявил подросток и поинтересовался: – Ты – сыщик?
Старик кивнул.
– А ведь тебе не нравится смотреть на них не потому, что они – насмешка. А потому, что в своем естественном поведении зеркально отображенного но карикатурного образа человека, они человека унижают. Своей свободой, раскрепощенностью и наглостью.
– Подумайте, какие сложности! – пожал плечами старик, – Я только знаю, что мне противны обезьяны. Если ты считаешь, что они мне противны как изнанка меня самого, раскрепощенного и наглого, ну что ж, может, и так, – старик взял мальчика за руку и отвел к скамейке. – Никто, – сказал он, с удовольствием усаживаясь и разглядывая гуляющую публику, – не заставит меня смотреть на самого себя, обросшего грязной шерстью и трясущего в возбуждении половым членом. Или мы сидим и разговариваем тут, или, в крайнем случае, идем смотреть на слона.
– Сидим тут и разговариваем, не надо слона, – вздохнул мальчик и поинтересовался: – Вы зачем меня позвали? Вы нашли что-то еще? Постойте, – подросток тронул рукой старика за колено, растянув рот в глупой улыбке узнавания, – вы нашли тело Звездочета?!
Старик вздохнул, выдохнул и решил больше не тратить время на душевные беседы, на выяснение состояния мальчика, проснувшегося в комнате, где скромненько в углу лежат отрубленные руки и голова. Старик безразличным тоном поинтересовался, сколько еще будет продолжаться отсутствие дядюшки – хозяина квартиры – и как зовут врача, у которого мальчик наблюдается? Узнав, что подросток не состоит на учете у психоневролога, старик решил это тут же исправить, достал мобильный телефон и вызвал психологическую санитарную службу прямо в зоопарк.
– Зачем вам это? – заинтересовался мальчик, но желания удрать или возмутиться не проявил.
– Как только мне скажут, что ты психически здоров, я задам тебе все интересующие меня вопросы. С надеждой получить адекватные ответы. А пока у меня такое чувство, что ты малость свихнулся, хоть и не утратил намерения поиздеваться. Трудно мне с тобой говорить, я не умею говорить с детьми. Ну-ка, послушай… Это нас? – старик встал и взял мальчика за руку. По громкоговорителю объявили о приезде «скорой помощи».
– Не имеете права без адвоката, – зевнул мальчик, – я же к вам по-хорошему, я же вас в зоопарк пригласил, а вы!
– Посидишь пару дней в клинике под наблюдением специалистов, ничего страшного. Но если вдруг объявится наконец неуловимый дядюшка, если ты укажешь какого-нибудь близкого родственника, или хорошего знакомого старше двадцати пяти лет, я сразу же…
– У меня никого нет, – перебил его мальчик. – Патологически одинок.
В детском отделении психиатрической клиники был тихий час. Я без сожаления смотрел на недоделанных кукол разного возраста и детей, рожденных невпопад и потерявшихся во времени и пространстве. Они счастливы хотя бы тем, что совершенно не осознают границу между смертью и жизнью, тогда как для взрослых и по здешним понятиям психически здоровых людей, эта граница переживалась весьма болезненно: при смерти кого-либо, окружающие сокрушались и страдали, а во время своего рождения – что практически было одно и то же – орали от страха как резаные.
Ну что ж, я был прав, что пришел искать тело Звездочета в то самое пространство, где нашлись руки не понравившейся мне куклы и голова Аспасии.
– Я мышка, – шепотом сообщил карапуз с непомерно большой и лысой головой.
– Нет, – вздохнул я, – это я мышка. Белая.
Конечно, риск был, но те пару минут, что я скользил по только что вымытому линолеуму розовыми когтистыми лапками, уборщица употребила не на попытку моего истребления, а на непереносимый визг, который был странным для тучного тела с отекшими ногами – как будто орал нечаянно попавший в закрывающуюся дверь котенок. Визг прекратился, когда ее потрогал сзади неслышно подобравшийся большеголовый лысый ребенок. Он спросил с надеждой:
– Я тоже мышка?
Внизу в отделении для взрослых были отдельные комнаты для буйных с обшитыми стенами и полом, палаты, где люди лежали привязанные крепко за руки и ноги и большая игровая комната, в которой проводили время самые спокойные и благонадежные. Я осмотрелся, надеясь в этом скопище заблудившихся во времени и пространстве людей обнаружить что-нибудь интересное, и сразу же узнал художника.
Он стоял, расставив ноги, и энергично двигал рукой с судорожно сведенными в захвате невидимой кисти пальцами перед невидимым ни для кого, кроме него, мольбертом.
– Художник, – я подошел и поклонился.
Мгновенный взгляд-бросок в мою сторону:
– Ты меня знаешь?
– Да, Художник.
– Краски ни к черту, ни к черту! Ты мой служка? Ты рассыльный из лавки? Мне обещали свежие яйца, говорят, у этой торговки яйца с ярким желтком. А, может быть, ты посланник? – рука дернувшись, бросает невидимую кисть и цепко хватает меня за больничную рубаху: – Скажи Кукольнику, что я умер. Я умер! Нищий и больной. По дороге в Рим. Так и скажи, я не дошел до Рима, а натурщица бросила меня еще раньше. Просто исчезла и все. У меня все украли, ты не знал? Мой служка или натурщица указали на тайники. Все вынесли, все, – его изможденное лицо сморщилось, нагоняя слезы, но слезы не пришли. – Ты знаешь, кто я?!
Я оторвал от себя сильную руку, развернул ее вверх ладонью, посмотрел на переплетение звездных нитей и опять чуть поклонился.
– Ты Караваджо. Зачем ты понадобился Кукольнику?
– Он ищет женщину. Он хотел забрать мою натурщицу, а я заколол его шпагой. Испанский король обещал защиту, я бежал из Рима.
– Ты заколол Кукольника шпагой?
– Я очень вспыльчив. Ничего не могу поделать, – старик вдруг сел на пол и поманил меня пальцем к себе: – Но он ее не нашел! Один мальтийский рыцарь отрекся от всего сущего, когда увидел мою «Смерть девы Марии»!
– Она умерла? – спросил я шепотом и тут же понял, что сморозил глупость.
– Да нет же, придурок, это картина такая, я нарисовал картину с натуры, как она может умереть!! На Мальте мне было хорошо, – старик вздохнул, – пока меня не посадили в тюрьму. Ерунда, проткнул одного высокомерного мальтийца, но у них с этим строго.
– Я хочу видеть эту картину, – я встал и протянул ему руку.
– Бежал в Неаполь, просил о помиловании, – старик с трудом поднялся и гордым жестом забросил через плечо край невидимой одежды. – Меня опять бросили в тюрьму, судьба отвернулась, я видел только ее костлявый зад. Будь все проклято! Столько раз уходить от возмездия и оказаться ложно обвиненным, ну как тут не поверить в торжество высшего разума! Куда ты меня ведешь?
– Мы вернемся обратно. Я буду растирать тебе краски.
– Мальчик, ты что тут делаешь? – санитар с опухшим лицом вглядывался в меня. Тошнотворно пахнуло переработанным высоко-градусным напитком.
– Ничего, – отвернул я лицо, – я сейчас выпал из периодов, чтобы найти Караваджо.
– Пошел прочь, это мой служка! – старик вздернул голову и старался смотреть на санитара сверху. – Ты стражник? Где твое копье?
Я показал санитару мордочку подскального осьминога в тот момент, когда он нацеливается ртом на добычу. Санитар отшатнулся, бессмысленно тараща глаза, и быстро ушел.
– Куда мы вернемся? – Караваджо оперся о мое плечо и осмотрелся. – Я ведь сын простого каменщика, потом слуга, потом рисовальщик фруктов на картинах мастеров. Но я же и первый в вещественном реалисе!
– Мы вернемся в тысячу пятьсот девяностый год.
– Тысячу… пять…ностый, – бормочет старик, рука на моем плече тяжелеет. – Ради всего святого, почему именно туда?!
– Потому что это семьсот девяносто пять умноженное на два. А в семьсот девяносто пятом году я уже мою женщину видел. Она отлично выдумывала сказки. Звезды выстроятся в одну линию. Я опять ее увижу. Не останавливайся, старик. Только не останавливайся.
– Я не пойду, – Караваджо оседает у стены. Торчат, чуть прикрытые больничным балахоном острые коленки. – Я опять убью Кукольника и судьба моя будет проклята! Куда… Куда я хочу? Я не хочу приносить уголь и выносить помои, не хочу рисовать фрукты и бегать по приказам…Отведи меня туда, где я совсем ничего не помню, где я маленький и не понимаю, зачем живу…
– Ты не можешь убить Кукольника. Вставай. Идем же. Откуда ты вообще знаешь это имя?
– Он сказал. Когда я отказался показать ему девушку, изображенную «Амуром-победителем», он закричал: «Ты знаешь, с кем разговариваешь?! С самим Кукольником!» А мне что? Я спросил, знает ли он, с кем разговаривает?! Я не пойду с тобой. Мне нужно закончить здесь картину. Я допишу «Лютниста». Я все картины делал с нее. «Вакх» – тоже она. Если бы я не стал делать «Смерть девы…», может, я бы не накликал на себя несчастья. Вот тебе золотой, мальчик. Принеси вина. – Караваджо уронил голову на скрещенные руки и затих.
Я сел рядом на пол. Толкнул его плечом.
– Если ты не пойдешь со мной, ты останешься здесь. В этом самом месте, куда тебя засунул Кукольник. Ты умер по пути в Рим, но остался старым. Ты сейчас в том возрасте, в котором умер. Это значит, что Кукольник очень на тебя обижен и зол.
– Конечно, зол! Я два раза проткнул его шпагой! – Караваджо поднял голову и вздернул вверх подбородок.
– Пойдем со мной. Вернемся туда. Даже самая незначительная деталь может иметь важные последствия. Мы что-нибудь изменим. Иначе ты останешься в вечности старым, как Звездочет. Ты второй такой человек, награжденный злобой Кукольника. Ты не будешь собакой, птицей, другим человеком, куклой, цветком или овощем, ты будешь только стариком, умершим по дороге в Рим.
– Не пойду. И я не хочу быть собакой или овощем. Оставь меня. Раз уж так получилось, пусть я останусь таким. Хоть какое-то спокойствие. Больше ничего не случится, и шпагу мне уже не удержать.
– Сколько дней ты здесь? – я вгляделся в близкое изможденное лицо. В коричневые наплывы морщин и пронзительные глаза.
– Нисколько. Солнце еще не садилось.
– Значит, на рассвете ты опять умрешь. Нищий и больной. Каждый рассвет будет одинаковым. Ты то, что люди в этом времени называют привидением. Через несколько рассветов ты обезумеешь и будешь умолять, просить нормальной смерти.
– Кто ты… такой?! = выдохнул старик. – Что тебе от меня надо?
– Ничего. Мне нужна твоя натурщица.
– Ах ты, щенок! – Караваджо замахнулся, вставая.
Я убегал сначала медленно, оглядываясь, потом, когда убедился, что гнев его неукротим, быстрее и быстрее, в расщелину между малахитовым свечением холода и оранжевым пологом огня.
Она была беспокойной натурщицей. Она ловила солнечных зайчиков, почесывалась, хихикала, просила есть, пить и выйти по нужде в тот момент, когда глаза Караваджо теряли земное притяжение и он переставал понимать что-либо, завороженный ее образом, украденным кистью и проявившимся на холсте. Вечерами мы сидели втроем у огня и молчали, и не было у меня раньше никогда, и я знаю, что никогда уже не будет таких вечеров, хотя, как я смею провоцировать самого себя?! В любой момент, как только я разочаруюсь чучелом в кабинете мужа Нинон Ланкло, я могу тут же броситься в эти вечера, в их тепло и негу, в миндалевидные глаза девушки, в разбавленное вино, в тихое содрогание времени у меня на коленях – это мурлычет кошка. Я просто смотрел, она молчала, Караваджо, обессилев, грелся у огня и пил вино, кошка дрожала внутренностями, и ее шерсть пахла свежим сеном. Потом девушка брала лютню, смешно, но «Лютнист» не умел толком играть, она перебирала струны и смеялась, и на лице художника появлялось узнавание, и он возвращался к нам из воронки вдохновения или забытья. И мне ничего от нее не было нужно, как и от сказочницы, я просто не хотел, чтобы Кукольник нашел мою женщину. Потому что она была моя. Я ни разу к ней не прикоснулся, не задел крылом, не потерся усатой мордой молодого тигра, не ткнулся влажными ноздрями коня, не пощекотал холодным телом змеи ее ноги, когда она болтала ими в ручье.
– Ты меня больше не любишь? – спросила она на рассвете, когда измученный большими надеждами и видениями художник заснул. – Помнишь? – она раскрыла ладонь и дунула на невидимое перышко. Я, как последний дурак, захотел объяснить:
– Однажды я спросил у Кукольника, что такое любовь…
– Убей Кукольника! – она схватила меня за руку и трясла ее, приблизив к моему лицо свое – вплотную.
– Он сказал…
– К черту Кукольника! К черту твои подсчеты! Ты уже наметил, когда мне в следующий раз нужно будет сидеть примерной кукушкой и ждать, пока ты залетишь в окно?
Тысяча пятьсот девяностый плюс семьсот девяносто пять… Я вздохнул. Это будет уже в третьем тысячелетии.
– Так вот, – девушка разозлилась, бросила мою руку, скулы ее полыхнули гневом, а под глазами и треугольником вокруг рта бледнела печаль. – Ни тебе, ни Кукольнику так просто меня не найти! Я уйду, когда захочу, и приду, когда захочу!
– Бред! – мне оставалось только пожать плечами и улыбнуться.
– Всемогущая парочка, да?! Ничего у вас не выйдет.
В этот момент мне почудился – легким движением ветра в листьях деревьев, странным звуком в полной тишине – раздраженный вздох Кукольника, и как он грозит ей пальцем, прищурясь: «Не шали, куколка моя!»
– Я вижу и знаю все, что существует. Тебе не спрятаться! – главное, разговаривать спокойно, но ее настойчивость стала раздражать.
– Будешь любить меня в мастерской художника? – девушка опять приблизила свое лицо к моему, я услышал на веках ее дыхание.
– Любить?! Лучше я покажу тебе казнь…
– Да не надо этого, не надо! Зайди в любой раскрашенный позолотой и иконами балаган, и увидишь, как наскоро вылепленный или выструганный из дерева казненный висит, прибитый к деревянному кресту и капает сладостными каплями крови в резные чаши, подставленные именно для такого случая! А тряпка, в которую его завернули, снятого! Знаешь, сколько она теперь стоит?! – она кричала и размахивала руками, совсем рядом, можно тронуть и вдохнуть, но почему она кажется плоской, как мираж за дрожащей пеленой расплавленного жарой воздуха? – А уж сколько работы подвалило художникам, когда можно стало святых рисовать с людей! Сколько портретов твоей предполагаемой избранницы висит по свету, знаешь? Сколько мамаш показывают миру толстых сосущих младенцев с полотен, сколько пылится статуями?! Ты развернул неплохую рекламную компанию, возлюбленный мой! Только ведь и Кукольник не спал! Он унизил твоего сына желанием попрать смерть!
– Что… Что ты сказала?! – закричал я сквозь яростный шум взлетевшего остроносого авиа-такси.
– Твой сын не просто так пошел на крест. Он попросил одного человека предать его. Ну и кто из них двоих после этого достоин поклонения? Тот, кто умер в мучениях плоти, или другой, не вынесших душевных страданий от предательства, на которое его обрек собственный учитель?!
– Ученик моего сына?.. Предательство? Кто?! – я неистово топнул ногой.
Мир содрогнулся, потом наступила полная тишина. Время остановилось. Слова моей избранницы шли ко мне через линзу столбняка – увеличительное стекло для микроскопических мгновений прошлого и будущего.
– Кукольник подослал своего человека. Его звали Иуда. Он так преданно и беззаветно любил твоего сына – своего учителя, что согласился на его просьбу предать. Получается, что твой сын вошел в свои страдания не единолично, а через страдания своего ученика.
– Что… с ним? – прошептал я, и выдох застыл испариной на линзе.
– Повес-с-сился… – шепот испарины незаметно исчез. С ним и линза расплылась. Говорившая со мной девушка дрожала как мираж в мареве горячего дыхания пустыни и становилась прозрачной.
– В этом времени люди разделись на два лагеря. Половина поклоняется Иуде. А может, это того стоит – поклоняться самопожертвованию униженного и проклятого подлеца – как тебе такая идеология? Не ищи меня. Мне не нравится, как вы с Кукольником делите мир и играете судьбами людей. Так что, не трать время зря, мальчик, иди отдыхать, ловить бабочек и отрывать руки статуям.
Я, обомлев, оглянулся. В огромном здании аэровокзала по всему периметру светились мониторы видеосвязи: желающие могли пообщаться с родными перед дальней дорогой.
– Вернись сейчас же обратно! – я стукнул кулаком по ладони, – Немедленно вернись, мы должны быть рядом, когда Караваджо проснется!
– Ты, наверное, сейчас топчешься от злости на месте и кулаками размахиваешь? – ее лицо на экране было размыто, но на лбу – металлическая полоска с орнаментом, такая же, как у разговаривающих рядом женщин, и в ноздре цветок! – Не сердись, мой хороший, я не могу сидеть кукушкой и ждать, кто из вас первый найдет меня! – я вдруг понял, что она меня не слышит, что связь односторонняя, и как в тяжелой воде, медленно, еле двигая рукой, нажал «выход» и вытащил блестящий кружок диска. Экран погас.
Она не слышала меня. Я просто читал письмо. Неизвестно кем и когда отправленное. Непонятно кем вставленное в видеотелефон.
– Какой сегодня год? – бросился я к первому же человеку, он отшатнулся, я опустил глаза и замер. Такое со мной произошло впервые. Я стоял во времени, не приспособившись к нему: из-под складок моего платья выступали не очень чистые колени и ноги в кожаных сандалиях, обвязанных веревками вокруг щиколоток. Впервые я шагнул в другое пространство и время, даже не подумав об этом, словно чихнул.
Я нащупал сзади себя пластиковый стул, опустился на него, и стул обхватил мой зад упругой массой приспосабливающейся мебели. На огромном табло высвечивалось время, день недели – среда, и год – 2385. Семьсот девяносто пять на три. Я встал. Я осмотрелся. В здании аэропорта царила паника. Тошнотно завывали сирены. От секундного содрогания земли на взлетных полосах образовались глубокие трещины. Я запустил в зал маленький плоский кружок диска, и он взлетел, сверкая и дробя собой направленный свет невидимых ламп. Я был одинок, так одинок, как никогда еще. Потому что в этом году ее не было. Это точно. Это я чувствовал остро и страшно, как потерявшаяся собака. Не было здесь и Кукольника. Я еще раз осмотрел сандалии. Что художник сделает с моей женщиной в своем времени? Если вернусь туда, смогу ли поймать губами хоть кончики ее пальцев – реально?
Сын каменщика дрался на шпагах яростно и лихо. Я огляделся. Я осмотрел дом, каким-то образом за время моего отсутствия совершенно разоренный, с раскиданной мебелью и перебитой посудой, потом пристроенный винный погреб. Ее уже не было. Только что мы разговаривали, стоя вот здесь под деревом, когда небо началось розоветь рассветом. И как только Караваджо угораздило проснуться и затеять драку? Я так устал, что мелькание клинков множилось перед глазами и сверкало вдруг распахнувшимся веером.
– Убей его, Караваджо, – прошептал я, – убей Кукольника…
– Это не Кукольник! – крикнул художник, не отрываясь от драки, он перемещался по небольшому дворику гигантским кузнечиком, поднявшимся на задних лапах, – Это продажный поэт, а второй! – Караваджо пошел наскоками, подталкивая к себе землю выбросами правой ноги, – Это стражник, шпион и доносчик!
Через несколько минут все было кончено. Совершенно взмокший Караваджо, тяжело дыша, разглядывал поверженных соперников. Шпион и доносчик был еще жив, Караваджо раздумывал, не заколоть ли его окончательно. Я помог оттащить тела в тень, мы заперли все двери на засовы, и утро определилось жарой и криками птиц. Раздевшись наголо, художник стоял во дворике у колодца и выливал на себя воду ведрами, смывая чужую кровь и свою – с многочисленных порезов и небольших ран.
– Она ушла, – сказал я между двумя ведрами.
– Она умерла, – сказал Караваджо, застыв мокрым анатомическим пособием в солнечном свете. – Поэт написал похабные стишки про меня и моего мальчика-натурщика. А стражник донес, что я рисую смерть Девы, и позирует мне юноша, с которого я писал Вакха. Пока тебя не было, еще затемно пришла толпа и растерзала мою натурщицу.
– Какой юноша? – я ничего не понял. – Ведь тебе позировала девушка?
– Не просто девушка… Это была сама жизнь! – художник завернулся в простыню сомнительной чистоты и подошел ко мне, оставляя на плитах двора мокрые следы, я в оцепенении смотрел, как эти следы исчезают на солнце, словно за художником шел призрак. – Я надевал ей на голову тюрбан, или венок из фруктов, утром – девушка, вечером – юноша, она была моим Вакхом и Лютнистом, а для соседей – просто служанкой. Сейчас ведь не принято брать в натурщицы простолюдинок, сейчас за счастье писать женщину, платят гетерам! У меня не было денег сначала, – Караваджо стоял передо мной, закрыв собой солнце, я заслонился рукой от нимба вокруг его косматой мокрой головы. – А потом… Ты видел ее, скажи, смог бы я найти кого трепетней и прекрасней!
– Никого, – я опустил голову.
– Помоги мне одеться в торжественное платье, – Караваджо пошел в дом, не дожидаясь моего согласия, ни в голосе его, ни в движениях не было горя, только озабоченность, словно предстояло важное дело.
Он поинтересовался, пойду ли я с ним в театр мертвецов? Я кивнул, не задумываясь, мне было все равно, что он имеет в виду. Плохо понимая, что делаю, я помог загрузить два мертвых тела на тележку, мы отвезли эту тележку к магистрату и вывалили поэта и стражника перед ступенями, у которых уже сидели ранние просители.
Потом мы пошли в театр мертвецов, так Караваджо называл анатомический зал, куда врачи и художники отбирали некоторые невостребованные тела для исследований. Я так устал, что не мог ничему удивляться, но бледный молодой художник, рисующий наряженное в дорогие одежды тело мертвой старухи, усаженное в кресло с закрепителями для головы, привел меня в исступленное состояние тоски. Мы осмотрели все женские тела, я осматривал мертвецов, когда Караваджо не мог подойти близко из-за удушья разложения, и качал головой – не она. Ее здесь не было. Пришлось идти в монастырскую больницу и осматривать все опознанные тела, а Караваджо при этом нес под мышками по мертвой мужской ноге, он выловил их в чане театра, но моя усталость сделала меня совершенно не любопытным. Мне было все равно, куда и зачем он тащит эти ноги, отделенные от туловища у самых тазобедренных суставов. И за нами увязалась толпа, сначала это было несколько человек, они перешептывались, потом толпа обросла бездельниками и искателями шумных скандалов, уже платья простолюдинов мелькали вперемешку с дорогими одеждами зажиточных граждан. Караваджо, в бархатном камзоле с широкими, в складку рукавами, не очень чистых чулках, но довольно новых туфлях с богатыми пряжками, подметая камни мостовой тяжелым плащом, молча тащил ноги мертвеца и гордо смотрел перед собой, вздернув голову над пышным белым воротником.
– Это твой натурщик, Караваджо?! – кричали в толпе, – Какой хорошенький! Еще один? Он же совсем мальчик, ты сгоришь в аду, Караваджо!
Полетели камни. Мы побежали, и художник не мог закрыть руками голову, потому что тащил под мышками мужские ноги. Ему камень попал в голову, а мне в плечо. Я остановился и выставил перед собой руки. Толпа замерла. Прищурившись, я посмотрел на небо и закрыл пальцем солнце. Мгновенно наступила тьма. Люди закричали и побежали в разные стороны, падая и давя друг друга. Караваджо, открыв рот, смотрел в дыру на небе, куда провалился солнечный диск, оставивший после себя неяркую подсветку по кругу. По его виску стекала кровь, капая на пышный воротник. Он бросил ноги мертвеца и с удивлением протянул руки к небу, словно хотел потрогать дыру и не понимал, почему не достает до нее. Я схватил его за руку и потащил, спотыкающегося за собой. Мы сели у дверей какого-то храма и смотрели, как солнце выползает из-за черного круга сначала тонким ярким полукругом, потом смотреть стало невозможно.
– Солнце вернулось? – недоумевал Караваджо. – Как ты это сделал?
– Я ничего не делал. Это было затмение. Своего рода траур по твоей и моей возлюбленной.
– А что закрыло солнце?
– Тень луны.
– Но я же видел! – Караваджо смотрел на меня с удивлением и досадой, – Ты ткнул пальцем! Ты что-то сделал!
– Так бывает, – я замялся, – когда моя печаль сильнее любви ко всему живому.
Мы помолчали.
– Я потерял ноги мертвеца, – развел руками Караваджо, повернувшись в сторону возбужденно орущих на площади людей, тычущих пальцами в небо.
– Зачем тебе, ради всего живого, эти ноги?!
– Я нес их соседу гончару. Гончар безногий. Он давно просил меня сделать ему деревянные ноги, но чтобы они были красивые. Таких красивых мужских ног я не видел никогда. Уверен, они бы ему понравились, но все равно надо было показать. И сделать эскизы.
Я почувствовал, что по моему лицу текут слезы.
– Не плачь, мальчик, – вздохнул Караваджо. – Может, это и к лучшему, я еще не продумал толком крепления. Откуда ты пришел? Кто твои родители?
– Я пришел ниоткуда, – ответил я, и это была сущая правда.
– Но ты знаешь мою натурщицу. Знал…Пойдешь со мной ночью в больницу?
– Зачем?
– Если найду, я вынесу ее оттуда, отмою, одену, посажу у себя в мастерской. Они хотели картину, будет им «Смерть Девы Марии!» И не будет Девы мертвей и прекрасней ее.
– Нет, Караваджо. У меня дела. Я не пойду с тобой в больницу.
Я представил себе, как ночью он потащит по городу мертвое тело под мышкой, посадит у себя в мастерской… А вдруг я попался?..
– Что ты сделаешь потом, когда нарисуешь? – я напряженно вгляделся в художника, его уже засосала воронка воображения, он был не со мной, но ответил, не задумываясь:
– Отнесу обратно. Оплачу похороны. Вырежу камень на могилу.
– Ты ведь не оставишь ее возле себя надолго? Не захочешь иметь ее тело всегда?
– Нет. Ее тело заслуживает дорогих похорон.
– Как хорошо, – вздохнул я с облегчением.
– Что тут хорошего? – возмутился Караваджо.
– Хорошо, что ты – не Кукольник.
– Я известен. Я богат. И я должен бежать, бросив свой дом и мастерскую. Только потому, что убил в честном бою на дуэли негодяя с мерзавцем! Тут еще подумаешь, кем бы мне стоило быть!
– Прощай, художник, – я взял его за руку, и сильные пальцы сжали мое запястье. – Узнай меня, пожалуйста, если еще раз встретимся.
В два часа ночи звонок телефона разбудил следователя. Он встал, пошатываясь и соображая, как получилось, что телефона нет под рукой, но потом понял, что заснул не в кровати. Мертвецки пьяный, он заснул около полуночи в кресле перед включенным телевизором. Следователь взял трубку, уставившись на экран, на многоцветный праздник ночного эротического канала. Под лирическую музыку и приличную, без излишеств, легкую эротику, ему сообщили, что на крыше детского сада обнаружены две человеческие ноги. По размерам и степени волосатости, предположительно, ноги принадлежали мужчине. На крыше также находился и сторож детского сада. Задержан. За следователем отправлена машина, районное отделение криминальной полиции предупреждено о деле, которое ведет следователь, поэтому на крыше поставлено оцепление, улики никто не трогал, ждут его.
– А какое дело я веду?
– О маньяке, расчленяющем свои жертвы.
– Еще вопрос, пожалуйста, я не понял, где поставлено оцепление?
– Вокруг детского сада, и несколько человек на крыше.
Пошатывающийся следователь спустился по лестнице и вышел из подъезда, все еще плохо соображая. В машине он погрозил кому-то невидимому указательным пальцем и пробормотал:
– Или пятница, или суббота…
– Простите? – шофер нашел его глазами в зеркале. Следователь сидел, обмякнув, на заднем сидении.
– Сегодня может быть только пятница, или суббота. Эротический канал бывает в эти дни по ночам.
– Я тоже смотрю, если получается, – улыбнулся шофер.
Во дворе детского сада следователь грустно посмотрел на крышу, на бодрых спецназовцев у входа в здание, на металлическую лестницу вверх по стене, вздохнул и попросил спустить ноги вниз. Спускали ноги в пластиковом мешке.
– Посмотрите? – офицер оцепления удивился, что следователь не осмотрел крышу.
– Нет. Что на них смотреть? Пусть везут в морг специзолятора. Почему позвонили мне?
– Не понял?
– Почему вызвали меня, а не дежурного инспектора?
– Дежурный инспектор на крыше. Он сразу потребовал вас. Он и оцепление приказал сделать.
С плоской крыши двухэтажного здания махал рукой инспектор. Следователь ругнулся лениво, про себя. Теперь на всю Москву разойдутся слухи про расчлененку. По наружной лестнице вниз спускался инспектор.
– А вы зря не захотели осмотреть место происшествия!
Он был нестерпимо бодр, весел и разговорчив!
– Я немедленно приказал обзвонить все морги, не пропадал ли там анатомический материал, понимаете, я вечером подумал, вдруг, это студенты-медики шалят. Материал не пропадал, но и заявок на пропавших без вести в ближайшие дни молодых женщин и старика тоже не поступало. То есть, на старика было заявление, но по описанию это был тучный старик, а у нас тело сухое, неоткормленое. А что касается молодых женщин, то за последние пять суток по Москве пропало четверо, но описание головы не подходит ни одной из них, и руки другой, как выяснилось, тоже не от пропавших, у пропавших брюнеток были отличительные особенности, поэтому…
– Где сторож?
– Сторож? Сторож… А, конечно, сторож! Он находится в помещении детского сада. С него были сняты показания, вот, пожалуйста. Три листа.
– Три листа? – удивился следователь, сдерживая зевок.
– Я же говорю, вы зря не поднялись на крышу, потому что там кроме мужских ног находилось еще тело мертвой козы, и полно крови.
Следователь проснулся и протрезвел одновременно. Он огляделся и несколько раз прочел адрес на здании детского сада. Синий прямоугольник, подсвеченный изнутри. Улица и номер дома. Следователь кивнул, словно угадал, развернул инспектора лицом к стоящему рядом дому.
– Видите этот дом? Здесь живет подросток, в квартире которого были обнаружены голова и руки.
– Потрясающе, – пробормотал инспектор, – ночь, понимаете, темно, я не узнал это место.
– Я тоже не узнал, но я помню улицу и номер дома. Значит, коза, говорите, и три листа показаний?
– Так точно, три листа! Я сделал фотоснимки, кровь с крыши взята на анализ, верхняя одежда сторожа тоже взята на анализ, его отпечатки пальцев сняты, и он предупрежден об ответственности за дачу ложных показаний. На основании этих показаний я приказал сторожа задержать за хулиганство во время исполнения служебных обязанностей.
– Я ничего не понимаю, – сознался следователь. – Какое хулиганство?
– Вот, прочтите! – инспектор потрясал листками. – Я не отвез его немедленно в отделение, потому что вы должны были вот-вот подъехать.
– А где мальчик?
– Разрешите доложить, никакого мальчика ни в здании, ни на крыше не было. В наличии имелись только отсоединенные от тела ноги мужчины, сторож и зарезанная коза.
– Зарезанная коза?
– Так точно. Горло перерезано.
Старик пожалел, что не полез на крышу. Но сейчас это уже было глупо: в мешке спускали вниз тело козы.
– Мне нужно знать немедленно, как себя чувствует мальчик, которого я вчера отправил в психиатрическую клинику для наблюдения. Еще, будьте добры, возьмите у сторожа нож, или орудие, которым…
Жестом фокусника инспектор выдернул откуда-то из-за спины пакет с окровавленным кухонным ножом. Но это было не все. Захлебываясь от волнения, он сообщил, что подросток, в квартире которого были обнаружены женская голова и руки, отправленный для наблюдения в психиатрическую клинику, из этой клиники сбежал почти сразу и в настоящий момент находится в розыске.
Старик думал несколько минут, покачиваясь с пятки на носок, потом поинтересовался, не пропадал ли кто еще в это же время из психушки, и с удовольствием отметил, как выражение самодовольства на лице инспектора сменилось растерянностью. Старик протянул ему свой сотовый телефон.
– Работайте, коллега, – кивнул он и пошел смотреть на сторожа.
Он вошел в здание. К этому времени подъехала заведующая – молодая женщина с выражением ужаса и отчаяния на лице. Женщина открыла свой кабинет, и сторожа привели туда. Следователь сел напротив всколоченного немолодого мужчины в клетчатой рубахе и трусах – его брюки и куртку забрали на обследование. Заведующая суетливо набросила на сторожа халат. Следователь начал читать показания, иногда поднимая голову и утыкаясь взглядом в выставленные в полках шкафа детские игрушки – наряженные куклы, резиновые пищалки, мохнатые зайцы и мишки.
– Нож вы взяли на кухне, – подвел итог следователь через двадцать пять минут. Он прочел листки трижды. – Козу принесли с собой, а ноги уже лежали на крыше, вы их увидели, когда зарезали козу.
Даже полностью расслабившись и уговаривая себя подойти к написанному максимально отстраненно, следователь ничего больше выудить из этих показаний не смог.
– Почему вы решили резать козу именно на крыше?
Мужчина посмотрел на него с удивлением:
– А где же ее резать? Не в песочнице же. И во дворе просто так не пристроишься, обязательно найдется какой-нибудь любитель ночного выгула собак! Я все чисто сделал и таз принес, я бы все убрал, если бы небо не отказалось принять жертву!
Отказ неба принять в жертву зарезанную сторожем козу выглядел так: на небе зажегся огонь и послышался адский голос, требующий немедленно сложить оружие и поднять руки вверх. Следователь уже знал, что старика с ножом в руке возле окровавленной козы на крыше засек патрульный вертолет. Осветив крышу, патруль обнаружил недалеко от старика с козой две человеческие ноги.
– Милейший, – склонился к мужчине следователь, – а зачем вы резали козу? В жертву кому, или ради чего?
Мужчина спокойно и доходчиво объяснил, что козу нужно было непременно зарезать, чтобы ему не стать привидением.
– Почему же вы думаете, что станете привидением? – шепотом спросил следователь.
– Я умер по дороге в Рим, – заявил мужчина, подумал и добавил: – Дважды. Это утомительно.
– Значит, вы умерли по дороге в Рим, а как же тогда оказались здесь, в детском саду?
– Я здесь работаю сторожем.
Коротко и ясно. Следователь пожал плечами. У окна на стуле плакала заведующая, зажимая рот платком. Следователь подошел к ней и тихо потрепал за вздрагивающее плечо:
– Покажите мне документы вашего сторожа.
– Это все ерунда, – усмехнулся мужчина. – Эти ваши документы – ерунда. Спросите меня, кто я!
– Кто вы? – спросил следователь.
– Я великий мастер реалиса Микеланджело из Караваджо!
Заведующая потянула следователя за рукав, он склонился к ней, она по детски обхватила его за шею и зашептала, горячо и мокро, щекоча волосами щеку. Потом заплакала еще горше, отвернувшись к окну.
Следователь выпрямился. Он смотрел на мужчину почти с восторгом. Он только что узнал, что несколько дней назад сторож детского сада был помещен в психиатрическую клинику для излечения. Раздвоение личности. Объявление о вакансии сторожа висит на стене, а прошел он ночью в детский сад, вероятно, имея собственные ключи.
– Позвольте только одни вопрос, мастер. Чьи это ноги лежали на крыше?
– Понятия не имею. Они удивительно пропорциональны. Поэтому я и взял их с собой, чтобы сделать дома эскиз.
– Эскиз?
– Для деревянных ног горшечнику.
– А где вы их взяли?
– В театре мертвых. Кого-то из неузнанных, вероятно, разделали для исследований. Столько шума из-за ног? Нашелся хозяин? Скажите ему, что их уже не пришить. Ткани отмерли. Хотя мастер Фрибалиус, к примеру, целый год сшивал части мертвецов в одно тело в надежде оживить. У него был секрет, как эти части сохранить от гниения.
– Где этот ваш мастер, – возбудился следователь, – где?!
– Умер он в Генуе в прошлом году, – удивленно посмотрел на него сторож. – Уж не хотите ли вы связаться с самим Кукольником? Он кого хочешь оживит.
Следователь резко выпрямился. Он вспомнил, как мальчик в квартире назвал его Кукольником.
– Где мальчик? – спросил следователь шепотом, почти не надеясь на ответ.
– А-а-а, мальчик… – вдруг ласково улыбнулся сторож. – Везде. Он – везде.
Сторожа увезли на «скорой», как раз когда возбужденно-радостный инспектор прибежал доложить следователю, кто еще сбежал из психушки в то же время, что и мальчик. Следователь отстранил его рукой: инспектор мешал смотреть в окно. Следователю показалось, что в окне квартиры мальчика горит свет. Но и это разъяснилось: как только узнали о побеге мальчика, в квартиру посадили человека.
– Потрясающе, – развел руками следователь. – И этот человек, эта засада, жжет свет в три часа ночи?!
– Недоработка, примем меры, – тут же согласился инспектор.
Он отправился разбираться с человеком в квартире. Следователь прошелся по коридору, осматривая сквозь застекленные двери ровные ряды маленьких кроваток и словно игрушечные столики и стулья. Вышел на улицу. Медленно перебрал в памяти события последних дней, прислушиваясь к интуиции. Интуиция подсказывала ему, что он что-то упустил. Свет в окне квартиры мальчика погас. Через несколько минут подбежал деловой инспектор. Следователь спросил, где вещественное доказательство, которое патологоанатом извлек изо рта мертвой головы женщины? Впервые на его памяти инспектор не сразу нашел слова.
И вот, в четвертом часу ночи, во дворе детского сада, на крыше которого сторож зарезал козу в жертву, следователь, затаив дыхание, слушал, как вещественное доказательство изо рта мертвой головы, оказавшееся личинкой, превратилось в бабочку и улетело на глазах трех мужчин. В какое-то мгновение следователь вдруг почувствовал свою принадлежность к чему-то настолько огромному и непонятному, что его мозг отказывался охватить или проанализировать.
– Вы сами-то слышите, что говорите? – решил хоть как-то ухватиться за реальность следователь. – Это же бред.
– Но я это видел! – упорствовал инспектор. – Правда, в протоколе написано было куколка, понимаете, а не личинка, но личинку бабочки тоже можно назвать куколкой. И сантиметры не совпали, но все так и было! Если вы намереваетесь объявить взыскание за утерю вещественного доказательства, подумайте, как бы это выглядело! – инспектор обвел руками пространство темного двора с песочницами и беседками, и следователь тут же, словно у него в голове включили телевизор, отчетливо и с подробностями увидел зал суда – предварительное слушание. И себя – в костюме и темно-синей рубашке, но почему-то без галстука, предъявляющего суду прозрачный пакет с огромной бабочкой. Он тряхнул головой. Патологоанатом – вот что упущено. Завтра, нет, сегодня, с самого утра – в морг следственного изолятора, поговорить с патологоанатомом.
Неприятней всего я переживал сомнения. То есть – в одиночку. Раньше сомнения разрешались легко и просто – я прашивал Кукольника, он, САмый ТАлантливый НАставник, не задумываясь, отвечал. Он знал ответы на все мои вопросы. Теперь, не обнаружив женщину в том году, в котором ей полагалось быть, я в сомнениях и печали сгрыз ногти до розоватой тонкой кожицы, прикосновение к которой было пронзительно-болезненным. Я сделался сам себе невыносим. И однажды, проснувшись в слезах, вдруг понял, что именно вызвало тогда бешенство Кукольника. Невозможность повлиять. И он нашел эту возможность! Ученик моего сына, самый преданный, самый умный, самый-самый!.. Пошел на поступок, отторгнувший его от всего сущего. Я понял, что чувствовал он, не в силах найти и все исправить. Получается – он меня обыграл Иудой? Что-то очень неправильное есть в нашем с ним мире – что?!
И сразу же – как узнаванием звука или запаха, прикосновением и болью обгрызенных пальцев, я почувствовал раненым крокодилом, волчицей, сожравшей от страха своих крошечных волчат, скорпионом, выставившим хвост в последней надежде воина победить – я понял, что нужно делать.
Стоило в попытке исступленного самоистязания обгрызть ногти, чтобы прикоснуться к себе самому обнаженными нервами и содрогнуться от этого в толчке электрического удара, где главное – картинкой переплетенных воспаленных проводов – возможность входа. Все люди – это попытки жизни. Все куклы – попытки смерти. Но все вместе они – одно и тоже. Они – это я. В случайном подборе хромосом. Каждый живой может стать мною, только не знает этого. Я могу стать любым живым – и знаю это. Вот и все мое вселенское могущество?! Ладно, допустим… Чего я не могу? Я не могу стать куклой. Аспасия однажды показала мне игру. Нужно было надолго задержать дыхание и сильно прижать веки к глазам пальцами, чтобы наступил миг самозабвения.
– Не брезгуй, – погрозила она пальцем, в ответ на мои насмешки, – люди для такого самозабвения нюхают дым тлеющих трав или пьют настои. А ты можешь забыть себя очень простым способом.
– Вообще забыть, кто я есть? – я не поверил.
– Вообще. Если выдержишь.
– Если выдержу… А если я совсем себя забуду, кем я стану?
– Кем захочешь.
– Если я совсем себя забуду, я найду ее?
– Не знаю, – задумалась Аспасия. – Понимаешь, женщину трудно предсказать. Если женщина решила спрятаться…
– А что же случится со всем этим? – я расставил руки в стороны. – Ведь все это существует, пока я помню!
– А ты попробуй, – хитро прищурилась Аспасия, – как ты можешь что-то узнать, не пробуя?
Я тут же застыл в глубоком выдохе, вжимая глазные яблоки сквозь веки пальцами.
– Эй! – Аспасия развела мои руки и подула на глаза, – дурачок…
По ее лицу я понял, что опять сглупил.
– Ладно, ладно. Я поспешил и не спросил, кто же поможет мне вспомнить, если заиграюсь, да?
– Да. Возьми самое любимое с собой.
– Я люблю змею!
– Возьми змею.
– Нет… Я люблю египетскую кошку!
– Возьми кошку.
– Нет. Черепаха. Черепаха! Черепаха! – я запрыгал на одной ноге.
– Возьми всех, если сможешь. Вот сюда возьми, – Аспасия ловит меня и чуть касается кончиками пальцев моего левого соска. – в конце концов, все животные – это же странствующие души людей.
– Так я пошел?
– Иди…
– Ведь люди не узнают, что я среди них?
– Иди.
– Кем угодно, да?..
– Иди!!
В шесть утра следователь приехал в морг специзолятора. Он обошел все открытые помещения, вдохновенным взглядом дилетанта обшарил пробирки и реактивы в лаборатории, надеясь найти останки куколки, из которой вылупилась бабочка. В такой ранний час в морге было пусто и тихо, ночь выдалась спокойной, только к четырем часам привезли две большие мужские ноги и козу с перерезанным горлом. Дежурный врач настороженно следил сквозь стеклянные двери коридора за неспешными перемещениями следователя. Он стоял, закрыв собой дверь в хирургическое отделение. Следователь подошел, кивнул патологоанатому, потыркался влево, потом – вправо. Убедившись, что, действительно, ему не дают войти в помещение, поднял удивленные, красные от недосыпания и запоя глаза, и обнаружил, что врач держит перед собой на весу руки в перчатках, и в правой – игла с зашивочным материалом. Следователя так заворожила эта большая изогнутая игла, что он затаил дыхание, разглядывая ее. Патологоанатом брезгливо отвернул от следователя лицо и предложил пойти в лабораторию. Там есть отменный спирт, он скажет следователю, где именно, и тот может поправить свое самочувствие. А он, врач, пока закончит кое-что. Это недолго. Следователь, возбужденный устрашающего вида иглой, применил силу, чтобы прорваться, наконец, в отделение. Патологоанатом расставил ноги пошире и не двинулся с места, тогда следователь достал из кобуры оружие.
Ворвавшись с пистолетом в хирургическое отделение морга, следователь замер и потерял дыхание: под яркими лампами на столе лежало странное тело. Голова – прекрасной светловолосой женщины, правда, с обкромсанными волосами. Тело – старика, а ноги – мощные и длинные, пришиты были к слабому старому телу с нежными руками и казались нелепыми.
– Это вы сделали? – почему-то шепотом спросил следователь, показав пистолетом на сшитое из частей тело.
– Я! – с чувством исполненного долга заявил патологоанатом, наклонившись к телу и любуясь равномерными стежками по окружности шеи. – Посмотрите только, как все подходит. Как все удачно нашлось!
– Но зачем? – просипел следователь. Обнаружив что размахивает оружием, судорожно затолкал пистолет в кобуру.
– Вы еще не поняли? – удивился патологоанатом. – Все же сходится. Части тела найдены, жертва принесена. До рассвета кровь животного не потеряла цвет, я собрал Властителя! – взгляд врача был весел и безумен. Следователь покрылся потом и ослабел. Он нащупал табуретку сзади себя и осторожно сел.
– Я вам запрещаю, слышите, – слабым голосом заявил он, – не имеете права так обходиться с вещественными доказательствами! Немедленно… распороть!
– Вы мне запрещаете? – врач склонился напряженным лицом. – А вы кто?!
– Я исполнительный следователь, это я приказал доставить сюда расчлененные…
– А я магистр Фрибалиус! – закричал патологоанатом дурным голосом. – Плевал я на следователей! Я подчиняюсь только Кукольнику, я слуга его и исполнитель!
– Минуточку, минуточку, – следователь выставил перед собой руку и отворачивался от брызгавшего слюной врача, – где, вы говорите, у вас спирт? Тут без спирта не разобраться.
К восьми тридцати утра – время появления на работе санитара – патологоанатом и следователь перемещаться могли только держась за стену и вцепившись друг в друга. Устроившись за столом с микроскопом, они решили, что перемещаться им незачем, разве что сходить еще раз взглянуть на Властителя? Санитар приступил к уборке в хирургическом зале, не поднимая простыню на столе и не глянув, что такое она закрывает. Собирая инструменты, он услышал голоса и потихоньку подошел к лаборатории. В щелку приоткрытой двери увидел врача и незнакомого человека перед опустевшим пузырьком. Причем патологоанатом говорил странные вещи, к незнакомцу обращался «господин исполнительный следователь», а этот самый «господин исполнительный…» называл доктора «магистр Фрибалиус», и лица у обоих при этом были напряженно-торжественные.
– Позвольте, поинтересоваться, магистр Фрибалиус, в какой момент вашей профессиональной деятельности вас посетила идея соединить воедино все отдельные части мертвых останков?
– Непосредственно после того, господин исполнительный следователь, как я обнаружил в мешках, доставленных ночью в морг, недостающие ноги и принесенное в жертву животное.
– Однако же вы не можете не понимать, являясь анатомом-практиком, что возможность оживления подобного существа абсурдна и кощунственна по определению!
– Вы, господин исполнительный следователь, исходите из общепринятого отношения к жизни и смерти. Я же, существуя в постоянной близости с тем и другим, давно отвык доверять общепринятым нормам. И потом, мне было видение!
Тут патологоанатом – магистр Фрибалиус, стал с подробностями объяснять, как пропитанная кровью крошечной куколки вата превратилась в личинку насекомого, как сама куколка умерла, насмерть им раненая, как была вскрыта и похоронена, а личинка превратилась в бабочку и улетела в открытое окно, мерцая космической пыльцой на крыльях.
Следователь, тыча указательным пальцем в грудь патологоанатома, вспоминал и никак не мог вспомнить номер статьи, которая полагается за утаивание от следствия вещественных доказательств. Врач, игнорируя бормотание следователя и тычки его пальца, вдохновенно объяснял, что придуманная грань между жизнью и смертью, а вернее – между смертью и жизнью – не что иное, как вынужденная мера, к которой прибегло человечество в попытке объяснить бессмертие. Он уверял замолчавшего в отупении следователя, что человечеству так необходим был ритуал, объясняющий переход от усталого или потерявшегося тела к новому виду существования, что на всей планете, по идее, должен стоять только один памятник. Похоронщику.
– Люди – всегда дети, – назидательно кивал врач, – они любопытны настолько же, насколько глупы. Они все время мучаются вопросом, куда девается то, что умирает в человеке? Облегченное в момент смерти на двадцать один грамм тело тлеет, а душа? То, что составляло его сущность! Ну разве это не смешно? Сначала придумать ритуал, а потом попробовать объяснить его наоборот?!
Следователь пожелал немедленно узнать, кто это такой – Похоронщик, которому полагается единственный и самый главный памятник на всей планете!
К этому моменту санитар настолько устал от напряжения и попытки понять этот разговор, что опустился на пол, скользя спиной по стене, и закрыл глаза.
– Его пока нет, – категорично заявил патологоанатом. – Нет пока еще Похоронщика, то есть как это сказать, он есть, но он не знает что это он, и никто не знает.
– Никто не знает, – послушно кивал следователь.
– Все уже есть, – от невозможности быстро и ясно объяснить, врач начал впадать в исступление – и Похоронщик есть, только он не определился еще. Люди его уже выдумали, но еще не нашли, понимаете!! Это может быть, кто угодно!
– И вы? – изумился следователь.
– Да нет же, я магистр Фрибалиус, вы – следователь, под дверью сидит санитар, пока мы все вместе друг друга определяем, мы – это мы!
– А больше нет спирта? – поинтересовался следователь.
– Не перебивайте. Трудно сказать, что случится, если Похоронщик действительно появится. Эра Похоронщика – это, знаете!…
– Вы похоронили в футляре вещественное доказательство. Вы – Похоронщик! – стукнул по столу ладонью следователь.
– Не все так просто.
Санитар не услышал звуков, только краем глаза почувствовал движение и медленно повернул голову. По коридору кто-то шел, высокий, замотанный в простыню. Со спины не понять – мужчина, женщина? Санитар опустил глаза и увидел крупные голые ступни, медленно и даже как-то невесомо отталкивающиеся от линолеума. Мужчина.
– Эй! – санитар встал.
Мужчина уходил, не оглядываясь.
– Люди глупы, непоследовательны и наивны в своих желаниях, войнах и открытиях, как дети. Что это значит? – спросил врач следователя.
Следователь не знал, пожал плечами, подошел к двери, открыл ее и посмотрел на стоящего за дверью санитара.
– Что бог – тоже ребенок! Они сами определили и себя, и его. Они сами знают, что такое, – патологоанатом обвел рукой лабораторию и мир за окном, – мог сделать только ребенок! Давайте же переделывать мир, давайте взрослеть! Голубчик! – обратился врач к санитару, – посмотрите вы, голубчик, что у меня получилось, чиновник это оценить не в состоянии.
Втроем они пошли в хирургический зал и минут пять с сосредоточенным видом стояли перед пустым столом. Патологоанатом и следователь, покачиваясь, пару раз заглянули под стол. Ничего не понимающий санитар, так и не дождавшись разъяснений, обошел комнату, механически приподнял окровавленную белую простыню на столике для инструментов и закричал, побледнев: на металлической поверхности из бесформенной массы шерсти и угловато изломленных ножек с копытцами, скалилась ужасная мертвая морда молодой козы с намечающимися рожками.