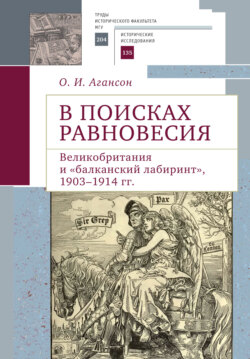Читать книгу В поисках равновесия. Великобритания и «балканский лабиринт», 1903–1914 гг. - О. И. Агансон - Страница 4
Введение
Некоторые методологические ориентиры
ОглавлениеДля того чтобы начать движение по балканскому «лабиринту», нам необходимо нанести на воображаемую карту методологические координаты, что побуждает нас обратиться к некоторым подходам и концепциям из области теории международных отношений.
Анализ балканской политики Великобритании будет разворачиваться на трех уровнях: системы международных отношений, региона и внешней политики отдельного государства. Такой подход позволит нам создать относительно объемное представление о внешнеполитических целях Великобритании как мировой державы, их взаимосвязи с общесистемными процессами, роли Балканского региона в достижении этих целей и корреляции ситуации в Юго-Восточной Европе и международной обстановки.
Согласимся с профессором исторического факультета МГУ А.С. Маныкиным, который полагает, что Венская модель международных отношений, сложившаяся по итогам Наполеоновских войн, в модифицированной форме просуществовала до 1914 г. Ее структурная организация продолжала оставаться многополярной, а вектор развития по-прежнему определялся характером взаимодействия между великими державами. Несмотря на расширение их пула в связи с вхождением в него объединенных Италии и Германии (вместо Пруссии), не произошло радикального переформатирования системы. Кроме того, «правила игры», заложенные на Венском конгрессе 1815 г., продолжали действовать и в начале XX в.: «европейский концерт» и баланс сил оставались базовыми принципами во взаимоотношениях великих держав, стремившихся не допустить масштабного военного конфликта в Европе.
Наличие нескольких центров силы и, как правило, неравномерное распределение мощи между ними обусловливали подвижность многополюсных конструкций. Степень этой волатильности и, соответственно, ее деструктивный потенциал зависели от склонности ключевых игроков к использованию силовых методов для реализации своих программно-целевых установок. На фоне Венской многополярности уникальной выглядела позиция Великобритании, которая, если следовать парадигме структурного реализма, мир-системного анализа и теории «длинных волн», на протяжении XIX века частично исполняла функции лидера системы, внося вклад в организацию мирохозяйственных связей, но, как мы знаем, в начале XX века макроэкономическая ситуация изменилась[14].
Для Великобритании, как уже отмечалось, были благоприятными такая конфигурация многополярной системы и такое соотношение мощи между ее центрами, которые позволяли бы ей достигать внешнеполитических целей, прежде всего обеспечения безопасности империи и морских коммуникаций без чрезмерных затрат экономических и военно-политических ресурсов. В свете этого «лидерство» скорее воспринималось Лондоном как способность влиять на международные процессы в нужном для себя ключе без принятия излишних обязательств и вовлеченности в конфликты. В этом смысле для Англии «лидерство» было в чем-то созвучно равновесию многополярной системы. Перегруппировка сил на международной арене неизбежно нарушала это равновесие и поднимала вопрос об инструментах его восстановления: традиционной политике баланса сил, вкраплениях «концертного» регулирования, попытках сближения с другими великими державами с перспективой коалиционного взаимодействия.
Вообще понятие баланса сил было одной из самых сложных и многослойных категорий международно-дипломатической практики эпохи Венского порядка, породившей жаркие споры среди историков и теоретиков-международников. С некоторыми оговорками можно выделить три подхода к его определению.
Первый подход, условно обозначим его «историко-эмпирический», в принципе не предполагает каких-то жестких, застывших формулировок, ибо баланс сил выступает в качестве активного действующего лица, как, например, это происходит на страницах классического труда британского историка А.Дж. П. Тэйлора «Борьба за господство в Европе»[15]. У Тэйлора, по словам П. Шрёдера, баланс сил наделен чертами субъекта: это что-то реальное, активное, осязаемое и производящее значимые результаты[16]. Базовым посылом Тэйлора является тезис о том, что все великие державы осознавали свою неспособность поглотить другие государства, а их взаимное соперничество гарантировало независимость малых стран, которые сами были не в состоянии ее обеспечить. Таким образом, в представлениях британского специалиста система международных отношений была подобна капитализму свободной конкуренции, а баланс сил – «невидимой руке» рынка А. Смита. Безусловно, это весьма смелое утверждение, но оно подводит нас к другому важному выводу: баланс сил запускал процесс саморегуляции многополярной системы международных отношений, что свидетельствовало о ее адаптивном потенциале, снижавшем риск обрушения всего системного комплекса и начала крупного военного конфликта.
Второй подход отчасти созвучен первому, т. к. тоже покоится на фундаменте «политического реализма». Британский исследователь Р. Литтл именует его «позицией соперничества»[17]. В соответствии с ним, баланс сил порожден чувством уязвимости, которое государства испытывают в анархической международной среде. Это негативное самоощущение и обусловливает их поведение на мировой арене: поиск путей создания противовеса своему реальному или потенциальному противнику (формирование союзов, наращивание вооружений и т. п.)[18]. Эта (нео)реалистская парадигма, казалось бы, объясняет внешнеполитические интенции как великих держав, так и малых балканских стран накануне Первой мировой войны и, таким образом, выявляет истоки континентального конфликта на уровне перераспределения мощи на глобальном и региональном уровне международной системы.
И, наконец, третий подход – это «ассоциативное видение баланса сил», уходящее корнями в «английскую школу» изучения международных отношений. Представители этого направления полагают, что на функционирование международного сообщества, помимо материальных факторов, оказывают влияние и нематериальные факторы, среди которых – признание великими державами своей коллективной ответственности в вопросах обеспечения международного порядка, а это, в свою очередь, накладывает на них обязательства по установлению и поддержанию баланса сил[19].
П. Шрёдер, близкий по своим научным воззрениям к «английской школе», обращаясь к мирополитическим реалиям XIX – начала XX в., указывал на то, что в основе баланса сил лежали институты, нормы и международно-правовые практики. Он выделял три условия, при которых баланс сил успешно работал на разных этапах развития Венской системы: гегемония (размежевание сфер влияния великих держав на региональном уровне), «европейский концерт» (общее понимание великими державами принципов международного взаимодействия) и союзы великих держав как инструмент сдерживания и управления[20]. Примечательно, что в своих более ранних работах Шрёдер противопоставлял понятия баланса сил и европейского равновесия[21]. Исследовав дипломатические документы той эпохи, американский историк пришел к выводу, что руководители европейской дипломатии мыслили, прежде всего, категориями политического равновесия, в понимании которого отразились все грани международной жизни: равное распределение мощи между различными центрами сил, стабильность и мир, борьба за власть и влияние в соответствии с государственными интересами, верховенство закона и гарантия прав. Более того, по мнению Шрёдера, перерождение политического равновесия в баланс сил вело к расшатыванию международной системы и возникновению большой войны. Ведь демонстрируемая великими державами озабоченность проблемой достижения военно-политического превосходства как способа удержания выгодного для себя баланса сил начинала превалировать над институциональными тенденциями к компромиссам и сотрудничеству.
Столь различное видение баланса сил, на первый взгляд, является иллюстрацией того, что английский исследователь Я. Кларк именовал противостоянием «кантианской традиции оптимизма» и «руссоистской традиции отчаяния» в представлениях о факторах трансформации международных отношений[22]. Но думается, эти подходы не столь антагонистичны, а скорее следует говорить об их дихотомии: они фиксируют разнонаправленные тенденции, которые формировали международно-политический ландшафт в начале XX в.
Обозначенные теоретические дискуссии позволяют сформулировать ряд рабочих методологических положений относительно понятий «баланс сил» и «политическое равновесие», которыми мы будем оперировать по ходу исследования. Так, политики и дипломаты рубежа XIX–XX вв. действительно воспринимали международные отношения как саморегулирующуюся систему, дающую пространство для внешнеполитического маневрирования, а значит, обладающую определенным запасом жизнеустойчивости. Баланс сил выступал как механизм этой саморегуляции. Что касается европейского равновесия, то оно являлось некой идеальной моделью, которая опиралась на предшествовавший положительный опыт взаимодействия великих держав и их готовность урегулировать существующие противоречия. Подтверждение тому – в целом «мирный» раздел колониальной периферии европейскими державами, а также довольно успешная практика созыва международных конференций, призванных решать наиболее острые вопросы международной повестки дня: достаточно вспомнить Берлинский конгресс 1878 г., не говоря уже о более ранних примерах – Венском конгрессе 1815 г. и последовавших за ним саммитах. Позже мы увидим стремление великих держав реанимировать этот опыт в контексте балканских перипетий начала XX в.: попытка выработки македонской программы реформ, проведение совещания послов в Лондоне для решения территориально-политических вопросов, поставленных Первой балканской войной. Однако у каждой из великих держав было свое представление о равновесии как наиболее оптимальном состоянии международной среды для реализации своего внешнеполитического курса или же необходимости «адаптации» равновесия для этих целей.
Еще одна важная теоретическая проблема, которая возникает в контексте взаимоотношений великих держав на Балканах, – это региональное измерение функционирования военно-политических союзов.
В связи со столетней годовщиной Первой мировой войны увидел свет ряд статей, в которых американские политологи экстраполировали конфликтное взаимодействие Афин и Спарты в V в. до н. э. на реалии начала XX в.[23] Эти дискуссии и излишняя схематизация событий американскими коллегами (Г. Эллисон, Ч. Мэйер) побудили нас на конкретно-историческом материале поэкспериментировать с концептом «Фукидидовой ловушки», чтобы понять его теоретический и исследовательский потенциал.
Описанный Фукидидом более 2,5 тыс. лет назад алгоритм возникновения большой войны между великими державами не теряет своей актуальности и по сей день. Локальное противостояние Коринфа и Керкиры из-за статуса Эпидамна (каждая из сторон считала его своей колонией) сопровождалось вмешательством двух лидеров эллинского мира – Афин и Спарты. Фукидид, за которым закрепилась слава не только первого профессионального историка, но и предтечи политического реализма, в своем труде по истории Пелопонесской войны обозначил такие базовые категории международных отношений, как соперничество великих держав (полисов) за гегемонию и проблема перераспределения мощи на международной арене, военно-политические союзы и механизмы их функционирования, трансформация регионального конфликта в мировой (в случае с Грецией V в. до н. э. общеэллинский)[24]. Таким образом, вражда между Афинами и Спартой, находившимися во главе соответствующих союзов полисов, кажется универсальной аналитической матрицей, которая может быть применима к разным историческим эпохам.
Военно-политические объединения Древней Эллады классического периода – Пелопоннесский союз и Делосский морской союз, трансформировавшийся к 454 г. до н. э. в Афинскую морскую державу, – скорее служили прообразом НАТО и ОВД (блоков, сложившихся после Второй мировой войны), нежели Тройственного союза и Антанты. Возникшие как ответ на угрозу, исходившую от могущественной Персидской империи, древнегреческие симмахии (союзы) постепенно эволюционировали, превратившись в доминанту межэллинских взаимодействий. Полисы увязывали достижение своих внешнеполитических целей с поддержкой того или иного союза, частью которого они являлись. Спарта и Афины были безусловными гегемонами, «полюсами» силы греческого мира: именно они определяли структуру симмахий и принципы военно-политического и экономического сотрудничества между его членами, что коренным образом отличалось от роли Германии и Великобритании в рамках Драйбунда и Антанты. Две последние группировки держав сформировались в эпоху, не испытавшую общеевропейских потрясений[25], и скорее являли собой новый механизм поддержания баланса сил на континенте вместо отходившего в прошлое «европейского концерта». Австро-германо-итальянский союз и франко-русский альянс носили оборонительный характер и уравновешивали мощь друг друга на европейской политической сцене. В этом контексте принципиальным фактором, от которого зависел баланс сил, была Великобритания, последовательно проводившая политику «блестящей изоляции». Взятый Германией курс на завоевание «своего места под солнцем» при Вильгельме II привел к деформации существовавшей международной системы, которая не могла в себе одновременно совмещать Pax Britannica и Weltmacht Германии. Стремясь вернуться к «эластичному» равновесию XIX в., британские правящие круги сочли целесообразным упорядочить свои противоречия на колониальной периферии с Францией и Россией, заключив с ними соответствующие соглашения в 1904 и 1907 гг., ознаменовавшие окончание многолетней вражды и открывшие эру «Сердечного согласия» (Антанта). Поскольку жизненно важные интересы участников Тройственного союза (Австро-Венгрия) и Антанты (Россия) концентрировались на Балканах, то их межблоковое противостояние проецировалось на этот региональный уровень.
Таким образом, в начале XX в. система международных отношений приняла вид структурированной многополярности: функционирование двух военно-политических блоков не исключало наличия нескольких центров силы на мировой арене. Современники событий, политики, дипломаты, эксперты, мыслившие категориями традиционного баланса сил, не воспринимали появление соперничавших группировок держав как сугубо негативное явление международной жизни. В этом русле известный британский журналист Дж. Гарвин рассматривал становление «Сердечного согласия» как «дипломатическую реконструкцию», в основе которой лежала система гарантий, направленная против слома европейского статус-кво[26]. И все же реальность оказалась более одноцветной и прозаичной, чем теоретические выкладки публицистов. Размежевание великих держав на военно-политические группировки сопровождалось обострением гонки наземных и морских вооружений и ростом численности армий, которые, как справедливо отмечают американский историк Д. Херманн и его английский коллега Д. Стивенсон, оказывали существенное воздействие на дипломатию начала XX в.[27]
* * *
«Лабиринт» как рукотворное явление олицетворял собой мучительные поиски равновесия, к которому так стремились великие державы, а балканский контекст создавал причудливые коридоры, придававшие их движению неожиданные изгибы. Вопрос состоял в том, отвечало ли существование балканского «лабиринта» чьим-то замыслам, как это было в случае с Кносским лабиринтом (удержание чудовища); видели ли ключевые игроки выход из «лабиринта» или же, зайдя в тупик, предпочитали его разрушить?
Поскольку «балканский лабиринт» – это скорее метафора, которая помогает нам визуализировать международные процессы в Юго-Восточной Европе, то для их описания в категориях теории международных отношений мы будем оперировать понятием региональной подсистемы.
Термин «региональная» или «международная подсистема» начал фигурировать в аналитических работах по международным отношениям с конца 1950-х гг., что было связано с развернувшимся после Второй мировой войны масштабным процессом деколонизации, который обозначил перед правящими кругами бывших метрополий несколько важных вопросов. Во-первых, какова будет политическая организация того или иного региона? Ведь получение колониями независимости не означало автоматического разрешения всех жизненно важных проблем: в частности, между новоявленными государствами оставались неурегулированными территориальные противоречия. Во-вторых, перед великими державами вставал вопрос поиска модуса взаимодействия с новыми региональными игроками. В-третьих, в условиях существовавшей биполярности происходило смещение противоречий двух сверхдержав на периферию системы международных отношений, что неизбежно заставляло аналитиков задаваться вопросом о взаимодействии/взаимосвязи глобального и регионального измерений противостояния между СССР и США. В связи с этим специалисты-международники указывали на необходимость выделения нового уровня анализа, помимо существовавших страноведческого и общесистемного. Например, исследователь в области международных отношений П. Бертон предложил использовать так называемый «региональный подход» («submacro approach»), который позволил бы вписать обширный и разнообразный фактический материал по специфике развития государств региона и их взаимоотношениям в канву глобальной политики, избегая при этом чрезмерной концентрации внимания на роли сверхдержав[28]. Для нас, прежде всего, важно то, что данный подход предполагает использование «подсистемы» в качестве аналитической модели, позволяющей рассматривать регион (в нашем случае Балканы) как автономную единицу, которая, будучи частью системы, функционирует по общим с ней законам, но вместе с тем уникальна и наделена присущими только ей параметрами.
В англоязычной литературе существует эквивалент термина «подсистема» («subsystem»), получивший широкое распространение в конце 1950-1960-х гг.: «зависимая» или «подчиненная система» («subordinate system»)[29]. Его употребление обусловливалось стремлением авторов показать, что динамика развития региона определялась магистральным трендом конфликтного взаимодействия сверхдержав[30]. Использование термина «подчиненная система» имеет как свои «плюсы», так и «минусы». С одной стороны, он подчеркивает высокую степень воздействия великих держав на межрегиональные взаимоотношения, с другой – в должной мере не учитывает важности непосредственно региональных процессов.
Плодотворной представляется разработанная Б. Бьюзаном и О. Уэвером концепция «комплекса региональной безопасности». По мнению исследователей, «на региональном уровне государства настолько тесно взаимосвязаны, что их безопасность нельзя рассматривать отдельно друг от друга»[31]. Этот тезис отчасти справедлив и для балканских государств начала XX в. (например, демонстрируемое ими, но далеко не всегда реализуемое на практике стремление к формированию региональных комбинаций или же их восприятие усиления соседа по региону как удара по собственным позициям). Примечательно, что сами Б. Бьюзан и О. Уэвер определяют Балканы первой четверти XX в. как «самостоятельный комплекс региональной безопасности»[32].
Основы Балканской подсистемы были заложены в результате постановлений Берлинского конгресса 1878 г., подведшего черту под Восточным кризисом 1875–1878 гг. Эта подсистема отличалась эклектичностью. Помимо Греции, получившей самостоятельность еще в 1830 г., в регионе появилось три новых независимых государства – Румыния, Сербия, Черногория, а также Болгария, де-юре находившаяся в вассальной зависимости от Турции, но де-факто проводившая внутреннюю и внешнюю политику свободного государства. Кроме того, в Берлинском трактате 1878 г. было зафиксировано присутствие в регионе двух полиэтничных империй – Турции, в состав которой возвращались Македония и Фракия, и Австро-Венгрии, оккупировавшей Боснию и Герцеговину и вводившей свой гарнизон в Нови-Пазарский санджак. Англия в лице Б. Дизраэли и Р. Солсбери, принимавшая непосредственное участие в разработке Берлинского трактата, исходила из того, чтобы свести к минимуму влияние в регионе России, которая оценивалась британским истеблишментом как главный внешнеполитический противник. В расчетах Лондона Османская империя и Дунайская монархия являлись столпами нового регионального порядка, сложившегося на Балканах вследствие решений Берлинского конгресса.
В Берлинском трактате изначально были заложены противоречия, обусловившие быстрое накопление конфликтного потенциала в подсистеме. Незавершенность процесса национального освобождения балканских народов и отсутствие в данном документе четких формулировок относительно обязательств Порты в вопросе проведения реформ в европейских вилайетах являлись источником постоянной политической нестабильности в регионе. Однако до 90-х гг. XIX в. Лондон игнорировал эти факторы. В условиях нарастания англо-германского антагонизма на международной арене и проникновения Германии на Балканы и Ближний Восток представления Уайтхолла о потенциальной угрозе британским позициям в Азии изменились. Кайзер Вильгельм II и германские финансовые круги, по мнению отечественного исследователя Б.М. Туполева, воспринимали установление тесной связи Германии и Австро-Венгрии с Турцией как возможность «испортить жизнь англичанам в Индии». Соответственно, достижение гегемонии на Балканах являлось необходимой предпосылкой для «обеспечения и расширения германской сферы эксплуатации в азиатских владениях Турции»[33]. В новых реалиях Англии пришлось не просто пересмотреть свою политику в отношении Балкан, но и «всмотреться» в то, что происходило непосредственно в регионе (т. е. на уровне подсистемы).
Каковы же были основные черты Балканской подсистемы международных отношении!
Во-первых, элементы Балканской подсистемы осознавали свою принадлежность к региону, а также связывавшее их историческое прошлое. На протяжении 500 лет территории Балканского полуострова находились под властью Османской империи, что, разумеется, наложило общий отпечаток на формирование местных обществ. Кроме того, перипетии исторического развития региона породили целый комплекс трудно разрешимых проблем, наиболее вопиющей из которых являлся македонский вопрос. Турция, продолжавшая ощущать себя великой исламской империей, не собиралась отказываться от своих европейских владений. Между тем недавно получившие независимость балканские государства мечтали воссоздать свои средневековые державы, аннексировав македонские территории. Как отмечал известный ученый, специалист по Ближнему Востоку того времени У. Миллер, историческая память нигде не была так чутка и долговечна, как на Балканах[34].
Во-вторых, правомерно говорить о существовании подсистемы в том случае, когда регион рассматривается другими (внешними) игроками как отдельный сегмент глобальной системы[35]. Тот факт, что в 1878 г. на Берлинском конгрессе великие державы разработали документ, заложивший основы регионального порядка, свидетельствует о признании с их стороны Балкан как части системы международных отношений.
В-третьих, Балканская подсистема была полифонична. Этот термин мы позаимствовали из работы известного литературоведа М.М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского», для того чтобы показать множественность позиций всех игроков, взаимодействовавших в рамках балканского политического пространства, их субъектность, вне зависимости от того, являлись ли они великими державами или малыми странами[36]. Это многоголосье рождало поток внешнеполитических устремлений, создававших «балканский лабиринт».
В начале XX в. развитие Балканской подсистемы вступило в кризисную фазу, что обусловливалось переходом системоразрушающих факторов (национализма и экспансионизма) из латентного состояния в активное. Это предопределило выбор региональных игроков в пользу силового способа осуществления их национальных программ как единственно возможного[37].
В качестве основных параметров кризиса Балканской подсистемы выделим следующие аспекты:
1. Внутренний кризис Османской империи, вызванный ее прогрессирующим ослаблением и активизацией национально-освободительных движений в европейских провинциях султана. Турция была ключевым региональным игроком, а потому дезинтеграционные процессы на ее балканских территориях отразились на функционировании всей подсистемы.
2. Непримиримое соперничество балканских государств за европейское «наследство» султана на фоне обострения этноконфессиональных конфликтов в Македонии и Фракии.
3. Австро-сербский конфликт, выступивший на авансцену после прихода к власти в Сербии династии Карагеоргиевичей и чреватый перспективой упадка влияния Дунайской монархии на Балканах (что отразилось бы и на ее статусе великой державы).
4. Следует особо выделить внешний параметр кризиса Балканской подсистемы: столкновение в регионе интересов великих держав.
Безусловно, скептики могут возразить: любая теория упрощает историческую реальность, особенно на Балканах, где, подобно одноименному фильму Э. Кустурицы, «жизнь как чудо». Но методологические выкладки, словно маленькие фонарики, помогут нам не затеряться в этом вихре фактов и событий, подсвечивая наш исследовательский маршрут: подсистема как «лабиринт», то есть та самая ловушка, в которую попалась европейская дипломатия, пытаясь балансировать.
14
Modelski G. Long Cycles in World Politics. London, 1987. P. 30–31.
15
Taylor A.J.P. The Struggle for Mastery in Europe. Oxford, 1954 (русский перевод: Тэйлор А.Дж. П. Борьба за господство в Европе. М., 1958).
16
Schroeder P.W. A.J.P. Taylor’s International System // The International History Review. 2001. Vol. 23. № 1 (March). P. 6.
17
Little R. The Balance of Power in International Relations: Metaphors, Myths, and Models. New York, 2007. P. 11.
18
См., например: Herz J. Political Realism and Political Idealism: A Study in Theories and Realities. Chicago, IL, 1959; Booth K., Wheeler N. The Security Dilemma: Fear, Cooperation and Trust in World Politics. Houndmills, 2007.
19
Little R. Op. cit. Р. 12.
20
Schroeder P.W. Op. cit. P. 18–22.
21
Schroeder P. W. Systems, Stability, and Statecraft. Essays on the International History of Modern Europe / Ed. by D. Wetzel, R. Jervis, and J. Snyder. New York, 2004. P. 223–227. (Цитируемая статья «The Nineteenth Century System: Balance of Power or Political Equilibrium?» была впервые опубликована П. Шрёдером в журнале «Review of International Studies» в 1989 г.)
22
Clark I. The Hierarchy of States. Reform and Resistance in the International Order. Cambridge, 1991. P. 49–90.
23
Allison G. The Thucydides Trap // The Next Great War? The Roots of World War I and the Risk of U.S.-China Conflict / Ed. by R.N. Rosecrance and S.E. Miller. Cambridge, MA, 2015; Maier Ch. Thucydides, Alliance Politics, and Great Power Conflict // Ibid.
24
Фукидид. История/Отв. ред. Я.М. Боровский. Л., 1981. С. 14. На взгляд Фукидида, глубинной причиной начала Пелопонесской войны была борьба Спарты и Афин за лидерство в Элладе: «Истинным поводом к войне (хотя и самым скрытым), по моему убеждению, был страх лакедемонян перед растущим могуществом Афин, что и вынудило их воевать».
25
Крымскую войну (1853–1856) и серию войн, сопутствовавших объединению Италии и Германии, в том числе франко-прусскую войну (1870–1871), следует классифицировать как конфликты регионального масштаба.
26
Calchas (Garvin J.). The Triple Entente // The Fortnightly Review. 1908. Vol. 84. P. 16.
27
Hermann D.G. The Arming of Europe and the Making of the First World War. Princeton, 1997. P. 3; Stevenson D. Militarization and Diplomacy in Europe before 1914 // International Security. 1997. Vol. 22. N 1. P. 158.
28
Berton Р. International Subsystems – A Submacro approach to International Studies // International Studies Quarterly. 1969. Vol. 13. № 4 (Special Issues on International Subsystems). P. 329–330.
29
См., например: Binder L. The Middle East as a Subordinate International System // World Politics. 1958. Vol. 10. № 3; Cantori L., Spiegel S. International Regions: A Comparative Approach to Five Subordinate Systems // International Studies Quarterly. 1969. Vol. 13. № 4; Zartman W. Africa as a Subordinate State System in International Relations // International Organization. 1967. Vol. 21. № 3; Brecher M. International Relations and Asian Studies: The Subordinate State System of Southern Asia // World Politics. 1963. Vol. 15. № 2.
30
Binder L. Op. cit. P. 411.
31
Buzan B., Wcever O. Regions and Powers: The Structure of International Security. Cambridge. 2003. P. 43–44.
32
Ibid. P. 381, 392. Бьюзан и Уэвер также используют термин «Балканская подсистема».
33
Туполев Б.М. Дранг нах Зюд-Остен // В «пороховом погребе Европы». 1878–1914. М., 2003. С. 87.
34
Miller W. The Macedonian Claimants // Contemporary Review. Vol. 83. April 1903. P. 471.
35
Brecher M. Op. cit. P. 220.
36
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. M., 2017. С. 27–28.
37
Маныкин А.С. Указ соч. // Основы общей теории… С. 59–60, 65.