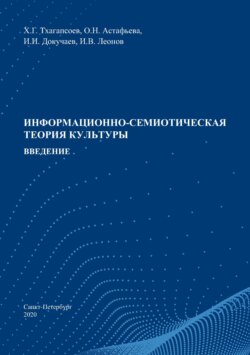Читать книгу Информационно-семиотическая теория культуры. Введение - О. П. Астафьева, О. Н. Астафьева - Страница 5
Глава 1
Концептуально-методологические подходы и проблемы интерпретации культуры в системе социально-гуманитарного знания
1.2. Деятельностная теория культуры: смыслы, прочтения, операциональность
ОглавлениеОчевидно, что на любом этапе истории цели и методы познавательной деятельности человека определяются достигнутым к этому времени общим уровнем развития знания и процессов познания. Так, судя по фактам и оценкам египтологии, феномен (формы проявления) статического электричества был известен еще в Древнем Египте, а слабые электрические заряды в Античной Греции получали без труда, натирая янтарную палочку шелковым платком. В итоге греки подарили человечеству милый термин физики «электрон». Но сущность электричества открылась науке лишь в начале ХХ века.
А в целом же, процессы познания и история науки развивались так, что такие аспекты бытия, как вещество и энергия (движение), их свойства, формы существования и закономерности, их роль и место в жизнедеятельности человека и в процессах цивилизационного развития стали известны задолго до открытия информации. И опять же именно в двадцатом веке пришло осознание того, что не только вещество, но и информация является атрибутивной стороной бытия, в том числе – социокультурного бытия. В итоге в науке сложилась такая ситуация, когда знания о веществе и энергии, об их роли в социокультурогенезе вошли в научно-познавательный оборот давно и стали базовой частью аналитической аргументации социально-гуманитарных наук, чего нельзя сказать в отношении информации.
В этом плане особенно характерна материалистическая теория истории и общества. В ее логике за историей и цивилизацией (значит – за культурой), их непростыми перипетиями стоят лишь материально-вещественные процессы – экономические, производственные отношения; что касается культуры, ее форм и механизмов, в марксизме они рассматривались как второстепенные, «надстроечные».
Вот здесь мы подошли к одному из ключевых вопросов нашего дискурса. Любой, кто хоть в какой-то мере знаком с социальной философией, знает, что деятельность – это способ бытия, способ существования, экзистенции человека. Уже в силу этих обстоятельств деятельность неразрывно связана с культурой и должна найти место в теории культуры. К тому же, в истории науки и в развитии ее теорий существует прецедент, который делает привлекательным деятельностный подход в изучении всех аспектов бытия человека.
Дело в том, что этот подход в свое время оказался продуктивным в психологии и педагогике, что особенно успешно проявилось в трудах и идеях А.Н. Леонтьева [1] и Л.С. Выготского [2] (хотя из этого, конечно же, автоматически не следует универсальность деятельностного подхода в прочих сферах социально-гуманитарной науки, социальной практики).
Здесь уместно вновь обратиться к философии. Как известно, в философии все категории (сущность, субстанция, время, пространство, форма, содержание, система, структура, человек, культура, деятельность и т. д.) связаны между собой в единую и целостную категориальную сеть определенным образом – в неких субординационных и координационных отношениях. Например, если речь идет о материи, то способом ее бытия является движение, а в роли форм бытия материи выступают время и пространство (а точнее – бесконечное многообразие пространственно-временных форм, структур, процессов).
В этом контексте уместно задаться вопросом: в каких же отношениях находятся человек, деятельность и культура с позиции философии, в логике философии? Это и есть ключевой вопрос в адрес любой теории культуры, как деятельностной, так и информационно-семиотической.
Начнем с деятельностной концепции культуры и нюансов ее методологии. В частности, если следовать принципам и логике философии, деятельностный подход изначально предполагает придание деятельности особого онтологического статуса, а именно – понимания деятельности как некоего вида действительности (реальности), воздействующего не только на внешний предметный мир (на объекты и предметы реальной действительности), но и на субъект деятельности, на самого человека – через процессы опредмечивания и распредмечивания [3]. Однако здесь следует учитывать, что деятельность не предопределяется (не задается) биологическими или социальными инвариантными программами: она спонтанна, вариативна, ситуативна, изменчива и задается свободным целеполаганием человека, текущими внешними обстоятельствами и «поправками» самого субъекта деятельности (скажем, его намерениями учесть свои прошлые и текущие ошибки и добиться лучших результатов). Таким образом, деятельность не ограничивается преобразованием «объектного» мира (созданием артефактов), поскольку под ее влиянием и в ее процессах непрерывно меняется сам человек, характер его действий. С учетом указанных обстоятельств в философии деятельность рассматривается исключительно как способ бытия человека, поскольку в ее (деятельности) рамках, в ее логике и процессах человек непрерывно преобразовывает как реальную действительность, так и самого себя, создавая, воспроизводя и развивая собственное бытие и собственные потенции.
Отметим еще один методологический нюанс деятельностного подхода, который нередко игнорируется. Дело в том, что в логике философии деятельностный подход предполагает не апеллирование к каким-то частным видам и формам деятельности, а учет всех видов деятельности, образующих в совокупности способ бытия человека (в числе коих труд, игра, общение, познание, интерсубъективность, интеракция, самоорганизация, управление), а также детальный анализ особенностей деятельности и характера ее соотнесенности со всем спектром механизмов социокультурного бытия. А это, в свою очередь, требует анализа деятельности, по меньшей мере, в следующих трех ключевых планах:
– историко-генетическом – в нем исходной формой деятельности является совместная деятельность людей, в ходе которой происходит освоение и преобразование «внешней действительности» (объективного предметно-процессного мира), включая также означивание (символизацию), структурирование и осмысление внешней действительности (когницию) и ее перевод «во внутренний мир» (в картину мира, мировоззрение, знание, в культурные универсалии и в процесс познания) человека;
– структурно-функциональном, в основе коего лежит анализ структуры деятельности, а также ее разложение на «составные единицы» (включая и процесс вовлечения человека в деятельность, а также процессы целеполагания, проектирования программ и средств действий, анализа результатов деятельности и их соотнесения с первоначальной целью), регуляцию и корректирование деятельности;
– динамическом, предполагающем рассмотрение деятельности в ее самодвижении и развитии, в актах «опредмечивания и распредмечивания» [4].
Если учесть суть взаимоотношений этих актов, открываются нюансы, которые, как правило, не учитываются в культурологических дискурсах.
Например, перечисленные выше акты деятельности связаны между собой неразрывно, при этом опредмечивание означает перевод (преобразование) знания в технологии и процессы деятельности, в материально-вещные предметы (товары, артефакты); распредмечивание же, напротив, означает процесс перевода свойств вещи (вещей) и предметного мира в формы знания, в смыслы, идеи, символы, фетиши.
Таким образом, культура соотнесена с деятельностью как способом бытия человека (способом его существования, экзистенции) вовсе не напрямую, а опосредованно – через процессы «опредмечивания-распредмечивания», т. е. через процессы перевода материально-вещного мира в знаково-символический мир (иначе говоря – в формы информации) и наоборот – через процессы декодирования информации. Так что культура и деятельность связаны именно посредством информационных процессов, через информационные процессы. Следовательно, именно сочетание, синтез, взаимное дополнение деятельностного и информационно-семиотического подходов способно (может) наиболее адекватным образом раскрыть сущность культуры и нюансы органичной связи деятельности, культуры и бытия человека.
Вероятно, здесь уместно обратить внимание еще на одно обстоятельство. Весьма популярная в культурологической среде идея Бурдье о «габитусе» является своеобразным вариантом деятельностного подхода к интерпретации бытия человека. Ведь габитус понимается Бурдье как набор схем и моделей действий по воспроизводству социально-культурного бытия человека, якобы существующий объективно (помимо воли отдельного индивида), как особая реальность, в которой пребывает человек и которая предопределяет поведение и действия человека, довлея над ним [5]. Но поскольку Бурдье включает в пространство габитуса не только схемы деятельности, но также и регулятивно нормы, идея габитуса как нельзя лучше выражает единство информационного и деятельностного аспектов в бытии человека, манифестируя деятельность именно как способ его бытия.
Вернемся к деятельностной концепции культуры. Будучи развернута корректно и с позиции философии она показывает, что деятельность является способом бытия человека. Но, оказывается (и это видно из приведенного выше анализа), сама деятельность возможна только в сопряжении с процессами «опредмечивания – распредмечивания», т. е. с информационными процессами знаково-символического отражения реальности, кодирования и декодирования информации, составляющими ключевой аспект культуры.
Здесь впору обратиться к В.С. Степину, который трактует культуру как систему исторически развивающихся над-биологических программ жизнедеятельности (общения, поведения, преобразовательной деятельности человека), обеспечивающих воспроизводство и непрерывное изменение социального бытия во всех его аспектах [6]. Академик В.С. Степин, как видим, понимает культуру не иначе как систему программ, т. е. как информационную сущность и информационную систему, которая накапливается, структурируется, развивается, обслуживает процессы социокультурного бытия, сопровождает формы жизнедеятельности человека, их воспроизводство, развитие.
Если учитывать эти обстоятельства, деятельностная теория культуры вовсе не противоречит информационно-семиотической теории и не является ее альтернативой (как принято полагать). Напротив, деятельностная теория предстает как аспект и дополнение информационно-семиотической теории культуры, поскольку информационные процессы в социуме бытуют не сами по себе, они создаются, выстраиваются, направляются, корректируются лишь только в процессах интеракции, деятельности и коммуникации.
Справедливости ради заметим, что в ряде работ давно подчеркивается неразрывный и взаимодополняющий характер информации и деятельности в бытии человека [7]. Ставится также вопрос о необходимости сочетать и синтезировать существующие концепции культуры, излишне преувеличивающие значимость отдельных факторов бытия человека: деятельности, ценностного мира, поскольку культура реально соотнесена со всеми аспектами бытия человека, социума [8].
Итак, точно так же, как бесконечное многообразие структурных и процессных форм бытия выразимы лишь посредством (на основе) многообразия пространственно-временных форм, неисчерпаемое многообразие граней, аспектов и измерений бытия человека выразимы и воспроизводимы лишь посредством культуры и бесконечного многообразия ее форм, смыслов, механизмов. Культура охватывает, пронизывает и интегрирует все грани бытия человека именно в силу ее особой природы и сущности, информационной сущности, что, в свою очередь, уходит в глубины истории человека, социогенеза и культурогенеза, цивилизационного развития на протяжении длительного времени.
Здесь впору вернуться к деятельностно-семиотической концепции культуры, выдвигаемой А.С. Запесоцким. Речь идет о том, меняет ли эта концепция роль и место деятельностного подхода в теории культуры.
Все зависит от того, как понимать сущность семиотики. Дело в том, что существуют два крайних (принципиально различающихся) варианта понимания семиотики: первый – как формальное учение о знаках (что восходит к идеям Локка и Пирса), второй – как учение о способах передачи информации (как это следует из современной науки: лингвистики, теории информации, когнитивистики, теории сознания). Если же семиотику понимать лишь как учение о знаках, то «деятельностно-семиотическая» теория культуры А.С. Запесоцкого предстает как некая версия давно существующей деятельностной теории культуры. А если семиотику понимать как учение о способах и механизмах передачи информации, то культура в концепции А.С. Запесоцкого предстает как нечто такое, что в равной мере сопряжено как с преобразовательной деятельностью человека, так и с его умением творить информацию, создавать информационные системы и использовать их в своей жизни.
И в заключение зафиксируем, что в реальной действительности бытие человека и процесс развития культуры раскрываются и проявляются в огромном многообразии видов, форм и механизмов деятельности, сосредоточенных на основных центрах фокусировки человеческой активности, а именно – на коммуникации, интеракции, питании, различении полов, пространственно-временных отношениях, использовании материалов и орудий, на игре и познании, что неразрывно связано с творением знаков и символов (т. е. с творением и оперированием информацией). Именно на этой сложной и комплексной основе формируются культурный опыт человека (и социума), структурно-функциональная специфика культуры, мир ее смыслов и ценностных ориентиров. В этом смысле (контексте) социально-культурное бытие человека адекватно может быть отражено и интерпретировано лишь на основе взаимодополняющего сочетания деятельностного подхода и информационно-семиотической теории культуры.
Здесь уместно вновь вернуться к деятельности и ее роли в бытии человека. Да, будучи также частью природного мира, человек в какой-то степени продолжает опираться на «присваивающий способ бытия», берет многое у природы в готовом виде (воздух, воду, дары флоры и фауны, природные ископаемые и т. д.). Однако «присваивая плоды природы», человек опирается на сложнейшие формы и виды деятельности, технику, технологии, вновь и вновь демонстрируя абсолютную и тотальную завязанность своего бытия на деятельность, а по сути манифестируя деятельность в роли универсального способа бытия человека. Столь же тотально бытие человека завязано на культуру, в очередной раз возвращая нас к вопросу о сущности и характере отношения деятельности и культуры. Сущность этих отношений кроется в бытии человека, а точнее – в его особенностях. В этом контексте напомним, что наиболее объемлющее описание любой сущности дается на основе онтологических категорий «содержание» и «форма». Очевидно, что содержание бытия человека многообразно – от биологического и социального самовоспроизводства, от познания и преобразования реальной действительности до наделения смыслами всего сущего посредством создания знаково-символических (информационных) систем, способных выразить как всю необъятную сложность бытия, так и тончайшие грани переживания человеком мира, «себя в мире», «себя и Другого». А формой бытия человека, охватывающей и организующей в целостность и единство многообразие векторов субъектности, конечно же, является культура.
Между тем, в культурологических дискурсах в ходу неудачно выхваченная из трудов Э.С. Маркаряна формула «культура – способ деятельности», что, увы, низводит великую сущность по имени «культура» до неких приемов, процедур, рецептур, техники и тактики действий, каковыми и являются любые способы деятельности (да искажает и суть самой деятельности). Но, судя по всему, сам Э.С. Маркарян видел за культурой нечто иное и куда более многосложное, а именно «специфическую функцию в коллективной жизни людей», «способ самоорганизации социума», что явно прочитывается в его дискурсах [9].
Примечания
1. Леонтьев А.А., Леонтьев Д.А., Соколова Е.Е. Алексей Николаевич Леонтьев: деятельность, сознание, личность. – М.: Смысл, 2005. – 431 с. 2. Выготский Л.С. Психология развития человека. – М.: Смысл, 2005. – 1136 с.
3. Огурцов А.П., Юдин Э.Г. Деятельность // Новая философская энциклопедия. Т. 1. – М.: Мысль, 2001. С. 633–634.
4. Морозов Ф.М. Деятельности теория // Энциклопедия эпистемологии и философии науки. – М.: Канон+, 2009. С. 174–176.
5. Бурдье П. Структура, габитус, практика // Журнал социологии и социальной антропологии. – 1998. – Т. 1. № 2. – С. 44–59.
6. Запесоцкий А.С. Теория культуры академика В.С. Степина. – СПб.: СПбГУП, 2010. – 112 с.
7. Тхагапсоев Х.Г. К проблемам и перспективам развития российской культурологии // Вопросы культурологии. – 2012. – № 8. – С. 6–12.
8. Сагатовский В.Н. Взаимодополнительность основных подходов к пониманию культуры: попытка синтеза // Фундаментальные проблемы культурологии. Т. 1. – СПб.: Алетейя, 2008. – С. 151–162. 9. Маркарян Э.С. Избранное. Наука о культуре и императивы эпохи / Отв. ред. А.В. Бондарев. – М.—СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2014. – 656 с.