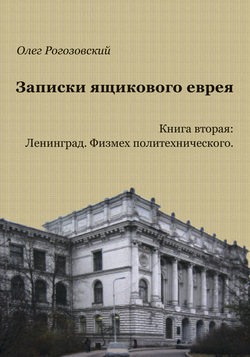Читать книгу Записки ящикового еврея. Книга вторая: Ленинград. Физмех политехнического - Олег Рогозовский - Страница 20
Ленинград, Петербург
ОглавлениеВ 1958 году в Ленинграде еще оставались видимые следы блокады, не все развалины были разобраны. Явственно ощущалось деление на тех, кто блокаду пережил и остальных. Блокаду старались замалчивать, но забыть ее ленинградцы не могут до сих пор. Не только блокадники, но и их знакомые старались об этом времени не вспоминать и не говорить. Первые книги о ней появились намного позже.
На книжных «развалах» ленинградцы еще распродавали книги, оставшиеся от соседей – на развалах возле Думы или на Сенном рынке можно было приобрести довольно редкие книги (не с нашей удаленностью от центра и общежитским бытом, где взять книгу – часто без спроса – и зачитать ее было обычным делом).
Понемногу начал восстанавливаться и старый шик – уютное кафе «Норд» со свечами на столиках, вкуснейшими птифурами из собственной кондитерской, кофе по-венски, кофе по-восточному в джезвах и другими невиданными в Киеве того времени привычками.
Про икру в громадных хрустальных конусах в Елисеевском я уже рассказывал в книге первой.
Ленинградские музеи, театры, концерты, филармония, библиотеки, пригородные парки – «Пирдуха», как говорили залетные украинцы.
Отдельные физмехи-ленинградцы бравировали тем, что ни разу не были в Эрмитаже – зачем? Говорили, что еще успеют, а сейчас есть дела поинтереснее.
У меня с Эрмитажем сложились сложные отношения. Привыкнув к неплохим, но небольшим киевским музеям, в Эрмитаже я утонул. Он необозрим и «переварить» его в несколько посещений практически невозможно. Он производил впечатление как «три пирожных сразу». Принимать его нужно было с детства и по чайной ложке. У меня для методического его освоения не хватало времени. И я стал откладывать его дальнейшие посещения вплоть до выставок.
В отличие от Эрмитажа, Русский музей можно было «понять» и принять сразу[55]. В мое время там, кроме прекрасной постоянной экспозиции, стали появляться закрытые раньше в запасниках картины не только мир-искусников, но и авангарда.
Более того, Русскому музею не пришлось расставаться со своими лучшими картинами, как Эрмитажу, на основе картин которого был создан один из лучших музеев мира – Национальная галерея в Вашингтоне.
Музеев и картин в частных дворцах Ленинграда-Петербурга при нас уже не существовало[56].
Очень важным было непосредственное общение с ленинградцами. Хотя многие из моих ленинградских сокурсников были интеллигентами во втором поколении, но микроб питерской культуры и менталитета в них уже сидел.
По аналогии с английским джентльменом, которым можно стать, только если у тебя отец и дед тоже джентльмены, у интеллигенции, чтобы отграничить себя от «образованцев», тоже бытовало понятие поколений. Чтобы состоять в интеллигентах, нужно было окончить три университета, но первый должен был закончить дедушка, а второй отец. Деды у моего поколения заканчивали обучение до революции; у сокурсников дедов с высшим образование было очень мало[57].
Ленинградская культура проявлялась многогранно. История, приключившаяся со мной лично, повторялась, видимо, многократно и стала потом анекдотом. В туалете на углу Невского и Марата было чисто – там часто убирали. Пару раз встречалась там высокая старуха-уборщица с прямой спиной. Как-то я очутился на окраине (в районе порта) и встретил там примечательную уборщицу. «Вы же вроде на Невском работали» – удивился я. «Интгиги, батюшка, интгиги…» философски заметила, грассируя, старая дама – старухой как-то ее, даже мысленно, называть было неудобно.
Надо ли говорить, что теперь в этом туалете было чисто, а на Невском – как везде. Туалеты тогда были бесплатные и остались они от старого времени, уборщицам платили мизерную зарплату. Там работали (делали вид что работают) в основном «деклассированные элементы».
Только в Ленинграде могла произойти история, рассказанная Граниным в книге «Причуды моей памяти». К сожалению, не только его память с причудами – имена героев расшифровке не поддаются. Привожу этот этюд полностью.
«Во время некоего «культурологического» семинара одна дама докучала Л. Н. глупыми вопросами. Не вытерпев, он ответил ей остроумно и едко. Она озлилась и в перерыве, в буфете, при всех сказала о нем: «жидовская морда». Тогда архитектор Васильковский подошел к ней и спросил: «Скажите, пожалуйста, кого я должен ударить по физиономии?» Она вытаращила глаза.
– Видите ли, – пояснил он, – бить женщин правила дуэли не позволяют. Когда женщина оскорбляет, пощечину надо нанести мужчине, который отвечает за нее, – мужу, отцу, брату. Кто за вас отвечает?
– Вам какое дело! – закричала она.
– Товарищи, может, кто сам признается? – воззвал Васильковский. Услыхав это, муж дамы убежал, хотя Владимир Сергеевич Васильковский был маленький, хрупкий человек. Все молчали. Тогда Васильковский сказал:
– Согласно дуэльному кодексу, автор Дурасов, если никто не признается, то считается, что женщина, за которую никто не хочет нести ответственность, не принадлежит к порядочному обществу.
Сказал он ей прямо в лицо».
Конечно, такие случаи были из ряда вон выходящими, поэтому и запоминались. Где-нибудь в другом городе этот этюд трудно себе представить.
Дружеские отношения у нас сразу же возникли с Димой Емцовым – мы оказались в одной паре в лабораторных работах по физике. Удачно дополняя друг друга, мы не испытывали трудностей ни при их выполнении, ни в оформлении результатов (этому преподавателями уделялось особое внимание). Спустя много лет я очень удивился, когда узнал, что Ландау собирались отчислить из ЛГУ за неспособность пройти третий физический практикум [Гороб. 06].
Как раз Дима оказался единственным интеллигентом третьего поколения в нашей группе – его дед Н.Н. Емцов (из дворян) был профессором Политехника, а бабушка известной пианисткой Софьей (Сарой) Полоцкой, учившейся в Петербургской, Варшавской и Берлинской консерваториях.
Дима Емцов стал моим близким товарищем и другом. При первом знакомстве он производил впечатление наивного и не очень знающего жизнь человека.
Но это только казалось в силу его мягкого характера и этичности (в этот раз без кавычек, хотя по Юнгу он «этик»). Казалось, что он поступил прямо из школы, но Дима был «производственником». Поступая сразу после школы на физмех, он недобрал одного балла. С этими оценками его принимали на мехмаш и даже очень хотели, чтобы он учился там – еще помнили его замечательного деда – профессора, основателя кафедры подъемных машин. Но Дима отказался и, чтобы застраховать себя и не сидеть у мамы на шее, он до поступления на физмех два года работал радиомонтером. Армия ему не грозила – он был освобожден по зрению. Баллы, которые он набрал, были достаточны для поступления и без производственного стажа. О наших совместных занятиях и экспедиции на Кольский еще расскажу. Отец Димы, доцент одного из вузов, хотя и жил за стенкой в бывшей профессорской, а потом коммунальной квартире, в его воспитании участия не принимал – он вернулся с войны с другой женой, а Дима жил с бабушкой и мамой в полутора комнатах рядом. Когда Дима стал взрослеть, бабушка избавилась от рисунков Репина, оставшихся от деда – они могли «испортить» ребенка. Но Дима их запомнил. Он довольно образно описал их содержание, и мы поняли, что Репин, как и многие выдающиеся художники, был не чужд порнографии.
Считаю, что интеллигентность и образование слабо коррелированны. Если бы Дима не окончил Политехник, он все равно бы оставался интеллигентом.
55
Сестра Таня, уже сама ставшая музейным работником, долгие годы дружит с эрмитажными «девочками», знает и любит Эрмитаж, но по секрету признавалась мне, что Русский ей нравится больше.
56
Они были разграблены и заселены большевистскими учреждениями. Хорошо, что большинство картин попало в Эрмитаж и Русский; плохо, что до сих пор их туда не возвращают, хотя многие дворцы уже отреставрированы и даже являются частями этих музеев.
57
Для бабушек считалось достаточным окончить классическую гимназию – она была по уровню общегуманитарного образования выше, чем советский ВУЗ. Поколение наших отцов и матерей было названо Солженицыным образованцами, и те, у кого не было семьи с традициями, должны были самообразовываться, чтобы избавиться от этого обидного, но во многом верного названия.